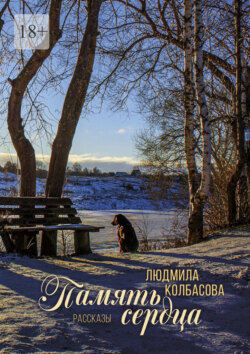Читать книгу Память сердца - Людмила Колбасова - Страница 5
Дунька-дурочка
Оглавление– Не умирай, дед, – по-щенячьи скулила Дуняша, – не умирай…
– Не бойся, не помру, воды принеси, да холодней, горит всё внутри.
– Сейчас, сейчас, – вскочила и резво застучала толстой деревянной подошвой башмачка, глубоко приседая на изуродованную ногу.
– Только студёной налей, сил больше придаст, – прохрипел вослед внучке дед и тяжко вздохнул, – нельзя мне помирать – на кого же я тебя, дурочку, оставлю.
– А вовсе и не дурочка я, – обиделась Дуняша, протягивая полный ковш воды.
Дед отвёл рукой: «Святой водицы добавь. Огнём в груди всё пылает, помру, видать, скоро».
Дуняша, мелкая да ловкая, что подросток, быстро юркнула в тёмную комнатку за образа и аккуратно достала бутылочку крещенской воды. Чуть капнула в ковш, и помолившись про себя, перекрестила.
– Не помирай, деда, – заплакала вновь Дуня, прикрывая небольшой иконостас вышитыми картинами. Времена неспокойные, вера в Бога не одобрялась, вот и прятали иконы, кто как мог.
– Не помру, дурочка, отлежусь малёк и встану.
– Да не дурочка я, – рассердилась, – в работе равных мне нет, сам говоришь. Зачем за всеми глупости повторяешь?
– Твоя правда. Только вот замуж-то за это не берут. Была б нога нормальная, да глаз глядел прямо, может и нашёлся бы тебе какой-никакой мужичок, а так, – махнул рукой, – не думал я, что так рано род мой закончится, даже в страшном сне представить этого не мог…
Откинулся, усталый, на подушку, и подумал: «А Дунька – может и не дурочка, но всё равно странная – разве будет нормальный человек всё время улыбаться?»
Старик – красивый, породистый, могучий, словно дуб вековой. Борода окладистая серебристая, густая шапка волос, также подёрнутых инеем седины. Дуняша взяла в руки пяльцы, думая, что дед уснул. А он – может, и спал, а может, и бредил, вспоминая жизнь свою, что мелькала фрагментами в воспалённых болезнью мозгах и душе. Да волновалось сердце, плача от горьких невозвратимых потерь.
Род Игната Савельева знатным был, крепким. Честь пуще жизни берегли. Без устали работать умели, водкой, табаком не баловались, на чужих жён не засматривались, но своих выбирали долго и придирчиво. Каждая была рада попасть в эту семью, ведь мужчины в ней надёжны, красивы и сильны, что богатыри былинные, и из поколения в поколение укреплялся, расцветая, именитый на всю округу род, здоровым потомством. «Ну да всё имеет своё начало и конец», – подвёл итоги дед и, выздоравливая, крепко заснул.
К началу войны у Игната было два сына: Павел и Пётр, да любимица дочка – веселушка и хохотушка Настенька. Старший, закончив десятилетку, ожидая призыва в армию, в колхозе работал. Младший в десятый класс перешёл, когда содрогнулась и захлебнулась слезами да кровью земля родная. От ужаса душа каменела, сердце останавливалось, но народ силой мощной поднялся на борьбу с врагом – никогда не будут жить наши люди в неволе. Игната и Павла с первого дня войны на фронт забрали, а Петька – пострел – сам сбежал. Савельевы все ростом высоки, плечами широки, телом могучи – вот обманом и пошёл с шестнадцати лет фрицев бить. Да только недолго воевать сыновьям пришлось: в первый год войны сложили они головушки свои на полях сражений, а вот Игната до конца 1944 года ни одна пуля не догнала, ни один штык не достал, хоть и не кланялся он им. А за полгода до победы списали его подчистую по осколочному ранению.
Плакал, вернувшись, с Фросей своей надрывно за сынов погибших, что и пожить не успели, девок не полюбили… Петька-то ещё и усов не брил… Плакал горько, причитая, что лучше б его убили, волосы рвал на себе от горя, но… смиряется человек с любыми потерями, особенно в час всеобщей беды, всеобщего лихолетья. Не забывает – нет, смиряется.
Верно говорят, что сердце не камень – сердце, понятное дело, крепче любого камня, иначе как может оно, не разорвавшись, преодолеть столь непереносимые скорби и дать человеку силы жить дальше.
Поседели Фросины косы, покрылось горестными морщинками ещё не старое красивое лицо. Гладил Игнат жену по волосам, прижимал к груди: «Ничего, милая, мы с тобой ещё сынов нарожаем». Но не получилось больше. Радость и счастье, что дочка осталась.
После войны избу новую поставили. Игнат председательствовал в колхозе, Фрося бригадиром на ферме трудилась. Настенька, забалованная, в любви и ласке, красавицей выросла. Сразу после школы замуж собралась. «Да и хорошо, – подумали родители, – внуков успеем помочь поднять».
Свадьбу сыграли богатую, весёлую. Хороша невеста была, и жених ей под стать!
– Добрые детки должны получиться, – радовались все.
Через месяц поняла Настенька, что беременная. Радостная прибежала в поле к любимому: «Ребёночек у нас будет!»
Обнял что есть мочи, поднял на руки, закружил в радости, посадил, целуя, в траву, и побежал в поле за ромашками…
Громким страшным взрывом содрогнулась земля – ничего не поняла и не помнила после Настя, кроме оторванных рук любимого, что отбросило в сторону взрывной волной… Фашистская мина долго ждала своего часа. Сколько людей по ней прошло-проехало, а вот сработала именно сегодня.
Не пережила бедняжка горя – тронулась умом. Сидела у окна, покачиваясь из стороны в сторону и зажимая уши руками, всё в одну точку глядела. Каким только докторам не показывали, к знахаркам водили – ничего не помогало. «Ну, может, родив, отпустит боль», – разводили руками все. Не отпустило. Девочка родилась недоношенной и уродливой. Ножки искривлённые, одна другой короче, и ступня недоразвитая. Лобастая, лопоухая, голова словно в плечи вросшая, и глаз один смотрит в сторону. Глянула Настя, равнодушно головой покачала: «Страшная-то какая, фу». И всё. Грешным делом, все думали, что не выживет младенчик, ан – нет. Быстро окрепла малышка, хорошо вес набрала.
– Может, оставите? – предложили в роддоме. – Неизвестно ещё что с мозгами. Станет на всю жизнь обузой, мало вам дочери…
Бросил Игнат гневный осуждающий взгляд на доктора: «Савельевы детей и стариков не бросают». Новорожденную назвали Евдокией – Дуняшей по-простому.
Настя долго не прожила – тихо так и померла, сидя у окна. Вослед за ней и Фрося во сне ушла, и остался дед с внучкой один. Девочка с добрым весёлым покладистым нравом росла, да и с мозгами всё было в порядке. Ну, если только самую малость – немного чудаковатой казалась Дуняша.
В городе ей на короткую ногу специальные ботиночки заказывали. Быстро и ловко, смешно приседая и переваливаясь, словно уточка, она в них бегала, и никогда не запутывалась в длинной до пола юбке. «Колченогая Дунька», – дразнили её, а она не обижалась. В профиль глянешь – вроде и ничего, а в анфас – невольно рассмеёшься – один глаз в сторону смотрит и она, чтобы лучше видеть быстро и часто, как это делает курица, поворачивала головой. «Курица, курица, хромая курица», – дразнили её, а она не обижалась.
Улыбнётся, головой покивает и дальше своими делами занимается – вроде и не про неё говорят.
Ни минутки без работы не сидела. Ноги кривые и больные, зато руки золотые! Вышивки её на всю область славились. Костюмы народные из города привозили для оформления. Пироги печь приходили соседки учиться, а уж за куличами на Пасху и вовсе в очередь записывались. Хоть и была Дуня инвалидом с детства, а всё равно пошла на ферму работать, и здесь лучшей оказалась.
Игнат поправился, но чувствовал, что силы покидают. «Сколько ещё отмеряно? – думал, сокрушаясь. – С кем внучка останется? С кем век свой несчастливый доживать будет? А помрёт и всё – никто на могилку не придёт помянуть, поплакать. Да и хоронить, кто будет „дурочку его“? Не должно быть так, чтобы сразу всех под корень! Ни внуков, ни правнуков… Не должно».
Плакала душа его неприкаянная, только и находил он покой у Фросиной могилы. Хмурился в обиде на изломанную судьбу свою, часто спрашивал у Бога: «За что, ты так с нами? За что?»
Дуняша видела кручину его. За весёлым смехом скрывала девушка боль свою сердечную. Ей ли не хотелось счастья? Ей ли не мечталось кадриль в клубе отплясывать? С парнями целоваться, детей рожать… Зеркала из дома выбросила – сама на себя смотреть без содрогания не могла. Считают все её уродиной и дурочкой, да пусть так и будет. Смиряясь и принимая это, казалось, легче будет выжить. Невозможно прихорошить её некрасивость, и чувствовала себя виноватой перед дедом. Он, не думая, горюет, а она винится.
После высказанной печали старика по детям, не родившимся внукам-правнукам, Дуня сильно загрустила. Часто стала на ребятишек засматриваться, и щемящая тоска по материнству, что самим Творцом в женщине заложена, невыносимой болью сердце окрутила. Так душу взбаламутила, что потеряла она покой. Ворочалась бессонными ночами, украдкой слёзы вытирая, и всё представляла, как, утешив деда, младенчика к груди приложит.
Долго думала, маясь, Дуняша и придумала…
– Будут у тебя правнуки, дед, будут, – резко оборвала как-то стенания Игната. – Ты только не мешай мне. И прошу, не верь никому и ничему, что услышишь, и мне ничего не высказывай. Понял?
Жёстко так сказала, уверенно, что оторопел Игнат: «Ты чего задумала, девка?»
– А ничего дурного, дед.
– Смотри у меня, – пригрозил испугавшись. Особенно тогда, когда обстригла внучка свои длинные косы и прикрыла лопоухость кудряшками, когда юбки себе нашила новые, блузки, платочки прикупила. А ещё мыло душистое, духи с запахом ландыша и пудру «Кармен» в красной коробочке. Жалостливо смотрел, думая, что совсем его Дуняша-дурочка свихнулась, а она своё замыслила.
Задумала она родить. Пусть кривая, косоглазая, колченогая, но со здоровьем-то женским у неё всё в порядке. Почему бы и не попробовать? Кто её осудит? Она и так всеми судимая – как только не называли в своё время Дуняшу: «блаженная», «юродивая», «уродка», и всегда: «Дунька-дурочка». Правда, в последнее время, когда она выбилась в передовики – лучшей дояркой в колхозе стала, больше не обзывали никак, но за глаза всё равно злословили и считали странной. «А разве будет нормальный человек постоянно лыбиться, уродившись такой страшненькой?» – рассуждали, а Дуняша успокаивала себя, думая, что лучше быть умнее, чем о тебе думают, нежели оказаться умному глупцом.
Да вот только кто с ней на это пойдёт? Кто согласится встретиться, когда на одного парня больше десяти девок, и все одна другой краше? Но у неё свой план был. Из всех мужчин в колхозе отобрала самых здоровых, а главное – не пьяниц и не дебоширов, и стала… нет – не себя предлагать, а просить, чтобы ей помогли.
Первым был агроном. Подошла, о том, о сём разговор завела, и вдруг выдала: «Николай, ребёнка хочу, помоги мне».
Замахал руками, глаза вытаращив: «Умом тронулась?»
Бежать собрался, а она, хромая, за ним.
– Нет, не тронулась. Не гони меня, выслушай! Ни одна душа не узнает. Ну что ты теряешь? Только дело доброе сделаешь, – лукаво улыбнулась, опустив глаза, – напротив, поймёшь, кто виноват, что у вас с Лизкой детей нет. Ты-то мужик хороший – сыночка от тебя рожу. Всё будешь знать, что ни зря прожил. Не смотри, что я кривая, да косая – род у меня крепкий, здоровый. Мне от тебя больше ничего не надо. Деньгами могу подсобить – у меня много накоплено. Ты в город по делам поедешь, а я за ботиночками – там и встретимся. Тётка старая у меня в районе живёт, глухая, и слепая уже. Не спеши отмахиваться, подумай. Не ты мне нужен – сама дитя хочу, сил нет, и дед счастлив будет.
Покрутил пальцем у виска Николай, а разговор не забыл. Жена его упрекает, что детей у них нет, всё вспоминает его голодное детство в оккупации, а сама хоть и красива, но уж слишком изнеженная да болезненная. Дуня-то может и знает что-то, ежели так сказала.
Ай, Дуня-Дуня, посеяла сомнения в душе агронома.
К трактористу Юрке подошла – тому сразу деньги посулила. У него жена через год рожает. Они едва концы с концами сводят, а недавно он, по глупости, новый трактор утопил в болоте. Даже судить собирались, но трактор с горем пополам вытащили, а вот ремонт на Юрку возложили и надолго его всех премий лишили.
Не пропустила и красавчика Пашку-механизатора. Мечтал он мотоцикл купить. Тоже деньгами заманивала.
Головку опустит, глазки прикроет – реснички длинные, носик ровненький, щёчки розовые – и не страшна вроде.
Да, почитай, всех нормальных мужиков обошла и всем деньги посулила. Бедно жил народ в то время, а Дуня зарабатывала неплохо и складывала в кубышечку – а куда ей тратить было?
Кто-то, возможно, и подумал, что с него не убудет, а он и девку ублажит, и деньги на этом заработает. А что кривая, так в постели все равны. Опасней было, чтобы после на отцовство не претендовала, но почему-то ей поверили, что не станет она этого делать – слишком убедительна была. И все знали, что честна она, как и весь их род.
Вскоре слухи поползли, что Дунька вовсе совесть потеряла – к местным мужикам пристаёт. Подивились, головой покачивая, но что с неё взять – с дурочки-то? Кто пожалел, а кто и плохими словами обозвал. А она молчит и, как всегда, улыбается…
Только ночами порой умереть хочет от стыда и доли своей несчастной.
Дед, как услышал, в избу ворвался, за ремень схватился: «Убью, распутница! Ты что, убогая, творишь?»
Дуня перехватила руку его, глянула, что молнии метнула взглядом, брови грозно сдвинув: «Ты, дед, не забывайся – не дитя я тебе малое. Все мозги ты мне проел, что род твой закончился, а дети с неба не падают и автолавка их не привозит! Делают детей – сам знаешь… как. Это я не знаю».
И расплакалась вдруг горько, громко. Может, впервые в жизни слезами горючими горе своё безутешное выплакивала, судьбу кляня обездоленную: «Да лучше б умерла я при рождении, чем всю жизнь не замечать, как отворачиваются от тебя, как смеются вослед, детей тобой пугают… Ни мамки, на папки не знать… Улыбаться, когда на улицу страшно выйти… Когда дед родной имя моё забыл, всё дурочкой кличет. Эх, убогой назвал, распутницей обозвал… Да чего мне это стоит – кабы ты знал!»
Не плакала Дуня – выла, распластавшись на полу. Испугался Игнат, растерялся. И не думал он, и не чувствовал, какое горе прятала в душе своей его всегда улыбчивая жизнерадостная внучка.
– Не догадываются люди, что смех мой слезам ровня! Уж лучше и впрямь была б я дурочкой, чтобы не знать, как страшна, не задумываться, за что… Да, чем горше мне, тем больше улыбаюсь. У каждого своя беда, но только кому щи постны, а кому жемчуг мелок. «И это ничего, что тебе ножку отняли, зато знаешь, как мой пальчик болит» – люди – они такие. Пока их настоящее горе не коснётся – не способны они понять другого. Да и не прошу я жалости – не смейтесь только, не злословьте. На работу брать не хотели – коровы говорили, испугаются… Ой!
Всхлипнула Дуня, замолчав, села на пол, как ребёнок, вытянув маленькие ножки вперёд, здоровым глазом из-под опухших век глянула, повернув голову вбок. Как курица…
– Ну, будет, будет, – растерялся дед, слёзы украдкой смахивает. Совсем он в своей старости перестал замечать внучку и не знал сейчас, что сказать, что думать и что делать. «Одна кровиночка из всего рода осталась, а я её ремнём хотел, дурак старый. Сиротку».
Опустился рядом, обнял: «Дуня, грех это, понимаешь? Грех, чтобы с чужими мужьями… грех».
– Понимаю, но… не мешай мне, дед, не добивай словами жестокими и правдой страшной – самой тошно! Не мужчины мне нужны, дитя я хочу, а по-другому у меня не получится. Цыплят по осени считают… поговорят и забудут, а я – с цыплятками. И пусть после кидают в меня камнями, те, кто без греха. Для меня этот грех может спасением явиться, а праведность ваша, что удавка на шее, изгородь колючая. Да и что так все разволновались – за своё сама ответ держать буду, а победителей, дед, не судят.
Встала Дуня, юбку одёрнула, вымучено улыбнувшись: «Пошли ужинать».
Засуетилась, быстрая и ловкая, вроде и не она только что в рыданьях билась.
«Ну и характер! Наша порода – савельевская! – подивился Игнат про себя. – Эх, Фрося, зачем же ты так рано ушла, оставила меня и матерью, и отцом, и дедом, и бабкой больному ребёнку, а я, выходит, и не справился… А если не победителем?» – хотел вслух спросить, да побоялся.
А к осени у Дуньки живот стал расти. Поутихли, удивляясь, сельчане, головой осуждающе покачивают: «Бессовестная!» Плечами пожимают: «Куда ей, убогой, недоразвитой рожать?»
Затаились, пряча взгляды, мужики – ведь кто-то всё-таки купился!
Пашка мотоцикл вдруг пригнал, Юрка трактор отремонтировал, и деткам новые шубки справил… Правда, сказывали, что родственники сбросились, пожалев многодетное семейство.
Помалкивают все – с опаской на Дуньку поглядывают, а она сияет от счастья и словно никого не видит, ну чисто блаженная. «Вот тебе и дурочка, – перешёптывались, возбуждённые тайной, соседи, – а мужики-то наши! А может, и не наши – она в город часто мотается… Да, дела…»
Трудно верилось, что такое могло случиться, но Дуня действительно была беременной.
Но нашлись и те, кто обижал её, бросаясь вслед словами нехорошими. А Дуняша, как всегда, улыбнётся, гордо голову вскинет, тряхнув кудряшками, и несёт свой огромный живот, подвязанный полотенцем, неуклюже переваливаясь на кривеньких ножках, глубоко приседая на короткую. Как уточка…
Врачи в один голос убеждали не рожать. Таз, говорили, узкий и искривлённый, если и выносит, то уж не разродится точно.
– Может, не надо? – переживал Игнат. – Помрёшь раньше времени.
– Да не бывает раньше или позже, – у каждого, дед, свой срок есть. Только Господь знает откуда и куда мы идём, и где путь свой закончим. Сила во мне вместе с ребёнком растёт небывалая. Нутром чую, что всё правильно делаю, и не просто верю, а знаю, что всё хорошо будет.
– Ох, настырная! Сейчас уж как сильно мучаешься, а дальше что будет? – вздыхал, беспокоясь. – Не всякая здоровая баба справляется – куда уж тебе? Но как ни крути – всё грех, всё грех!
– Что надо, то и будет. Не даётся человеку больше, чем он может вынести. Жить надо, не боясь – тебе ли не знать? Не телесные, дед, немощи делают нас слабыми, в моём уродстве, напротив, сила моя. Душу съедают и жить не дают нам мысли и дела греховные.
– Вот именно – греховные! Дитя зачала без мужа неведомо от кого. Уж как можно боле нагрешить?
– Не ради утехи грешила – человека родить хочу, чтобы род наш продлился на земле, а ещё матерью стать мечтаю – не для того ли женщиной уродилась? Я много думала: для чего живу, зачем Господь мне такой уродливой жизнь сохранил? Значит, был у него какой-то замысел. А потом вдруг поняла свой главный долг в этой жизни и поэтому, дед, не переживай: сейчас я выдержу любые испытания и ничего со мною не случится. Люди осуждающе в меня пальцем тычут, а я такой счастливой никогда не была.
Удивлялся Игнат, слушая и – старый – не знал, что ответить… Всегда внучку глупенькой и слабенькой считал, а на поверку оказалась в ней силища могучая.
– Ох, но всё едино грех, – причитал постоянно, – как ни крути, грех!
После нового года родила Дуняша сына. Несколько суток, сжав зубы, крепилась и тужилась так, что сосуды на лице полопались, но не кричала – молча терпела муки адские. Врачи измучались, а Дуня, в кровь искусав губы, их ещё подбадривала, но расплакалась, стыдливо прикрывая потной ладонью глаза, как услышала крик ребёнка.
– Мальчик, да чудесный какой! – радовались уставшие акушеры. – Ай да Дуня, ай да молодчина!
Это ничего, что роженица была неказиста и мала – болезнь матери девочку такой сделала, а гены предков она в себе хорошие несла. Мальчик больше трёх килограмм родился. Крепенький, ладненький, словно с открытки срисованный, а главное – здоровенький. Назвали Петром.
Гордо протянула деду правнука-младенчика при выписке: «Вот, дед, продолжение рода нашего – Пётр Игнатович Савельев».
Взял он на руки его, с трудом уняв дрожь. Слёзы радости смахивает да всё приговаривает: «Ой, Фрося не дожила! Счастье-то какое! Удивила, Дуняшечка, порадовала!»
И про грех сразу забыл, подумав: до чего же Господь милостив.
До ласки всегда был скуп, а тут к сердцу прижал горемычную внучку свою и не отпускает: «Ничего, девонька, справимся, вырастим».
– Само собой, дед, вырастим, – улыбается счастливая Дуня.
– Кто отец? – не выдержал, спросил.
– Да кто ж его знает? – пожала плечами. – Вон их сколько без отцов растут и ничего.
А она и правда не знала, а может, и скрыла надёжно… Было их несколько, кто съездил в город по делам…, а может, и впрямь по делам… Да и какая теперь разница. Человек родился!
Дуня сознательно это делала. Знала, что все будут помалкивать – хоть пытай, ежели что, и концов никто не найдёт.
– Дурочка – дурочкой, – злословили некоторые, – а своего добилась. Но дурное дело – не хитрое.
– Да как сказать, – сомневались другие.
Долго перешёптывались за Дуняшкиной спиной, но, как обычно, вскоре другие события деревенской жизни перевернули страницу истории появления на свет мальчика Пети. А люди по сути своей больше добрые, и каждый спешил прийти на помощь. Вещи несли детские: и новые, и старые, игрушки – кто что мог. В правлении материальную помощь выписали, и знатно новорождённому «обмыли ножки».
Побежала жизнь новая, насыщенная, отмеряясь месяцами, годами…
Мальчонка резвый, смышлёный, здоровенький – дед с рук не спускает. Все хвори вмиг отпустили старика, от счастья даже седина стала пропадать.
Не без баловства, конечно, но только в радость для всех, подрастал ребёнок. Учился хорошо, в спорте – первый. Мать с дедом почитал и во всём помогал. Мечту имел – военным стать.
Дуня матерью отличной была. Книжки читала, к труду приучала, в учёбе наставляла. Свой нрав жизнеутверждающий и покладистый сыну передала. И ещё больше улыбалась, только теперь светилось лицо её настоящим счастьем и никому она больше не казалась страшненькой. Стала она равной среди всех.
И что интересно, больше никто и никогда не называл её дурочкой. По-другому, как Евдокия, а то и по отчеству не величали, а как иначе: почётная доярка, победитель соцсоревнований и достойная мать.
«Вот, Фросечка, какой подарок нам внучка сделала на старости лет. Жаль ты, моя хорошая, не дожила, – рассказывал Игнат жене на могилке. – Я теперь к тебе повременю – помочь обязан. Ты уж не серчай. Но какая же умница – Дуняшка-то наша!»
И помог. Долго прожил он. Петьку в военное училище проводил, на присягу слетал, женил, и даже праправнука дождался. Попросил Павлом назвать – в честь сына своего погибшего. А вот у Дуняши век не таким долгим был. Не встала она как-то летним утром с восходом солнца, не поприветствовала своим звонким голосом соседей…
Лежала в кровати такая маленькая, что и не сразу разглядишь её под одеялом и словно сладко спала, слегка улыбаясь. Она ведь всегда улыбалась и даже смерть приняла с улыбкой на устах.
И стояли у порога в ряд уродливые стоптанные коричневые и чёрные ботиночки…
Напрасно переживал дед, что никто не будет плакать на её могиле.
Высокий стройный Пётр Игнатьевич – майор, красавица жена его и два сына подростка, статью в отца, с любовью достойно проводили мать и бабушку в последний путь. Плакали сельчане, прощаясь и сожалея, что не увидят больше её красивую улыбку, не услышат задорный голос и звонкий смех.
Ушла Дуняша, а вместе с ней и целая эпоха, но не прервался именитый сильный род Савельевых, не допустила этого хроменькая, кривенькая, косенькая, маленькая, словно подросток, инвалид с детства, сиротка и победитель Дунька-дурочка.