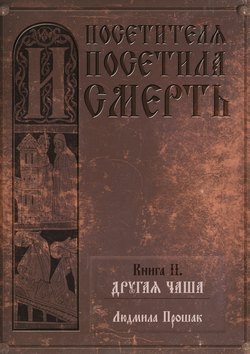Читать книгу И посетителя посетила смерть. Книга II. Другая чаша - Людмила Прошак - Страница 3
Часть четвертая. К железным вратам Вычегды
Глава VIII.
Красная гора
Оглавление1
Московское великое княжество,
на Шекснинско-Сухонском пути,
в устье Северной Двины,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день1,
третий час
Безмолвные чужаки. Особая причина Власия
Застонали чайки. Тихо всплеснув руками-руслами, река приняла в свои объятия ушкуи, утомленные не столько плаванием, сколько волоками.
– Почему птицы так раскричались? – Кириллу внове было путешествовавшему по большой воде.
– Теперь до Перми рукой подать, – Иван Кочерин заслонил глаза козырьком руки: на переднем ушкуе свернули парус.
Ладья, удерживаемая якорем, рыскала по воде, и точно также метался в думах Власий, у которого была особая причина хотеть, чтобы ушкуй опустел.
– Все на берег! Но к вечеру назад!
– Дозорных бы оставить! – усомнился старший из ушкуйников, росший на одной улице с Власием.
– Родион, мы же не из Перми. Я тут присмотрю, а ты займись харчами. Вскоре на палубе остались только Власий и чужаки, которых он взял в поход, не спросив у ватаги. Если бы такое своевольство с набором попутчиков позволил себе любой другой купец, ватага бы возроптала. Но Власий потомственный ушкуйник, причём кормчий. Потому сотоварищи смолчали, решив, что в том есть резон, которого Власий пока открыть не может.
За весь поход ни один из чужаков не проронил и слова. Немец Отто помалкивал, потому что едва понимал по-русски. Сотник Фрол молчал, потому что знал отношение к себе ушкуйников (сколько раз подстерегал их, чтобы взыскать церковную десятину, которая была не меньше половины!). Пермяне, напросившиеся к Власию перед самым отплытием, безмолвствовали, наверное, по той же причине, что и Отто, надвинув на самые уши шляпы с холстиной, защищающей от комарья, которого на Двине было не так уж и много.
– Все с ушкуя! – Власий повелительно указал на берег. – Вернётесь под вечер!
Отто пожал плечами: на судне капитан первый после бога. И всё же нет ничего опаснее для команды, чем близость земли, на которой моряка всегда ждут женщины и выпивка, которая развязывает языки и толкает на необдуманные поступки, например, высказать капитану свое неодобрение. А в первую очередь всем как бревно в глазу он, Отто. Человека в ратном кафтане они будут терпеть по привычке. Двое крестьян плывут никем незамечаемые. А он – иноземец, такого и не зазорно отправить к голому Гансу. Капитан, услышав всплеск за бортом, сделает вид, что ничего не произошло. Не огорчится он и если Отто не вернётся с берега. Может, для того и посылает?
2
Новгородская земля,
Великий Новгород, Торговая сторона,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
третий час
Аромат детства. Прощение без прощания
Прибиравшаяся в доме жена Власия заглянула за божницу и обмерла: там лежала дюжина слитков, составленных колодезем, внутри которого ровной башенкой возвышалась стопка золотых монет.
– Баушка, ты что? – младший из внучат теребил её за руку.
Градислава притянула его к себе, зарываясь лицом в непокорные вихры. Вдохнула в себя.. Чем старше дитя, тем слабее аромат детства, у мужчин он сохраняется дольше, наверное потому что взрослеют они не раньше, чем первая седина пробивается на висках.
Она рожала сыновей, обшивала, кормила, лечила ссадины – и всё для того, чтобы мальчишки, наигравшись в ушкуйников, продолжили эту потеху сначала на берегу, помогая отцу смолить судна, а затем и отправившись в поход. Но нынче Власий не взял с собой даже Прокопия. Узнав об этом, Градислава встревожилась, но, наткнувшись на отчужденный взгляд мужа, спрашивать не стала. Будучи четверть века мужней женой, она так и не пожелала выучиться трём бабьим хитростям: стенать, рвать на себе волосы и валиться мужу в ноги…
И вот теперь нашла за божницей почитай что клад. То, что положил его туда Власий, сомневаться не приходилось: он был главным кормильцем в семье, и только он имел привычку складывать всё в подобие колодезного сруба. Когда-то он учил её разжигать на берегу костер: «Кладёшь одно полешко напротив другого. Поперёк – ещё два и ещё… При такой кладке воздух подпитывает огонь, от такого костра и пламени много, и углей. Особенно если внутри сруба сложить шалашик из растопки. Тогда жар изнутри греть будет, как нас с тобой…» Выходит, погасли угли, остался один седой пепел…
3
Московское великое княжество,
УстюгCXII, набережная,
в год 6918 месяца июля в 9-й день,
после третьего часа
Сотник! Был и есть! В засаде против Власия
Фрола загадочность поведения Власия только раззадорила. Хмыкнув, он выбрал скрытное место. («Как был я сотником, так им и остался…»)
Развешенные вдоль берега сети вполне годились для этой цели. Опускаясь на чурбан, валявшийся тут же, Фрол оперся на него рукой и поморщился – к ладони прилипла осклизлая чешуя. Должно быть, рыбаки тут не только чинили свои снасти, но и разделывали улов. Но сотнику уже не было до этого никакого дела: всё его внимание было приковано к тому, что происходило на ушкуе…
4
Московское великое княжество,
Устюг, торжище,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
после третьего часа
Апостольский пост. Пустячная цена. Вопрос
Макарий, поддёрнув подол серой сукманины, тащился следом за Сатаной, а тот вышагивал в новом наряде так, словно ничего другого сроду не носил.
– Пора подкрепиться, что ли?
– И то правда! – Макария уже с души воротило и от вяленой рыбы, и от солёной. – На этом ушкуе питаются так, словно пост держат, который под силу лишь апостолам, если, конечно, они и вправду были рыбаками.
– А ты не апостол, да? Уверен, торжище неподалёку от храма, – Сатана прытко побежал вверх – туда, где возвышался пятишатровый собор.
Макарий, отыскав взглядом отлогую тропинку, стал взбираться по ней, как большой серый муравей. Они одновременно оказались на соборной площади, с которой двумя рукавами простирались улочки.
– Ну что? По какой пойдём?
Макарий не сразу услышал вопрос – засмотрелся на суровую гладь стен собора. Кажущаяся простота продирала морозом по коже.
– Может, заглянем?
– Ступай, а я на торг пойду. Бывай! За меня не забудь помолиться!
Макарий постоял набычившись, подумал…
– Я быстро! – бросил в спину уходящему, но тот и не подумал оглянуться.
…Макарий догнал его на подъёмном мосту, перекинутом через ручей. Шаткий настил вёл в воротную башню обители. Сатана, облокотившись на хлипкие поручни, наблюдал за происходившим у его стен: кто торговал свечками, кто расхваливал кадильницу, кто густым басом гудел:
– Кому потребен диакон в храм для слу-же-ни-я-а-а?
Его перебивал высокий голос, захлебывавшийся скороговоркой:
– А вот молитовки на всякий случай!
Но бас не унимался:
– О благотворении воздухов, об изобилии плодов земных и временех мирных, Господу по-мо-лим-ся-а-а!.
– И стоит всего пустяк! – вклинился в речитатив торговец молитвословами.
Макарий хмыкнул, отплевываясь – холстина, спадавшая со шляпы, в очередной раз залепила рот:
– Ничего не пойму! Чего они все в рясах? И где еда?
– В рясах, потому что гривен не хватило на такое прекрасное одеяние, как у нас. А еды нет, потому что тут душой торгуют. Это ведь все безместные попы и дьяконы в ожидании найма, ибо не хлебом единым, но и не без оного. Только по мне уж лучше исполнять то, на что мы подрядились, нежели тут стоять, как сирота на выданье. Пошли отсюда. Тут и чёрствой просфоркой не разжиться.
Оставив позади и мостик, и монастырь, они свернули на противоположную улочку. Там действительно было торжище – пёстрое и бескрайнее.
Белые кочаны капусты подпирали своими крепкими боками зелёные поленницы пупырчатых огурчиков и пирамиды мытой круглой репки, соседствовавшей с угрюмой брюквой и длиннохвостой редькой. На возах, из которых были выпряжены лошади, зазывно перекликались гуси и утки, косясь на раскрытые мехи, из которых просилась наружу золотая россыпь зерна и тёплая от солнца гречишная ядрица. Но весь гомон торжища перекрывали своим истошным «Пусти-и-и!» поросята. Их поддерживали печальным вопрошанием коровы: «Почему-у-у?» Может быть, потому что напротив на столах возлежали свиные и говяжьи головы, слепо уставившиеся на живой четвероногий товар?
– А вон дальше то, что надо! – Сатана обнажил в улыбке розовые десна. – Хотя от молочного поросёнка на вертеле я бы тоже не отказался.
Длинные столы, расположенные под навесом, были уставлены яствами, дразнящие запахи которых перебивали друг друга. Треугольники квашеной капусты, подцвеченные свёклой, рдели в бочках бок о бок с матово-зелёными солёными огурцами. Рядом кипел благоухавший корицей сбитень. Торговка в опрятном платочке одной рукой снимала набегавшую пену, другой – успевала отгонять пчёл, увивавшихся над медовыми пряниками и маковыми ламанцамиCXIII.
Не задерживаясь, Сатана прошел к следующему столу, накрытому как для трапезы. Деревянная посуда и грубая скатерть, придавленная по краям булыжниками, не отличались нарядностью. Сам торговец стоял как хозяин, дожидающийся припозднившихся гостей. Слева поперёк стола лежала завернутая в холстину рыбина, её хвост свешивался едва ли не до земли. Правую сторону занимало блюдо с отварным мясом, которое было в диковинку подошедшему раньше Сатаны и Макария седобородому горожанину. Рубаха, в которую он был одет, была из тончайшей ткани и явно свидетельствовала о непростом положении её владельца. Он вопросительно кивнул на блюдо.
– Оленина. Языки и губы. Слаще ничего покуда нету и потом не будет!
Торговец ловко отхватил острым ножом кусочек из котла с неостывшим варевом и подал его на лезвии седобородому.
– Всё забираю, – распробовав, кивнул тот.
– Ещё вкуснее приправлять это лакомство морошкой и брусникой.
– Давай, – не пробуя, согласился покупатель.
Макарий, наблюдавший за тем, как торговец, разделив перегородкой берестяной туесок, ссыпал в него ягоды, легонько толкнул Сатану под локоть:
– А давай мы тут чего-нибудь попробуем?
Седобородый сгрёб покупки и ушёл.
– Визяо те оланъ?2 – Макарий и Сатана переглянулись: торговец обращался к ним. – Вотысь те оны воинъ?3
Сатана отрешённо миновал его. Макарий, поймав на себе недоумевающий взгляд, по обыкновению хмыкнул и тоже ускорил шаг.
5
Великое княжество Тверское,
р. Орша, Вознесенский Оршин монастырь,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
после третьего часа
Раскаянье раскаянью рознь. Под новым началом
Ломило скулу и отказывался открываться враз заплывший глаз. Второй раз уже за эту седмицу Зосима раскаивался («Ну и дурак же я! Если не останусь без глаза, то в порубе опять насижусь! И кто только придумал, что в честности жить легче?! Да и не это важно, а то, как я мог в это поверить!.»). Андроник посмотрел на жалко искривленное лицо Зосимы и почувствовал, как ярость уступает место смущению («Погорячился я, влепил как мужику, а надо было как пацанёнку. Его и без меня жизнь под дых сызмальства лупит…»)
– На вот, – протянул он Зосиме железную бляшку, – к глазу приложи, нам с тобой ещё не раз твоя зоркость пригодится.
Зосима, прикладывая холодное железо к набрякшему веку, едва заметно кивнул, с замиранием вычленив из сказанного «нам с тобой»…
6
Московское великое княжество,
Устюг, Успенский собор,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
перед шестым часом
Нечаянная встреча. Новомученица
Кирилл себя не помнил: из полумрака собора смотрела Марпа с её круглыми, чуть навыкате глазами, маленьким ртом, весёлой пуговкой носа и широкими скулами. Он дотронулся до её щеки и отдёрнул руку, наткнувшись на безучастное дерево.
– Кто это?! – схватил Кирилл за плечо ратника, еле дождавшись когда тот поставит поминальную свечу. Больше никого в храме не было.
– Святая, кому ж тут еще быть?! – удивился тот.
– Какая? Как звать?
Ратник досадливо покачал головой и, поразмыслив, ответствовал:
– Устюжанка!
– Разве есть такая святая? Она новомученица?
– Ты по Устюгу пройдись, – улыбнулся ратник, – и поймёшь. Сам откуда?
– Из Новгорода, – поневоле задумавшись, ответил Кирилл.
– Из Новгорода?! – Улыбку с лица ратника стёрло в один миг. – За Одигитрией опять пришёл?!
7
Московское великое княжество,
Устюг, набережная,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
перед шестым часом
Не ведая жалости. Без ума – тогда или сейчас?
Забыв о налипшей на ладони чешуе, Фрол принялся наблюдать поверх развешенных сетей. Из скворечника, сооружённого на носу ушкуя, выпорхнула смуглолицая пигалица. Власий, склонившись, в чём-то убеждал её, изредка дотрагиваясь до руки, а она качала головой, противясь сказанному. Фрол, позабыв о том, что он уже не сотник, кинулся обратно на ушкуй.
– Вот почему ты меня в поход ни в какую брать не хотел и в плавании на нос никого не пускал! – Он намеренно не замечал Анку. О чём говорить сотнику, пусть и бывшему, с подстрекательницей смертоубийства! – И как же ты, Власий, в Новгород возвращаться думаешь?
Мозолистая ладонь кормчего легла Анке на плечо. Она, повинуясь порыву, прильнула к его руке щекой.
– А я не вернусь, я вот только её уговариваю меня в Устюге дождаться..
– Сказала: я с тобой, на берег не ступлю и прятаться больше не стану.
– С ума ты сошёл на старости лет, Власий!
– Кто знает, – со спокойной усмешкой ответил Власий, – а может, это я всю свою прошлую жизнь провел в привычной суете как безумный? А ты – нет?
– Да мне что, – подал плечами Фрол, – я уже не сотник.
– Тебя из-за меня выгнали? Потому что не поймал?
Фрол тяжёлым взглядом посмотрел на Власия. («Уйми её!») Тот притянул Анку к себе, но она вывернулась из-под его руки:
– Знаешь, дядечка, а мне Егупа не жалко! – она сказала это с отчаянным вызовом в голосе, во взгляде, во всей своей хрупкой стати. – Он ведь даже домашним хлеба вдоволь не давал, всё на продажу шло. Только мы с его матерью то, что он нам выделял, тайком половинили, и я относила горбушки соседским ребятишкам. Они ели, но всё равно меня дразнили. Каждый раз, когда я шла по улице, они бежали за мной и кричали: «Дай хлеба, Егуповский выкормыш!»
8
Московское великое княжество,
Устюг, Успенский собор,
за 14 дней водного пути до Перми,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
шестой час
Полёт. Чьи поршни? Епитимья за побоище
К величайшему своему удивлению Кирилл вдруг понял, что летит. Так и не успев почувствовать себя птицей, он приземлился, распластавшись на паперти. Приоткрыв один глаз, а за ним и второй, Кирилл обнаружил, что лежит, уткнувшись носом в пыльные поршни. Они показались ему очень знакомыми. Полежав ещё немного, Кирилл понял, что обувка напоминает ему его собственную. Проворно вскочив на ноги, он убедился, что его поршни всё же там, где им и полагается быть. Но и вторая пара поршней тоже осталась стоять на прежнем месте.
Кирилл поднял глаза вверх и увидел пышного, как тесто на опаре, батюшку. Тот грозил пухлым пальцем топтавшемуся на крыльце ратнику:
– Ты что творишь? На чернеца замахиваешься?!
– Так он из Новгорода!
– А ты, отче, и вправду из Новгорода?
Кирилл сопел, переминаясь с ноги на ногу. Расценив это как положительный ответ, батюшка округло развел руками, словно приобнял всё сущее:
– Тогда удивляться не должен, что с тобой так обошлись, – и, повернувшись к ратнику, нахмурил пушистые бровки, из-под которых озорно блестели бусинки глаз: – А ты кулаками тут не маши! В храме перед Богом все одинаковы. Повинись!
– Ни за что!
– Тогда за побоище в храме накладываю на тебя епитимью на седмицу. Аминь! Изыди с очей моих!
Ратник всхрапнул как зряшно огретый плетью конь.
– Не так страшна ошибка, как её исправление, – вздохнул батюшка. – Вот о чём новгородскому епископу следовало подумать.
Встретив растерянно-недоумённый взгляд Кирилла, удивился:
– Что ж ты за новгородец такой, если не понимаешь, о чем я толкую?
– Да я… – начал было Кирилл, но осёкся («У людей родословная, а у меня подорожная..»). – Я смотрю, отче, у нас с тобой обувка одинаковая, прямо как от одного сапожника…
– А и впрямь! – удивился батюшка Василий. – Я свою на базаре у пермян купил, они мастера из оленей кожи шить. А ты свои где брал?
– Поминок… – Кирилл и сам в удивился, как горько это у него прозвучало.
– Подарили где – у нас или в Перми? – терпеливо допытывался батюшка.
– В Литве…
– Странно как, я думал, такие только в наших краях шьют. Где ж они там северных оленей берут?
– Кабы знать… Ты, отче, лучше про Одигитрию расскажи, будь добр.
Тот с неохотой оторвал взгляд от поршней Кирилла и повёл его на скамеечку, стоявшей на высоком берегу Сухони. У Кирилла аж дыхание перехватило от открывшейся красотищи: позади – купола, дождями да снегами зачернённые, а впереди река блестит, синевой своей с небом спорит. Батюшка Василий поёрзал, устраиваясь поудобнее:
– Тут у нас такая вышла история с предысторией. Как в лето 6904 Успенский собор сгорел, так мы его уже на будущий год восстановили..
– Странно, – не утерпел Кирилл, – как Стефана не стало, так и собор сгорел?
– Выходит, так, – слегка опешив, согласился батюшка Василий, – как раз в этом соборе он служить начинал. Да и я, признаться, тоже. Только он на года четыре меня младше, малец ещё совсем был, а подле отца своего уже стоял. Симеон ведь всю свою жизнь здесь прослужил. Вот и сына, как только тот грамоте выучился, в канонархиCXIV определил.. А ты откуда Стефана знаешь?
– Долго рассказывать, – уклонился от ответа Кирилл. Ему почему-то очень не хотелось признаваться, что сам он со Стефаном знаком не был. («Как хорошо и странно сказал он про него: не „знал“, а „знаешь“, будто о живом..»)
– Как хочешь, только мне в мои годы уже спешить некуда. Я бы послушал…
Кирилл молча засопел.
– Ну да ладно, о храме, – не стал настаивать отец Василий. – Мы его после пожара отстроили сызнова всем градом, а в лето 6906 на нас ратью пошли новгородцы. Ведь пока Стефан жив был, он не только к нам, но и в Новгород захаживал, хрупкий мир меж всеми поддерживал, а как его не стало, новгородцы айда за старые обиды мстить. Какие там татары, какие половцы! Они же дети безобидные по сравнению с ушкуйниками. Посад пожгли, чудотворную икону Пресвятой Богородицы Одигитрию как обычную полонянку повязали убрусомCXV, храм разграбили, а чтобы следы замести – спалили дотла, а мы им воспрепятствовать не сумели. Когда всё улеглось, Устюг снарядил послов к новгородскому епископу (и я в их числе был).
Ратник, наказанный епитимьей, устал прислушиваться и подошёл поближе. Отец Василий, согнав с лица мелькнувшую улыбку, продолжил:
– А владыка Иоанн, оказывается, ни о чём таком не ведает. А может, прикинулся, прости Господи. В общем, удивился: «Кто посмел?!» При нас позвал воевод да посадников и велел Одигитрию вернуть, а собор отстроить заново. Огласил это при нас и с тем хотел восвояси отправить. Но мы уперлись: без Одигитрии не уйдём. Долго прождали, но принесли. Я так смекаю, укрывали её у кого-то из воевод в домовой церкви. Двинулись мы крестным ходом с нашей Одигитрией в обратный путь. Владыка послал с нами мастеров церковного строения, чтобы они заново возвели порушенный собор.
– Мы им помогали всячески, – не вытерпел ратник, – подкармливали, по домам жить разобрали. Ну а как иначе?
– Да уж, дело известное, – миролюбиво поддакнул Кирилл, – рушат одни, а исправляют другие…
9
Воспоминания отца Василия,
клирика Успенского собора о событиях,
произошедших в Устюге в году 6887
Отец Серафим, заложив руки за спину, направился вокруг собора. Это был уже третья ходка, которую он совершал, чтобы скрыть волнение. Со дня на день ждали возвращения Стефана из Москвы. Благословят его или нет идти на проповедь слова Божия в землю Пермскую?. Даже не знаю, хотелось ли мне, грешному, чтобы Стефан привёз из Москвы благословение. Я терял товарища (из молодых клириков в соборе было только нас двое), в обществе которого мне было временами также тревожно и неловко, как перед раскрытой книгой с незнакомыми письменами. А отец Серафим лишался своего лучшего ученика, в душе которого – в отличие от меня – он читал с печальной легкостью: «Не клирик он нам!.» Завершив третий круг, отец Серафим не стерпел: «А вдруг пешком идёт? Василий, запрягай коня, съезди, встреть…» Я, предпочитая не спорить, пустился в путь. Из Москвы все ехали одной дорогой, поэтому и думать нечего было, что нам со Стефаном случится разминуться, если, конечно, он и вправду уже приближается к Устюгу.
Полозья легко скользили по укатанному тракту. Укутавшись в тулуп, я глазел по сторонам. Клочья снега на голых прутьях деревьев висели как пушистые белые почки, готовые вот-вот лопнуть. Неподвижные тёмные ели сливались друг с другом настолько, что мне казалось, будто сани стоят на месте. Но неумолчно звенели колокольцы на сбруе, от заиндевевшего крупа коня валил пар. Едем!. Дорога обогнула пологий холм и накренившиеся над оврагом редкие ели. Предчувствие не подвело отца Серафима: навстречу шёл неспешным, размеренным шагом Стефан. Иней, осевший у него на бороде и усах, походил на безвременную седину. Я натянул поводья, замирая от вопроса: с благословением возвращается или нет? Сначала, когда он вернулся из Григорьевского затвора, став рукоположенным священником, мы все подумали, что он заступит на место клирика в Успенский собор. Будь жив его отец, Симеон, лучшей доли бы для своего сына и не мечтал бы. И действительно, в утреню, обедню, вечерю и полунощницу Стефан, по благословению отца Серафима, служил вместе с нами. Но всё остальное время он пропадал дома за книгами или ходил по торжищу, отыскивая себе собеседников из числа пермян.
Однажды, посланный за ним отцом Серафимом по какой-то церковной надобности в неурочный час, я застал его за странным занятием. Он сидел перед двумя раскрытыми книгами и, сверяясь с ними, писал нечто в третью. «Что ты делаешь?» – в голосе моем было столько оторопелого изумления, что он решил мне объяснить. Его распирала радость открытия: «Представь, я закончил вносить последние исправления в грамматику пермского языка! Теперь она приобрела законченный вид!».
Бог милостив ко мне, и я отношу себя к людям счастливым, но, вынужден с горечью признаться, что никогда в жизни я не видел человека, более счастливейшего, чем он в ту минуту. Это было так явно, что много позже, когда меня самого переполняло до краёв счастье, я смотрел на себя со стороны и понимал: нет, всё-таки я счастлив не настолько, насколько был счастлив он… Можно ли это назвать завистью? Возможно. Но тогда я просто смотрел на раскрытые книги, полуисписанные листы с переложением на пермский Часослова, Восьмигласника, Песней ДавидаCXVI, смотрел и удивлялся: да полноте, разве это и есть счастье?.
Вскоре после этого Стефан, посчитав приготовления законченными, отправился в Москву за благословением, которое, как оказалось, далось ему гораздо легче, чем пермская азбука. Откровенно говоря, я и сейчас считаю, это его занятие зряшным. Слово Христово в Пермь, если и надлежало нести, то, разумеется, на русском языке. Пусть бы пермяне привыкали, что коль они теперь под Москвой ходят, то и всё самое важное надлежит проговаривать по-русски. А как ещё, если я напрямик у Стефана спрашивал, есть ли в его излюбленном пермском наречии такие слова как «Господь», «церковь», «милость Божия», а он мне ничтоже сумняшеся отвечал, дескать, да, он наполнит их старые слова новым смыслом.
«Никто не вливает молодого вина в мехи ветхие», – возразил я словами Святого писания. Но у Стефана на этот счёт было другое мнение, подтверждение которому он нашел двумя стихами ниже: «И никто, пив старое [вино], не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». Я решил не сдаваться: «И как же будут называться в Перми православные христиане, если таковые будут? И для этого у них тоже найдутся старые слова?» Стефан улыбнулся: «А что их искать – Крiстос нiмо веськыда ескысiас”CXVII. Но меня так легко не проведёшь: «И где же тут «православные»? Укажи, сделай милость!» Стефан смотрел с пристальной серьёзностью: «В Христово имя право верующие – разве это ни есть православные?». Я вскипел от благородного негодования: «Верить в Христа или в Христово имя – по-твоему это одно и то же?» Стефан улыбнулся: «Имя это вечно». Я махнул рукой, в глубине души считая, что в Москве должны были бы ему указать, на каком языке следует проповедать, тогда бы его азбука осталась лишь потешным напоминанием о юношеских заблуждениях.
Он снарядился в путь за считанные дни. «Отправился бы летом, – ворчал отец Серафим, – годы дожидался, что ж сейчас горячку пороть, словно тебе от нас невтерпёж сбежать, мать вон сама не своя ходит, про неё подумал?» Стефан, перевязывавший очередную стопку книг, уклончиво возразил: «Да тут всего-то шестьдесят верст…»
Самый мелкий из изборников вывернулся из-под руки, Стефан, бережно отложив его в сторону, оглянулся в поисках более подходящей по размеру книги. «Всего-то?! – передразнил его отец Серафим. – Хоть я и устал тебе уже это твердить, но всё же ещё раз для очистки совести повторю: ты задумывался над тем, почему в Устюге христианство уже два века, а в Перми, до которой всего-то шестьдесят верст, как не было креста, так и нет?! Тебе такое имя как Кукша о чём-нибудь говорит?» Стефан кивнул, водворяя в стопку недостающую книгу: «Конечно, отец Серафим. Кукша просвещал вятичей и принял от них смерть. Но было это почти триста лет назад, да и я ведь не Кукша, а Стефан». – «А это имя чем легче? Потому, видно, тебе и при постриге менять его не стали, – голос отца Серафима, возвысившись, зазвучал как с Престола. Я едва заметно кивнул на хлопотавшую у печи мать Стефана. Отец Серафим, покаянно кашлянув, прошептал: – Чем тебе кажется легче имя первого христианского мученика, архидиакона Стефана, забитого язычниками камнями? Чем?!» Стефан, собиравший по дому меньшие книжки, остановился: «Не гневайся, отче, только мне оба этих имени кажутся легкими, потому что не напрасна была их неизбежная смерть. Мы все умрём. Только хотелось бы не просто от старости и немощи, а так, как святоотеческий завет учит в тех, кстати, книжках, которые ты мне сам читать давал. Думаешь, я забыл, кто меня грамматической мудрости сызмальства учил? Ты, отче. Потому тебе первому я благодарен за всё. И за твою нынешнюю тревогу обо мне тоже».
Отец Серафим не успел ответить – в дверях стояла мать Стефана с блюдом, прикрытым полотенцем. «Черинянь, – грустно объявила она сыну, а для остальных пояснила: – рыбник это. Такой, каким его пекут в Перми. Отведайте!» Помолившись, сели к столу – во главе отец Серафим, напротив Стефан. Мать, расправив фартук, присела на уголок рядышком с сыном, положила ему кусок из середины и посмотрела на всех извиняющимся взглядом. Стефан, вспыхнув, хотел было возразить, но вместо этого коснулся щекой её плеча: «Спасибо тебе, мама…» Разговор не клеился. «Я мешаю?» – порывисто встала она из-за стола. Стефан удержал её: «Посиди с нами, мама…»
Уезжать было назначено завтра после утрени. Отец Серафим служил её сам. Мы – Стефан и я – ему помогали. В храме было многолюдно, но среди всех выделялась мать Стефана. Она стояла вместе со всеми и всё же одна. Белый плат сливался с лицом.. Наступило время проповеди. Отец Серафим вышел к пастве, читая по памяти: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и крестится, спасён будет; а кто не будет веровать и не крестится, осуждён будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут в руки брать змей; и если что смертоносное выпьют, ничего не повредит им…» CXVIII
Когда дошло до нас известие о гибели Стефана, отец Серафим, плача навзрыд (к старости слёзы у человека близко, как и у дитяти) повторял именно эти слова: «И если что смертоносное выпьют, ничего не повредит им…» То ли старик о чём-то предполагал, то ли просто вспоминал то утро, не знаю…
Но всё это было много позже, а тогда все стояли, слушали проповедь и понимали, что она по сути обращена к одному Стефану. «И волос с головы вашей не погибнет”CXIX, – отец Серафим протянул своему ученику напрестольное Евангелие. Когда к подарку учителя были добавлены другими клириками праздничные фелони, напрестольный крест и водосвятная чаша, и всё это уложено в сани, тихо и незаметно подошла мать, тронула Стефана за руку, тот сразу обернулся. «Отойдём, сынок, ненадолго», – она вывела его из храма и повела за угол. Не решившись следовать за ними, мы остановились в отдалении. Снежное поле терялось в белесом небе. Где берег, где река? Мать показывала слабой рукой Стефану на чернеющий среди снега валун, к которому вела протоптанная дорожка. Ещё были живы старики, помнившие из своего раннего детства, как на этом камушке сиживал праведник ПрокопийCXX. «Присядь, сынок, перед дорожкой на камушек…» Стефан покачал головой, но, взглянув на мать, сел…
10
Московское великое княжество,
Устюг, набережная,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
шестой час
Топор выдал хозяина. Попутчики или…?
Отто поправлял чулок, пока два его попутчика – крестьяне в серых хламидах – не обогнали его. Поднял глаза: в складках одежды одного из них прятался боевой топор! Забыв о чулке, Отто продолжал сидеть на корточках. Он знал толк в оружии. Топор, который он увидел сейчас мельком, был насажен на топорище с наконечником, который скорее всего был вывинчивающимся кинжалом. Такое не у всякого купца сыщется! («Если они не проронили за всё плавание ни слова, то, возможно, они знают русский не лучше моего или хотят, чтобы все так думали?»)
11
Московское великое княжество,
Устюг, Красная Гора,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
шестой час
Снова она. Избравший свой путь
Одолев подъём, Кирилл остановился.
– Енъ милуй то или юздо?
Проморгавшись (солёный пот ел глаза), Кирилл наконец разглядел, кто ему задал этот диковинно прозвучавший вопрос. Кирилл почувствовал, как у него подкашиваются ноги.
– Что, отче, не разумеешь? – полюбопытствовала старица: – Я у тебя спросила, как тебя милует Бог?
– Думаешь, – усмехнулся Кирилл горько, – милует?
– О-ко-ко! Что ж ты такой недоверчивый? С чем ты к Богу, с тем и Он к тебе.
Коротенькое «О-ко-ко!» доконало Кирилла. Мало того, что он сидел рука об руку с женщиной, которая выглядела не то как ожившая скульптура местной святой, не то как состарившаяся Марпа, – с незлобивой усмешкой и несуетной погруженностью в самоё себя.
– На каком это языке, мать?
– На пермском…
Кирилл вздрогнул и подобрался, как кот:
– А почему ты заговорила со мной на нём?
– Ну, вижу, что не наш, не устюжский, – терпеливо разъяснила старица, – значит, думаю, из Перми на торжище приехал. А ты не оттуда? Издалече?
– Да, – кивнул Кирилл и сам удивился тому, как устало это прозвучало. – Из Новгорода, а ещё раньше из Смоленска, из Вильни, из Киева, из Ростова…
– Что ж это тебя по свету носит?
– Послушание у меня такое…
– За что ж это тебя так наказали?
– Нет, я сам его принял.
– Сам? Тогда тебе, сынок, от него не освободиться, пока не исполнишь. Сбросить можно только чужой груз. А своя ноша, сам знаешь, плеч не тянет… потому как к ним приросла, претворившись в плоть и кровь. Я человека, который сам себе избрал путь, ведала…
– И что с ним стало? – Кирилл чувствовал, словно воздух вокруг сгустился, как перед грозой, когда всё стихает, укутываясь в сгущающуюся тьму.
Женщина вопрос Кирилла словно и не слышала. Он уже хотел было тихо встать, как она остановила его:
– Не спеши! Глупо уходить прежде чем поймёшь, зачем приходил.
12
Воспоминания вдовицы Дарьи
с Красной Горы о событиях,
произошедших в Устюге в году 6893
Я не так себе представляла епископа. Точнее, я его вообще никак не представляла. Человек, стоявший в дверях, им был. Я это знала наверняка, но всё равно подумала о том, что даже у наших местных батюшек ризы отливают золотом. А передо мной стоял черноризец, единственным украшением которого было серебро седин. Посох, который он сжимал в руках, делал его похожим на странника. А я почему-то думала, что он за годы добровольного заточения в Перми, стал точь-в-точь как его язычники. Впрочем, ничем особливым они от устюжан не отличались, разве что шубами с шерстью наружу, хотя и у нас их носили многие. Я помню пермских торговцев столько же, сколько себя саму. Они приводили оленей с добытой по дороге северной рыбой, ягодой, мехами. Наиболее удачливые селилась в нашем городе. Такие, как мой отец. Но никому из устюжан не приходило в голову ехать жить в Пермь, даже заядлым звероловам и рыболовам. Никому! Кроме одного… Того самого, что стоял сейчас в дверях избы. Он улыбнулся застенчиво, будто через силу. Я тогда лишь просто отметила это, а по-настоящему поняла значительно позже: человек может измениться до неузнаваемости во всём – в обличье, в походке, в повадках, но если перемены не затронули душу, то улыбка всю жизнь сохраняется такой, какой была в детстве.
Он всегда сторонился наших игр, как бы радостно нам всем не было. «Ты почему так редко улыбаешься?» – «Разве?.» У него была замечательная улыбка. Я была убеждена в этом с того самого утра, когда на первом уроке отец Серафим нас, самых младших, усадил прямо перед собой. Нам было по семь лет. Все остальные ученики были старше нас на три, а то и четыре года. Девять мальчишек и одна девчонка. Белобородый наставник взял вощаную дощечку и вывел на ней дрожащей рукой: АБВ.
«Ну, дети, кто мне скажет, что это за буквы?» – батюшка смотрел поверх наших голов на старших. Но ответ позвучал из нашего младшего ряда. «Аз – буки – веди!» – выпалил мальчишка, сидевший рядом со мной. Отец Серафим благосклонно кивнул усердному ученику, а тот повторил: «Аз – буки – веди… Я – буквы – знаю?» Наставник начал терять терпение: «Да, эти три буквы ты уже знаешь, но есть ещё многих других, которые надо вызубрить, а потом склады, которые каждого слова костяк…» Мальчишка его перебил: «Аз – буки – веди! Но буквы сами собой складываются, говорят за любого из нас: „Я буквы знаю“…»
К концу года мы одолели всю азбучную премудрость. «Теперь, когда вам известны все сорок две буквы, – сказал нам отец Серафим, – вырежьте их на обратной стороне дощечки по порядку – от аза до ижицы». Я очень старалась, даже украсила края узорами, и удостоилась за то особой похвалы. Когда отец Серафим взял в руки следующую дощечку, улыбка ещё оставалась на его изрезанном морщинами лице. Первыми построжели глаза, а потом и губы вытянулись в суровую линию: «А это что? Я сказал, буквы расположить по порядку?!» Мой сосед побледнел, но отвечал твердо: «Отче, особняком от остальных только ферт, фита, кси, пси и ижица». – «Но по-о-о-чему?!» – вопрос был громоподобен. Мальчишка застенчиво улыбнулся: «Потому что заимствованы из греческого алфавита. Ты же сам, отче, сказал, что они употребляются только для иноземных слов…»
На будущий год меня уже не посылали учиться. Я подросла для того, чтобы стать помощницей по хозяйству. Тщетны были мои попытки возразить, что я ещё не выучилась читать по складам и не разумею цифр. «Той грамоты, что есть, достаточно, – осадил меня отец, – чтобы быть подспорьем и мужу в делах, и детям в учении. Вон, соседский сынок, как и ты, год отучился, а уже молитвы читает в соборе, где отец служит. Там, глядишь, чин и место его унаследует…»
Зима сменяла зиму, поторапливая года. Детство как сосулька, свисающая с крыши: привстав на цыпочки, ты примериваешься к ней, чтобы отломить и хрустко разгрызть, а луч солнца выскочит из-за снежных туч, и она, истончав, прольётся капелью прямо у тебя на глазах.
Мы играли в снежки возле торжища. Из-за того что снег был ноздреватый и мокрый, они получались похожими на рогульки. Может, поэтому, достигая цели, они лупили так больно. Мне досталось изрядно. Особенно старался один тощий жердяй. Я размахнулась… Снежок, перелетев через голову моего обидчика, ударил в нарты. Запряжённый в них олень, укоризненно покосился на меня влажным коричневым глазом. И точно с таким же выражением посмотрел на меня мой бывший сосед по ученической лавке, крутившихся возле нарт. «А ты чего тут? – спросила я, уставившись на вощаную дощечку в его руке: – Учишься, что ли?» – «Учусь…» – «Торговать?» – «Нет, что ты!» – улыбнулся он своей обычной застенчивой улыбкой. Я заглянула ему через плечо. Процарапанные на воске знаки напоминали птичьи следы на снегу.
«А это еще что такое?» – «Сам не знаю, азбука наверно…» – «Чья?» – «Пермян, нарты ведь их…»
Даже будучи ребенком, я никогда не чувствовала сил посмеяться над ним. В нём было что-то такое, чего он и сам, наверное, толком в себе не понимал, иначе бы не улыбался так робко и задумчиво…
Мы повзрослели как-то вдруг. Однажды утром я, перекинув косу на грудь, почувствовала, что она теперь не так лежит, как раньше. И все те мальчишки, с которыми мы ещё зимой играли в снежки, каким-то новым взглядом посмотрели на мою косу. Особенно тот длинный жердяй, который стал ещё длиннее, но уже утратил прежнюю неуклюжесть.
Мой бывший сосед по ученичеству не уступал ему в росте. Прознав, что он любит сиживать на высоком берегу Югры, я однажды его там подкараулила. Села рядом и стала ждать, когда он, наконец, заметит моё присутствие и что-нибудь скажет. Бежала вода, день клонился к вечеру. Он произнес, не спуская глаз с излучины: «Жизнь скоротечна как речная быстрина или травный цвет! Как успеть выучиться всей грамматичной премудрости и книжной силе?» Я вспыхнула и, чтобы не разрыдаться, убежала. Разве таких слов я от него ждала!
Спустя три дня я полоскала в речке белье, когда за мной примчалась младшая сестренка: «Скорее, Дашка, тебя батюшка Серафим дожидается!» Едва не утопив рушник, я всё же выловила его и бросила в корыто поверх остального…
Отец Серафим, как и полагается такому гостю, сидел в красном углу под образами. Завидев меня, все домашние засуетились и едва не опрометью повыскакивали друг за дружкой из избы. Я стояла перед батюшкой, пряча мокрые руки под фартук. Отец Серафим прокашлялся: «Сядь, дитятко, и выслушай меня внимательно». Я опустилась на краешек лавки. «Для моего самого лучшего ученика – ты знаешь, о ком я говорю, – подчеркнул он, возвысив голос, – есть два пути: удовольствовавшись приобретённой уже грамотой, жениться, принять сан и служить, скажем, в нашем соборе, или продолжить изучение Писания. «Иже кто оставит отца и мать, жену и дети, братью и сестры, домы и имения имени Моего ради, сторицею примет и жизнь вечную наследит..» Отец Серафим едва не увлекся, но всё же оборвал себя: «Я что хочу сказать, Дарья? Он пойдёт по второму пути, ему никогда не утолить книжного голода, который будет снедать его до самой смерти. Не пытайся это понять, просто поверь мне!.» Я закрыла ладонью рот, чтобы не закричать. Батюшка кроил по-живому. «К тебе, Дарьюшка, сватов засылает Путята (тот самый длинный жердяй). Твои отец с матерью уже согласие дали. Ты не противься этому и приучи свое сердце слушаться разума. Вы будете хорошей парой, я сам вас повенчаю…»
Отец Серафим как в воду глядел: мы прожили душа в душу двадцать лет, вырастили пятерых детей и уже собирались нянчить внуков… Путята к тому времени стал у воеводы правой рукой. Но за каждый щедрый урожай приходится рано или поздно платить бескормицей. И чем дольше длятся хлебные лета, тем страшнее и внезапнее голод…
Однажды Путята вернулся домой раньше обычного. Я ещё и на стол не успела накрыть, стояла у печи. «Знаешь, кого я сегодня видел? – он юркнул босыми ногами в копытца и, поудобнее устроившись на лавке, произнес с расстановкой: – Того самого парня, который батюшку Серафима из себя выводил, ты его помнишь?» Вместо меня ответил выпавший из ухвата горшок. Он раскололся на черепки, во все стороны брызнуло варево. «Обожглась?» – участливо спросил Путята. «Нет!» – ответила я и, уткнувшись в фартук, расплакалась.
На рассвете устюжская дружина скрытно уходила в поход. Против кого? Ради чего? Никто ничего не сказал. Головной отряд вёл мой Путята. Мы простились скомкано и поспешно. Он наклонился меня поцеловать, я увернулась: «Да что ты, на людях!.»
Минуло три дождливых дня. Едва распогодилось, как я отправилась полоть. Солнце стояло в зените, когда по огороду промчалась орава мальчишек, что-то крича. Я им вслед: «Что случилось?» Самый маленький на бегу повернулся: «Тетя Даша, победа!.» Я не успела обрадоваться. У нашего двора остановилась телега. Скорбно сгорбившийся возница был красноречивее любых слов… Что было дальше, я не помню. Знаю только, что продолжала рвать сорняки. Сначала руками, потом зубами. Очнулась в конце межи. Весь мой путь по огороду был выстлан вырванной с корнем ботвой. Поднялась и почувствовала, что не могу пошевелить языком: рот забит землёй. Потом мне сказали, что наша дружина в устье Чёрной речки из засады напала на новгородских ушкуйников, преградив им дорогу в ПермьCXXI. «Они угрожали напасть на Устюг?» – «Нет, но об этом одолжении попросил епископ Пермский…»
Как только установился санный путь, новгородцы прислали нашему князю откуп, признав силу нашей рати и её право дозволить или воспретить набег на Пермь. Серебро, наполнившее казну, сделало уступчивее даже наших житопродавцев. Снаряжая хлебные обозы, стало уже добрым обычаем снижать цену: «Для Пермского епископа?» – «Тогда дешевле на треть! Он же наш, устюжский!» Я не хотел о нём слышать. Он был виноват в гибели моего Путяты и каждого из пяти дружинников. Я даже корову начала выгонять на пастбище позже, лишь бы не встречаться с матерью Стефана. Дома-то ведь бок о бок стоят. И вот в один такой день я вдруг увидела: соседская корова жалобно мычит и трется о изгородь. Что же, её с вечера в хлев не поставили? Ответом было разбухшее вымя. «Тетя Мария!» – позвала я и раз, и другой. Не дождавшись ответа, сбегала к себе во двор за ведром и, встав на него, заглянула во двор: ни души. Пошарив рукой, нащупала щеколду на калитке и вошла. Она лежала у самого порога, неловко подвернув под себя левую руку. Сначала я подумала, что Господь уже прибрал её к себе, но она вдруг судорожно вздохнула как всхлипнула..
Пришли соседи, мы положили ее на лавку под образами, не зная, как быть дальше с ней – ни живой, ни мертвой. «Удар у неё, – определила всеведающая бабка Зинаида, – больше десяти ден не проживет. Соборовать бы..» – «Надо бы с оказией известить Стефана, – предположил призванный по такому случаю отец Василий, заступивший на место почившего батюшки Серафима. – А елеосвящение совершать не могу, потому как в беспамятстве она». Все с готовность согласились и, тихо переговариваясь, поспешили восвояси: человек привычен ко всему, тем более к чужому горю. Когда дверь за последним сочувствующим закрылась, я поняла, что осталась с больной одна. Мне ничего больше не оставалось, как метаться между своими детьми и лежавшей в беспамятстве тетей Марией… Как долго это тянулось? Не знаю, я потеряла счёт сменявшим друг друга дням и ночам, все они слились в одну длинную седмицу. Я поняла это лишь тогда, когда увидела на пороге Стефана. Мы не виделись с той самой поры, когда он отправился в Ростов. Двадцать лет! Нахлынули ли на меня воспоминания? Нет, всё умерло во мне. Я не забыла лишь об одном: он виноват в гибели моего Путяты. «Зачем пришёл? Из-за тебя и твоих язычников я осталась без мужа, а дети без отца! И еще четыре семьи сиротство мыкают..»
Он печально кивнул и, отстранив меня, склонился над матерью. Ужаснувшись себе, я зажала рот рукой. Боже мой, как же я могла забыть! Прижавшись к стене, я стояла, не зная уйти мне или остаться. Стефан между тем огляделся в доме, будто гость: «Скатёрку бы да блюдо с пшеницей на стол. Поможешь сыскать?» Я метнулась к себе. Когда вернулась с чистым столешником и утицей, в доме пахло ладаном, кадило ещё слабо дымилось, окутывая дом спокойной, тихой грустью. Стефан стоял на коленях перед матерью и держал её руки в своих. «Пшеницы нет, только рожь. До нового урожая не дожили, а старый по сусекам скребём. Думаю, у тети Марии тоже закрома не ломятся. Тосковала она без тебя..» – «Она тебе об этом говорила?» – «Разве нужны слова, чтобы одна мать поняла другую?» Не ответив, Стефан положил на стол крест, достал сосуды с красным вином и прозрачным елеем, отлил из них в плошку, смешал и поставил на зерно посреди утицы, окружив её семью стручцамиCXXII и семью свечами. «Воды согрей..» Я поставила котелок, подкинула дровишек в печь. Стефан, затеплив тем временем ещё две свечи, одну протянул мне, а вторую вложил в руки матери. Я придвинулась («Не ровён час, выронит!»). Но нет, свеча горела ровным пламенем, бросая солнечно-жёлтый отблеск на её безжизненные руки.
«Ты её соборовать будешь? Но ведь она в беспамятстве.. Отец Василий сказывал – грех..» – «Она с нами, всё понимает, всё чувствует, даже на рукопожатие мне ответила, просто у неё нет сил веки поднять». Он закрыл глаза и погрузился в моление о болящей. Свечи тихо плавились.. Он взял стручец и крестообразно помазал елеем широкий лоб, крылья заострившегося носа, округлые щёки, пересохшие губы, еле заметно вздымавшуюся грудь и державшие свечу руки. «Отче святый, Врачу душ и телес..» Загасил первую из семи свеч и продолжил молитву. Потом настал черед второй свечи, третьей.. Сумерки, наполнившие избу, обострили звуки: вот зашипел свечной фитилек, вот забурлила вскипевшая вода, вот затрещало смоляное полено в печи, вот в дрёме замурлыкала кошка. Боль ведёт себя так же: то запустит в тебя все когти, а то свернётся калачиком. Стефан, смешав воду с вином, поил с ложки мать. Она прильнула головой к его плечу, словно дитя. «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь..» – тихо приговаривал Стефан. Мать, не открывая глаз, мелко и часто глотала. Красная струйка текла по её подбородку, растворяясь в складках чёрной рясы сына.
Я проведывала их поутру, выгнав на пастбище обеих коров, и вечером, когда, подоив, возвращала бурёнку в хлев. Приносила кувшин с молоком, краюху хлеба, забирая принесённое ранее почти нетронутым. Мать спала, а Стефан сидел перед нею и читал Евангелие. Со стороны это выглядело так, будто отец рассказывает дитяти на ночь сказку.
Минуло два дня. На третье утро я замерла на пороге: Стефан спал, уронив голову на книгу, а тетя Мария творила у печи блины. Если бы не бледность её лица, то и не было ничего особливого в том, что мать хлопочет, чтобы накормить навестившего её сына. Придя в себя, я кинулась на подмогу. «Не надо, Дашутка, я сама, – остановила она меня, слабой, почти прозрачной рукой. – Вдруг я его в последний раз потчую.. А ты лучше сядь, отдохни. Тебе есть от чего устать». Удерживая черпак обеими руками, она окунула его в миску и осторожно вылила молочно-белое тесто на раскалённый лист. Блин, пузырясь, зарумянился по краям золотисто-коричневыми кружевами. «Лучше ты его, дитятко, сними, а то жалко будет, если порву..» Горка блинов росла по мере того, как таяла шкварка сала, которой я только успевала смазывать лист, попутно счищая пригарок. Я отвернулась от жара, чтобы поправить платок, – Стефан, заложив руки за голову, сидел на лавке, где ещё совсем недавно лежала его мать, и с бережным вниманием следил за каждым её движением.
«Проснулся? – улыбнулась она седому сыну. – Умывайся – и к столу, а то всё простынет. Ты блины-то ешь? Я и не спросила, вдруг скоромное не станешь». – «Буду, мама, буду». Он ел, а она, прилежно сложив руки на коленях, смотрела на него, не мигая, как ребенок смотрит на огонь. «Трудно тебе, сынок? Седой, будто старец..» – «Трудно, мама». – «Всё из-за язычников, сынок?» – «Да нет, с ними проще всего. Знаешь, чего ждать. Беда лишь в том, что и они знают, чего от меня ждать должно. Я для них человек из Москвы». – «А ты им скажи, что у нас в Устюге почитай каждый второй корнями из Перми».
Я не утерпела: «И ты, тётя Мария?» – «А хоть бы и я. Моего отца купец привёз. Откуда? Он не помнил, мал был. На меня глянь – ответ на моём лице. Хотя болезнь уж всё с него стерла…» – «Ты красивая, мама…» – «Так ведь ты приехал, сынок. Скажи мне, если не язычники, то кто же так сильно огорчает тебя? Не всё же тебе исповеди слушать! Уедешь, а я разговоры наши буду перебирать, твоими заботами жить». – «Заботы мои, мама, нескончаемы. Пермь – край скудный людьми, но обильный сокровищами природы, в коих и у Москвы, и у Новгорода, и у Литвы, и у Орды нужда великая. Да мало ли ещё у кого…» – «Ну и отдай! Все люди данники, так заведено». – «Но источники иссякнут, если дани не ослабить…» – «Ты не делишься, а они думают, что себе всё оставить хочешь…» – «Книги – мои дети, мои наследники. Будет на то воля Божия, я в епархии монастыри размножу, ибо с ними разрастается собирание книжных сокровищ. Оно сбережёт умы и души от запустения…»
Мать покачала головой: «Подумать только! Ты – епископ! Я один раз архипастыря на празднике издали видела. Важный такой, весь в золоте.. Это, наверно, очень трудно – владычествовать над людьми?» – «Не владыка я им, а заступник. А это труднее. Знаешь, мама, когда я, маленький, канонаршил в нашем соборе, то поглядывал, где там отец, и знал, если что не так, он поправит. А теперь все смотрят на меня. И неверные тоже. От них вся державная смута. Запустение в храмы приходит не из Орды, а из неверных душ. Им самостоятельность государства нашего и мир церкви православной как кость в горле. Потому и митрополитов на Руси не счесть, и тайных переговоров за спиной у великого князя тьма тьмущая. Все об единстве на словах пекутся, а на самом деле власти алчут». – «Сынок, что тебе до них? Каждый в этой жизни как утлая лодья. Один налегке под парусом пройдёт, другой впихнёт в неё всё, что глаз видит. Миг – а на волнах лишь щепки..»
Мы виделись с ним ещё однажды. Уже после того, как я закрыла тёте Марии глаза. «Она тихо, по-христиански умерла», – сказала я в утешение. Он пожал плечами: «Что у Бога является причастием? Может быть, мученичество?»
Рядом с этим человеком я провела детство и встретила юность. Но понадобилось двадцать лет разлуки, чтобы понять, что не так в его улыбке: когда он улыбается, его глаза остаются занятыми созерцанием каких-то вещей, которые он видит своим внутренним зрением. Он и тогда с той же застенчивой улыбкой смотрел на меня, а видел нечто, о чем – я уверена – обычному человеку и предполагать не следует. Чувствовала ли я при этом благоговение, трепет? Не знаю.. Он ждал, что я скажу ещё. Но я молчала. Тогда заговорил снова: «Знаешь, у меня уже никого не осталось, родительский дом без присмотра. Там, правда, две старицы обретаются, их ещё мама приютила. Ты их не гони, пусть свой век доживут, ладно? А во всём остальном дом твой». – «А на семьи остальных ратников у тебя домов хватит?» – не знаю, почему я так зло сказала: то ли от растерянности, то ли от боли… Он прошёл в красный угол, положил за икону грамоту: «Это тебе и твоим детям дарственная», – и тихо затворил за собой дверь.
13
Московское великое княжество,
Устюг, Красная Гора,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
девятый час
Домовитая судьба. Ушёл, чтобы вернуться
Кирилл сидел, боясь нарушить тишину. У него и вправду было такое чувство, будто только что закрылась дверь.
– Вот он, этот дом, – Дарья, все еще перебиравшая чётки воспоминаний, словно очнулась, – мы его на половинки разделили. В одной – приют для убогих, в другой – я с младшими детьми. Старшим нашу с Путятой избу оставила. Ничего, справно живут. Я как сюда переселилась, стала захаживать в Успенский собор. Свечку на помин души его родителей Симеона и Марии поставлю и потом всю седмицу с легким сердцем хожу. А когда его самого не стало, то и собор погиб с ним в одночасье.. Как восстановили, снова туда хожу. Посеревшая от прошумевших над ней лет и зим изба зримо присутствовала в этом возникшем из ничего разговоре.
– Может, заночуешь? У нас места хватит, одно слово – приют.
– Да нет, пойду я, пока не стемнело, идти пора.
– Не стемнело? – неожиданно звонко рассмеялась Дарья: – Так у нас сумерки сгустятся в осень, а все лето ночью светло как днём. Уже давно вечер.
– Тогда я побежал?
– Беги, отче. А коль без тебя уплыли, так ты возвращайся!
– Я вернусь…
14
Московское великое княжество,
Устюг, набережная,
в год 6918 месяца страдника в 9-й день,
девятый час
Никто за одного. Хуже небесного лоцмана только женщина
Отто не спешил подниматься на ушкуй. К чему лишний раз навлекать на себя гнев капитана, которому во что бы то ни стало хотелось спровадить всех с судна? К тому же, почему бы не понаблюдать издали, кто и с кем будет возвращаться? Устроившись на перевёрнутой килем вверх ладье с кульком ещё тёплых пирожков, которые он купил на торжище, Отто принялся бдеть.
Ушкуйники потянулись с берега: задние окликали идущих впереди; те останавливались, поджидая догонявших. Ватагой, громко переговариваясь и похлопывая друг друга по спинам, прошла команда и со второго ушкуя. И что же?! На нём всем заправляет подельник Власия купец Иван Кочерин!
На такую удачу – zwei Nasen töten – не смел надеяться даже расчетливый Ганс Вреде. Предводитель немецкого торгового двора, когда поручал Отто проследить за ушкуйником, понятия не имел, что тот отправится в Биармию на пару с Кочериным. С тем самым, вместе с которым Власий сорвал последнюю сделку с немецким двором. Такого еще не бывало никогда! Когда герр Вреде перенёс окончательный расчёт на утро, оба купца на следующий день не явились. Хозяин русской Birchalle, которая была через дорогу с торговым домом, за скромное вознаграждение присматривавший за своими посетителями, доложил, что к Власию и Ивану подсел ломбардский купец. Он и скупил у них весь товар, не торгуясь.
Ганс Вреде был вне себя: он требовал отыскать вероломного купца и отправить его noch warm ins Jenseits. Кинулись в погоню, а его ни на одном торговом дворе никто не знает. И все же Отто его настиг, уже на подъезде к Нарове, когда купец уже успел поверить в то, что спасся.. Вытерев о траву клинок, Отто проворно обшарил обмякшее тело, испытав мимолетное недоумение. («Слишком легкая добыча, слишком… И где сам товар?») Впрочем, was dich nicht juckt, das kratze nicht. Отто честно принёс Гансу то, что он просил, – жизнь купца, оставив себе то, о чём Вреде не спрашивал – карту Биармии с нанесёнными на неё какими-то непонятными знаками. И не распознанные они являли собой очень важными сведениями для человека, не понаслышке знающего, что на самые главные вопросы ответы приходят тогда, когда меньше всего ждешь. Но когда он, выполняя поручение герра Вреде, напросился на ушкуй Власия, то невольно подумал, ощупывая под подкладкой карту, что приблизился к разгадке. Кому карта могла принадлежать? Викингам, ходившим в Биармию для добычи? Саамам, промышлявшим в этих краях мехами, серебром и моржовой костью?
Не вызывало сомнений то, что рисунок исполнил умелый картограф, а знаки нанёс некто другой – небрежно и поспешно. Возможно, у того, другого, был повод торопиться и таиться.. Но что могли означать эти знаки? Если это были места, особо богатые добычей, то почему этот некто не обозначил их одинаково? А может быть, он просто делал список с чужой карты, переняв для верности и обозначения?
Отто был уверен: все ответы там, в Биармии. Но до неё еще надо доплыть, не получив удар в спину. И от этого может быть только одно средство – дружба. В одиночку человек уязвимей. Но с кем из ушкуйников получится установить приятельские отношения, если невозможно понять, то ли все между собой дружны, то ли наоборот здесь человек человеку – вынужденный попутчик? Jedermanns Freund ist niemandes Freund. Попробовать сойтись поближе с их капитаном? Но если бы не плотницкие навыки и не высокая плата, которую Отто за себя предложил, вряд ли бы Власий позволил бы ему подняться на ушкуй.
По привычке погладив бритую голову, Отто поморщился: руку колол отросший ёжик волос. Значит, остаются сотник и те двое, в сером. Словно отвечая его мыслям, показался Фрол. Странно, что он не сбежал, как другие, по тропинке. Значит, тоже сидел где-то неподалёку в засаде? А вот и те двое.. Лица по-прежнему укрыты. Интересно, а их почему взял на ушкуй Власий? Возможно, они заплатили за себя не дешевле, чем он. От них, сдаётся, вероятнее всего получить удар сзади. А может быть, самый простой способ не иметь их за спиной – пропустить их впереди себя, оказав такую, с позволения сказать, дружескую услугу?
И в это самое время он увидел монаха. Немец оторопело перевёл взгляд с развевающейся рыжей бороды на ноги, которым черноризец косолапо загребал песок.. Не увидев сапог, Отто подумал, что монах, сверкая чёрными пятками, топает босиком, но потом, приглядевшись, понял, что тот в какой-то детской, даже с виду очень мягкой, обувке.
И всё бы ничего, если бы монах не спешил на ушкуй! Отто едва не застонал. Как бывалый моряк, он был убежден, что небесные лоцманы приносят несчастье. Ещё большей бедой на корабле может стать только присутствие женщин. К счастью, монаха приняли на второй ушкуй. Увидев, как Власий окидывает взглядом команду, Отто поспешил на судно. Но стоило ему ступить на палубу, как он увидел женщину.
1
9 июля 1410 года от Рождества Христова.
2
Здорово ли ты живешь? (древнепермск.).
3
Откуда ты приехал (древнепермск.)?