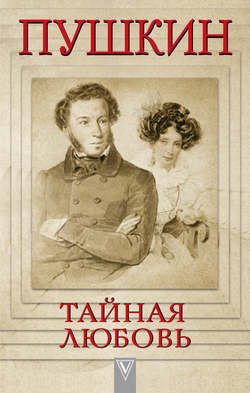Читать книгу Пушкин – Тайная любовь - Людмила Сидорова - Страница 3
Глава 1. Вместо Екатерины – «северинъ»?
ОглавлениеИз собранного многими поколениями пушкинистов разнообразного биографического материала явствует, что недолюбленный в семье ребенок Пушкин рано созрел для взрослых отношений – словно стремился компенсировать ими ущербность своего детства. Ответного глубокого чувства к родителям у него не было, хотя потребность в любви к ним в нем была достаточно велика. Как отмечает более или менее наблюдательная женщина Анна Керн, до вступления в Лицей у него были только две пронесенные потом через всю жизнь привязанности. К суррогату своей биологической матери – престарелой «мамушке» Арине Родионовне и к сестре Ольге[2]. Он был оторван от них в 11-летнем возрасте, и как только получил возможность выходить из стен своего сугубо мужского учебного заведения, стал бессознательно стараться найти им замену.
Свою идеальную мать он увидел и полюбил в этом качестве в образе Екатерины Андреевны, супруги проводившего лето за работой в Царском Селе писателя и историка Николая Михайловича Карамзина. Возможно, с нарочитой дезинформации самого Пушкина ничего не знающая об его отношениях с царскосельскими девушками Анна Керн даже утверждала, что Екатерина Андреевна и была его самой первой любовью. Чем писатель Юрий Николаевич Тынянов и поспешил воспользоваться для раздутия целой нереальной истории о возрастной «утаенной» пассии юного поэта.
Свидетельство тому, что Пушкин просто «уматерил» себе Екатерину Андреевну, оставила внимательная и прозорливая фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны графиня Роксандра Скарлатовна Эдлинг. Тронутая тем, что именно супругу Карамзина Пушкин спросил первой после своего смертельного ранения на дуэли, она 17 марта 1837 года писала их с поэтом общему приятелю В.Г. Теплякову: «Екатерина Андреевна (жена историка) – предмет первой и благородной привязанности Пушкина»[3].
Примерно то же самое о нем утверждала и другая умная женщина, Александра Осиповна Смирнова-Россет: «Я наблюдала за его обращением с г-жой Карамзиной: это не только простая почтительность по отношению к женщине уже старой, это нечто более ласковое. Он чрезвычайно дружески почтителен с княгиней Вяземской, m-me Хитрово, но его обращение с Карамзиной совсем не то»[4]. Значит, это почти родственное, сыновнее. По возрасту Екатерина Андреевна Пушкину в матери подходила вполне – была старше него на 19 лет. Очевидно, что таким его, лишенного любви собственной биологической матери, отношение к Карамзиной и было всегда. И сама она воспринимала юношу Пушкина наподобие своего приемного сына. Благо, ей было не привыкать воспитывать чужих детей – при ней достаточно благополучно росла падчерица Соня, дочь Н.М. Карамзина от его первого брака.
Вероятно, по образцу Екатерины Андреевны Карамзиной Пушкин в пору, когда у него «любовь младую взволновала кровь», представлял себе и собственную будущую идеальную супругу – не только любовницу, но и сестру, подругу, в определенном смысле соратницу. Красавицу, но не кокетку. Общительную, но не с распахнутой настежь душой. Заботливую, но не назойливую. Хозяйку дома и мать его детей, но с творческими задатками и пониманием особенностей его труда. Ему нужна была женщина, способная обеспечить ему душевный покой, надежный тыл, условия для работы. И он уже в самом раннем своем юношестве приметил соответствующую его жизненным интересам девушку – красивую, умную и талантливую старшую сестру своего одноклассника Александра Бакунина. Дух захватывало уже одно то, что у барышни, которую он на исходе детства намеревался «усестрить», а в юношестве – «уневестить», даже имя было такое же, как у его идеальной матери Карамзиной: Екатерина…
Эти мои записки – своеобразное дополнение к работе о Екатерине Бакуниной известного тверского краеведа Владимира Сысоева «Поэта первая любовь. Екатерина Павловна Бакунина»[5]. Не припомню иного более полного свода сведений об этой во многих отношениях интересной женщине. Не расстраивайтесь, впрочем, если вам не удалось подержать в руках эту книгу, изданную в Твери в 2006 году Бакунинским фондом тиражом всего в тысячу экземпляров. «Отталкиваясь» от нее, мне с неизбежностью придется цитировать для вас самое важное из ее основных разделов.
В целом не повторяя известное, я расскажу вам много нового, неожиданного. Потому что Екатерина Бакунина в жизни Пушкина значила гораздо больше и в творчестве его отразилась гораздо ярче, чем, к моему великому сожалению, покойный ныне Владимир Иванович Сысоев успел это в своей книге показать. По прошествии времени ряд моментов его труда требует более детального объяснения, дополнения, уточнения, а иногда – исправления. Словом, и читателям книги В.И. Сысоева, и поклонникам творчества Пушкина, и всем интересующимся русской литературой предлагаю попробовать вместе со мной взглянуть на Екатерину Бакунину глазами не только отстраненного исследователя, а и самого влюбленного в нее человека и поэта Александра Пушкина. А попутно – научиться читать и глубже понимать не только литературные, но и графические шедевры поэта по его непреложным правилам рисования, которые стану для вас выносить на поля своей книги. Договорились? Тогда начнем.
С чего? А прямо с портрета нашей героини. Могло ли статься, чтобы талантливый график Пушкин не запечатлел в своих рукописях облика той, в которую был влюблен на протяжении не одного даже года? Владимир Сысоев тоже считал, что не могло. Искал и, как ему показалось, нашел профиль пушкинской юношеской любви, который и приводит в своей книге без ссылки на иного «первооткрывателя»[6].
Признаться, в этом выборе трудно не только усмотреть сходство с прижизненными портретами Екатерины, но даже понять логику исследовательского поиска Владимира Ивановича. Профилем Бакуниной он считает крайний левый во втором ряду сюиты чернового наброска статьи «Причинами, замедлившими ход нашей словесности…», найденного в бумагах поэта за 1824 год. Почему – не объясняет. Женских профилей в этой сюите вообще только три. И показавшийся знакомым Владимиру Сысоеву вовсе ведь не один из них.
ПД 834, л.3[7]
«Кошачья» ласковость, льстивость, игривость улыбки при достаточно жестком, оценивающем взгляде глаз под сросшимися на переносице бровями и тяжеловатом «немецком» подбородке этого профиля – вовсе не открытость и милость, доброжелательность ко всем окружающим людям, которыми светится лицо молодой смотрящей на мир глазами художницы девушки Екатерины Бакуниной.
Пушкин начинает свой набросок о ходе российского литературного процесса в 1824 году – во время пребывания если не в Одессе, то в Михайловском. Но пририсовывает к наброску графическую сюиту, судя по разному цвету чернил, этапами и гораздо позднее, уже после восстания декабристов. Ибо в ней крупно присутствует граф Мирабо, обличитель абсолютизма в период Великой французской революции. Под ним подразумевается трусливо бежавший за границу к изображенному с ним теперь плечом к плечу родному старшему брату-дипломату Сергею «декабристский» приятель автора рисунка Николай Иванович Тургенев. Лацкан дипломатического фрака Сергея Ивановича и вырезан в форме буквы «С». Стоит, кстати, запомнить этот один из главнейших принципов пушкинской методики графического шифрования.
ПРАВИЛО № 1: Пушкин «маскирует» буквы по одной и слитно в утолщениях линий профилей и «вырезает» их в деталях одежд своих персонажей. Так, инициалы персонажей-мужчин он всегда «вырезает» в лацканах их фраков, воротниках сюртуков и кружевах сорочек
Идет следствие по делу декабристов, и Пушкин прямым изображением опасается выдать Николая Ивановича, доказывающего властям свою непричастность к заговору. Из соображений секретности Александр Сергеевич изображает Тургенева к тому же одним Мирабо, тогда как по данному им самим Николаю прозвищу – Два Мирабо – требовалось бы рисовать сразу обоих, графа Оноре и его отца – экономиста-меркантилиста маркиза Виктора Мирабо. Одинарные, просто двойные и даже двойные «валетные» обозначения Тургенева в виде Мирабо в рисунках Пушкина встречаются много раз.
Изображенный в шляпе-треуголке с поникшим пером плюмажа персонаж с наполеоновским профилем – стратег и тактик восстания декабристов на Украине Сергей Иванович Муравьев-Апостол. Да, он – далекая родня нашей Екатерине Бакуниной через жену ее двоюродного дяди, но присутствует здесь вовсе не по этой причине. С Тургеневым и Муравьевым-Апостолом Пушкин водил дружбу в свои доссылочные петербургские годы. На шеях у обоих опознанных нами персонажей есть наведенная пушкинским пером чернота: автор рисунков, лично оценивающий готовность своих знакомцев к революционным «подвигам», уже как будто метит места для будущей палаческой веревки.
ПРАВИЛО № 2: как отмечает Л.А. Краваль, в пушкинских рисунках всегда более крупны по отношению к родителям – их родные и приемные дети, воспитанники, а по отношению к своим старшим братьям и сестрам – младшие дети (к старшим по статусу в ложе братьям-масонам – младшие братья). По разнице в размерах профилей старших и младших можно достаточно точно определить возраст каждой из категорий.1
Если бы он рисовал эту сюиту после казни декабристов, то должен был бы оставить намек на такую же петлю и у шеи верного соратника Муравьева-Апостола – Михаила Павловича Бестужева-Рюмина. Последний – гораздо младше своего шефа возрастом, поэтому его горбоносый профиль заметно крупнее муравьевского.[8]
Бестужев-Рюмин связан с Муравьевым-Апостолом, что называется, «одной веревочкой», которая с первого взгляда на этом рисунке и обнаруживается. Это – дружба, преданность, даже почитание младшим по возрасту Бестужевым своего высокообразованного и высоконравственного старшего товарища. При более внимательном рассмотрении рисунка эта веревочка оказывается частью контура напяленного на голову Бестужева масонского революционного красного колпака с кисточкой, свидетельствующего о по-юношески максималистских, прямо экстремистских устремлениях его обладателя.
Чернит Пушкин на профиле Бестужева только нос. Значит, порицает пагубное любопытство юноши, который искренне, от всей своей неопытной души «повелся» на декабристскую пропаганду по принципу русской пословицы о любопытной Варваре: за то же самое ей, как известно, на базаре нос оторвали.
ПРАВИЛО № 3: рисунки Пушкина зачастую метафоричны: их персонажи действуют или находятся в состоянии, положении персонажей соответствующих пословиц или поговорок, известных литературных героев, исторических или политических деятелей.
Профиль реально замаранного участием в восстании 14 декабря 1825 года «сумасшедшего» Вильгельма Кюхельбекера («Кюхли», как записано в линиях его прически) Пушкин вообще не просто приштриховывает инициалом имени этого персонажа – огромной буквой «В», а как бы зачеркивает: не считает этого своего друга реально способным на что-либо серьезное. Он хорошо знает, что тот мог отправиться на Сенатскую площадь и просто, что называется, из тщеславия или за компанию – из одних благородства своей натуры, верности дружбе и товариществу.
ПРАВИЛО № 4: Пушкин всегда примарывает штриховкой или просто размазанными чернилами профили персонажей, запятнавших себя участием в антигосударственных выступлениях, а также отметившихся неприличными, непорядочными поступками по отношению к нему самому. Подставивших. Обманувших. То есть замаравших в его глазах собственную репутацию. Если он приштриховывает изображение собственное, то понимает, что выглядит замаранным (к примеру, связью с декабристами) в глазах кого-то из важных для него людей.
Несмотря на наличие в сюите трех женских профилей, в ней нет мысли о любви в первом приходящем в голову смысле этого слова. «Заплаканный» возрастной женский профиль в верхнем левом углу сюиты – поистине левая, либеральная по взглядам Екатерина Федоровна Муравьева, мать и тетка многочисленных братьев Муравьевых и Муравьевых-Апостолов, а также Михаила Лунина. Ее дом в Петербурге многие годы был штабом занимающихся пропагандистской деятельностью продекабристских организаций.
ПРАВИЛО № 5: полные имена-фамилии персонажей-мужчин Пушкин обычно записывает печатными буквами или скорописью в линиях волос на их головах, а также в бородах и бакенбардах.
Два профиля вверху справа – в своем положении совершенно правые в стремлении если не спасти, то хоть как-то облегчить участь своих вскоре угодящих под царские репрессии родных и близких. Это – родная сестра Муравьева-Апостола Екатерина Ивановна Бибикова с таким же, как у ее брата, наполеоновским профилем. А также вскоре последующая за мужем на каторгу жена Никиты Михайловича Муравьева Александра Григорьевна, кстати, четвероюродная сестра самого Пушкина, с которой он перешлет всем сибирским сидельцам и своему лицейскому товарищу Пущину в частности послания «Во глубине сибирских руд…» и «Мой первый друг, мой друг бесценный…»
ПРАВИЛО № 6: персонажи, располагающиеся в пушкинских сюитах слева – неправые по жизни, а в общественном смысле – либерально настроенные люди (чем радикальнее их либеральность – тем выше их изображение в сюите или на листе). Изображаемые на листе справа – по пушкинскому ощущению правые, поступающие правильно, справедливо по отношению к нему, самим себе и окружающим.
Эта сюита – личная оценка поэтом задумываемого его былыми приятелями. Как бы его впечатление, воспоминание о виденных им людях и событиях и слышанных в продекабристских бессарабских и одесских кругах разговорах, приведших к последствиям 1825 года. То есть, по сути, лишь указание на их время – до 1825 года. А точнее – в 1823 году, на что в сюите указывает собственно пушкинская деталь – факт его крупной одесской сентябрьской ссоры с еще одним его давним приятелем, начальником 1-го стола 4-го отделения воронцовского ведомства титулярным советником Дмитрием Петровичем Севериным (1792–1865). Отдаленным следствием ее стало то, что поэт в конечном итоге из Одессы попал в Михайловское, а не на революционную Сенатскую площадь.
ПРАВИЛО № 7: пушкинские сюиты всегда долговременны, как бы сериально сюжетны; время в них идет по часовой стрелке – слева направо. Если это воспоминания, то время в них, естественно, «пятится», движется в обратную сторону.
Сюиту и открывает изображенный под всевидящим оком начальника Пушкина с Севериным, российского министра иностранных дел Карла Васильевича Нессельроде, профиль императорского доносчика Северина. Его «бледное», узкобровое, как-то по-девичьи, слишком уж миловидное лицо Владимир Сысоев и принимает за чистые и благородные черты Екатерины Бакуниной.
ПРАВИЛО № 8: профили подчиненных Пушкин всегда изображает под профилями их начальников.
Большим лицом-маской, личиной Северина прикрывается конкретный собиратель информации о пребывающем в Одессе Пушкине для царя – французский эмигрант на русской службе, управляющий 3-й экспедицией Коллегии иностранных дел граф Иван Степанович Лаваль, в подчинении которого находится изображенный именно поэтому непосредственно под ним Сергей Иванович Тургенев. На Лаваля конкретно указывает буква «Л», в форме которой вырезан лацкан его дипломатического фрака.
В целом же более подробно разбирать эту сюиту – читать в линиях рисунков фамилии персонажей, сопоставлять профили с прижизненными портретами их прототипов и так далее – в данной работе не имеет смысла. Осталось разве что удивиться тому, что Владимир Иванович Сысоев полностью игнорирует пушкинскую подсказку у интересующего нас сейчас профиля Северина. Совершенно незамеченной им осталась достаточно типичная пушкинская шифровка – вписанное печатными буквами в утолщения линий ото лба до уголка губ профиля имя его владельца: «Дмитрiй». И, конечно же, скорописно начатая линией волос и продолженная печатными буквами в утолщениях линий глаза фамилия: «Северинъ».
ПРАВИЛО № 9: текст в пушкинских рисунках приводится, понятно, в орфографии его времени – с непривычными нашему взгляду славянскими буквами «ҍ», «i», а также «ъ» в конце твердо заканчивающегося слова. Правописание слов с этими буквами с неизбежностью придется изучить и усвоить.
Частичные имя и фамилия как бы заочно присутствующего здесь высокого начальника Дмитрия Северина читаются так же просто в его расположенном над северинским частичном же, естественно, профиле: от вертикально (над бровью) стоящей буквы «К» – по линиям глаза «арлъ». Сама бровь – часть фамилии «Несс[ельроде]».
Фрагмент ПД 834, л.3
Присутствует в этой сюите, кстати, и сам тайный заказчик информации о Пушкине. Всю когорту изображенных на этом листе персонажей предваряет находящийся в крайней левой позиции из-за лысины кажущийся особенно высоким заканчивающийся у переносицы буквой «А» и в целом очертаниями напоминающий римскую единицу лоб императора Александра I. Если и это не убеждает, прочтите под лупу имя «Александръ I» в утолщениях самой линии лба.
ПРАВИЛО № 10: «разнокалиберные» буквы в линиях профилей пушкинских знакомцев фиксируются в самых разных положениях – нередко они не только перпендикулярны, но даже «стоят вверх ногами» друг относительно друга.
Профиль Северина в пушкинских сюитах встречается не однажды. Для примера привожу два достаточно показательных. Если при его профиле нет инициалов и букв фамилии, то обязательно есть пиктограмма – иронический родовой «герб» для этой личности. Ведь Северин – человек невысокого происхождения, сумевший выбиться в дипломаты благодаря семейным связям с сильными мира сего по поводу оказания услуг, так сказать, бытового характера.
ПРАВИЛО № 11: при многих пушкинских профилях встречаются нарисованные пером или волосяными карандашными линиями пиктограммы – более мелкие изображения-подсказки, намеки на особенности личности портретируемого (его происхождение, профессию, увлечения, таланты, жизненные интересы…)
Пушкинский «герб» для дипломата Дмитрия Северина представляет собой изображение ножниц с половником и чиновничьим гусиным пером. Сумейте разглядеть этот «герб» в прическе Северина на листе ПД 831, л. 63, а также под нарочно размазанными «фамильными» ножницам, слегка заслонившими поварешку с пером, – в верхней части сюиты на листе 12 в ПД 834 (фамилия этого же прототипа нижнего профиля просто «запуталась» в его челке).
ПД 831, л. 63
Фрагмент ПД 831, л. 63
Фрагмент ПД 834, л. 12
Фрагмент ПД 834, л. 12
Фрагмент ПД 834, л. 12
Почему именно такой «герб»? А вспомните известную пушкинскую одесскую 1823 года уничижительную эпиграмму на этого персонажа – «отлуп» за укоры во вмешательство в жизнь женщин «благородного семейства» баронессы Вельо, которых Дмитрий Северин считал своими близкими родственницами:
Ваш дед портной, ваш дядя повар,
А вы, вы модный господин —
Таков об вас народный говор,
И дива нет – не вы один.
Потомку предков благородных —
Увы, никто в моей родне
Не шьет мне даром фраков модных
И не варит обеда мне.
(«Жалоба») (II, 287)[9]
Пушкинские друзья знали, что вместо строк «И дива нет – не вы один» на самом деле следует читать «высокородный Северин». Точнее – «Северинъ», то есть без традиционного для тогдашнего написания в слове «сѢверъ» «ятя». Ибо арзамасский Резвый Кот Дмитрий Северин, как это точно знает Пушкин, – этнический полунемец. А потому, несмотря на полное созвучие, русская фамилия его образована не от славянского корня «сѢверъ», а от имени деда Дмитрия Петровича по отцу – гамбургского гражданина, коммерсанта Иоганна Арнольда Северина (ударение в последней трети имени, естественно, – на «и»).
Надеюсь, убедила, что к героине этого исследования Екатерине Бакуниной приведенный в книге Владимира Ивановича Сысоева профиль ровно никакого отношения не имеет? Ну, просто нечего нашей девушке в подобной «компании» пушкинских персонажей делать!
Но, спросите вы меня тогда, в каких иных рукописях Пушкина гораздо логичнее было бы искать портрет Екатерины? Разумеется, в относящихся к периоду начала самой его влюбленности в нее. То есть практически в ПД 829 – начатой им в 1817 году Лицейской тетради, в значительной мере заполненной черновиками песней поэмы «Руслан и Людмила».
И есть ведь в этой Тетради лист 50, на котором в поэтажном, по мнению ученых, «сердечке» располагаются портреты, как это трактуется во множестве повторяющих «догадку» Абрама Марковича Эфроса вполне признанных источников, знаменитых актрис пушкинского времени: Семеновой, Вальберховой, Истоминой, Колосовой с ее матушкой-танцовщицей Евгенией Ивановной…
ПД 829, л. 50
Вот ведь как настоящая в этой галерее актриса, Екатерина Семеновна Семенова (1786–1849), пушкинистов в заблуждение вводит! Увидят открывающий «сердечную» сюиту ее профиль в сценической короне Клитемнестры – и сразу начинают смотреть сквозь «звездную» тему на весь этот рукописный лист. И прежде всего «бросаются» к самому яркому портрету этой сюиты, предполагая его прототипом соперницу Екатерины Семеновой по трагической сцене Марию Ивановну Вальберхову (1789–1867).
М.И. Вальберхова, художник В. Баранов[10]
Конечно, если задаться целью найти женщину похожего типа среди тогдашних актрис, то и портрет Вальберховой вроде бы к месту, несмотря на полное отсутствие сведений о каких-либо отношениях с нею у Пушкина. Однако рисовать актрис, даже и лично знакомых, просто так поэт не стал бы: как нет в его творчестве лишних слов, так не найти в его графике и бессмысленных рисунков. Более того, в разделении труппы и публики на сторонников Семеновой и Вальберховой Пушкин был явным представителем «партии Семеновой», хотя и одобрительно отзывался о комических ролях Вальберховой.
Но в принципе молодого поэта совсем не увлекала чисто театральная суета. Не могли его долго удерживать возле себя и возрастные пусть даже и талантливые женщины: во время доссылочного петербургского шастания Пушкина с его приятелем Севериным по-за сценическими кулисами Семенова старше него на 13, Вальберхова – на 10 лет. А изображенная на самом ярком рисунке сюиты на листе 50 женщина между тем – явно молода.
Да и уже нетеатральная соседка Семеновой по «сердечку» – вполне узнаваемая рядом ученых княгиня Авдотья Ивановна Голицына – должна бы, кажется, подсказывать, что собраны на этом листе царицы вовсе не тогдашней сцены, а молодой пушкинской души. И потому для нас гораздо логичнее было бы не вдаваться в театральные склоки пушкинского времени, а сопоставить портреты из этого «сердечка» с начальными именами женщин из полушутейного, но хронологически выверенного донжуанского списка, составленного самим поэтом на московской Пресне по просьбе сестер Ушаковых в 1829 году[11].
2
Сысоев Владимир. Анна Керн. Жизнь во имя любви. – М., «Молодая гвардия», 2010, с. 23.
3
Вересаев В.В. Пушкин в жизни. Систематический свод подлинных свидетельств современников // Сочинения в 4 томах. – М., «Правда», 1990, т. 2, с. 83.
4
Смирнова-Россет А.О. Записки с 1825 по 1845 год. – М., «Захаров», 2003, с. 331.
5
Сысоев Владимир. Поэта первая любовь. Екатерина Павловна Бакунина. – Тверь, ЗАО СДЦ «Престо», 2006.
6
Сысоев Владимир. Там же, с. 23.
7
Здесь и далее рисунки А.С. Пушкина и их фрагменты приводятся по вышеупомянутым факсимильным изданиям: «Рабочие тетради А.С. Пушкина». Т. I–VIII. – СПб – Лондон, 1995; «Альбом Елизаветы Николаевны Ушаковой». – СПб, «Logos», 1999; «А.С. Пушкин. Болдинские рукописи 1830 года». Т. I–III. – СПб, «Альфарет», 2013.
8
Не умаляя заслуг в изучении пушкинской графики «первопроходцев» Т.Г. Цявловской, А.М. Эфроса, И.С. Зильберштейна и других, замечу, что принципы рисования поэта в систему начала выводить в своей книге «Рисунки Пушкина как графический дневник» (М, «Наследие», 1997) саратовская пушкинистка Любовь Алексеевна Краваль. Некоторые правила заимствованы мною в этом ее исследовании. Оно оказалось весьма полезным дополнением к книге Г.А. Невелева «Истина сильнее царя…» (М., 1985), каталогу атрибуций Р.Г. Жуйковой «Портретные рисунки Пушкина» (СПб., 1996), работам по графике Пушкина С.В. Денисенко и С.А. Фомичева…
9
Цитаты из произведений А.С. Пушкина приводятся по его Полному собранию сочинений в 16 томах – М., Л., АН СССР, 1937–1959. В скобках римской цифрой обозначается том, арабской – страница.
10
Баранов Василий. Портрет М.И. Вальберховой – http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/86/Valberhova_Maria.jpg
11
Губер П. Донжуанский список Пушкина. – М., «Алгоритм», 2000, с. 43–44.