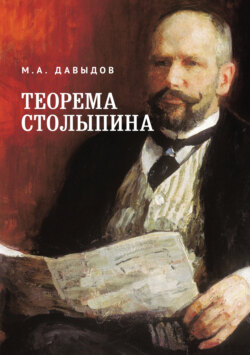Читать книгу Теорема Столыпина - М. А. Давыдов - Страница 6
Часть первая
Две ипостаси дворянства
ОглавлениеА теперь попробуем вкратце раскрыть точку зрения Чичерина.
Крайне важной является его мысль о том, что в Европе, благодаря феодализму, у людей развивались «чувства чести, права и свободы», в то время как у нас владычество Орды, тирания Иоанна Грозного, всеобщее крепостничество и его эволюция утвердили «привычку к беспрекословному повиновению».
Здесь можно ждать недоуменного вопроса – а разве в России не было феодализма?
Не было – вопреки учебникам. Не было в качестве системы, которая на протяжении веков определяла многие сферы бытия жителей, как это было на Западе.
Можно говорить о зарождении элементов феодализма на рубеже XI–XII вв., которые в Северо-Восточной Руси были прерваны в XIII в. Иногда считают, что эти тенденции оживились в XIV – первой половине XV вв., однако эпоха Ивана III покончила с ними.
Вообще говоря, до 1917 г. ни один из русских историков, кроме Н. П. Павлова-Сильванского, никогда не говорил о феодализме в России. Его отсутствие часто считалось одним из фундаментальных отличий между Востоком и Западом Европы, наряду с католичеством, римским правом и т. д.
Феодализм «вдруг» появился в нашей истории после «Академического дела» 1929 г., когда был репрессирован цвет отечественной исторической мысли, те, кто не умер от голода в 1917–1920 гг. и не эмигрировал: С. Ф. Платонов, Н. П. Лихачев, М. К. Любавский, Ю. В. Готье, М. Д. Приселков и десятки других ученых.
Затем началось волевое внедрение в общественное сознание теории общественно- экономических формаций.
В итоге концепция, разработанная Марксом и Энгельсом на близком и понятном им материале истории Западной Европы, которая давала классические примеры рабства и феодализма, усилиями В. В. Струве и Б. Д. Грекова была механически перенесена на историю России – принципиально иную по большинству базовых позиций, чем история Западной Европы!!!
Так возникла удивительная конструкция – «русский феодализм»: феодализм без феода, т. е. без частной собственности на землю, без взаимных строго фиксируемых законом обязательств вассала и сюзерена, без системы опосредования высшей власти, дающей права сословиям, и очень многого другого.
Общим с Западной Европой было одно – ограничение прав крестьянства, его сословная неполноправность, но это явление наблюдается в мировой истории едва ли не со времен Гильгамеша на разных широтах и в разные эпохи. Однако при этом на Западе – феодализм с поземельной зависимостью крестьян, в основном закончившейся в XV веке, а у нас – российское крепостничество, иногда приближающееся к рабству, иногда – равное ему. А это совсем не одно и то же.
И ежегодно с 1 сентября миллионам школьников и студентов снова рассказывают о «раннефеодальном государстве Киевская Русь», о «феодально-крепостническом строе», пережитках феодализма и пр., из чего явно и неявно следует, что наша история, хотя и имеет некоторые второстепенные отличия, но, в общем, такая же, как в Западной Европе.
Однако реальные факты никак не укладываются в эту схему.
Дело в том, что из основанного на законе феодального строя естественно вырастают правовое государство и гражданское общество, а из вотчинно-крепостнического, – нет, да и сейчас растут, как можно видеть, с огромным трудом.
Феодализм рождает рыцарство, рождает, условно говоря, Айвенго, Квентина Дорварда и четырех мушкетеров, чья жизнь не отделима от чувства «чести, права и свободы», а вотчинно-крепостническое государство – материализацию формулы «яз, холоп твой» со всеми многочисленными последствиями.
Мысли Чичерина делают понятнее тот очевидный факт, что в 1240 г., когда Батый взял Киев, Русь, в общем, была свободной страной, хотя в ней, разумеется, как и во всех европейских странах, были зависимые люди. А через 240 лет как бы вышедшее из монгольского ига единое Русское государство во многом оказалось православной калькой с Золотой Орды.
Первой в зависимость от государства попала элита.
Иван III (1462–1505) на глазах одного поколения русских людей – за 25 лет – присоединил к Москве почти все земли Северо-Восточной Руси. Окончание удельного периода и образование единого государства стало началом самодержавия, поэтому в эпохе Ивана III – корни всей последующей русской истории.
Он стал господином, вотчинником государства, и это резко изменило модус его отношений со знатью, которая из товарищей, сподвижников великого князя быстро превратилась в его слуг, точнее, холопов. Они и начали теперь именовать себя его холопами и подписываться уменьшительными именами (например, «Васюк Шуйский»).
До Ивана III бояре и вольные слуги имели право свободного отъезда, т. е. могли переходить от одного князя к другому, причем их земельные владения оставались, как считается, экстерриториальными. Иван III начал препятствовать переезду бояр даже к своим родным братьям, а отъезд в Литву стал считаться государственной изменой[13].
Социальной базой Ивана III стало войско из поместного дворянства, созданного им в массовом масштабе.
Это потребовало радикального изменения отношений собственности в стране. Проблему испомещения (размещения) дворян Иван III решил за счет вновь присоединяемых к Москве территорий.
На этих землях широко практиковался «вывод», т. е. переселение части местных землевладельцев и купцов во внутренние московские города. Больше всего от этой политики пострадал Новгород. До конца 1480-х гг. из 30-тысячного Новгорода было выведено свыше 8 тысяч представителей боярства и купечества, расселенных во внутренних городах и уездах (в Москве, на Лубянке, например, жили выселенцы из Новгорода).
Их громадные вотчины, как и земли Новгородской церкви, вопреки данному в 1478 г. обещанию, были конфискованы. В 1489 г. были выведены вятчане, «земские люди», получившие земли на юго-западной окраине, а вятские купцы были переселены в Дмитров.
Конфискованные земли великий князь передавал своим слугам (дворянам) в поместье, за что они обязаны были нести военную службу. Тем самым на этих территориях, с одной стороны, подрывалась социально-экономическая база возможной оппозиции Москве, а с другой, создавалась надежная опора великокняжеской власти и в то же время увеличивалась численность дворянского ополчения (поместного войска), ставшего основой армии.
Поместье, в отличие от вотчины, было условной собственностью, его нельзя было ни продавать, ни передавать по наследству, ни дарить, ни завещать в монастырь на помин души.
Создание поместной системы стало началом огосударствления земельной собственности в масштабах страны.
Зародившись на северо-западе Руси, поместье очень быстро проникло во внутренние уезды, и считается, что в середине XVI в. площадь поместий относилась к площади вотчин как шесть к четырем.
Параллельно Власть начала массированное наступление на права церковных и светских вотчинников, все больше стесняя их право распоряжения родовыми землями. Служба теперь стала обязательной для всех землевладельцев, т. е. и для бояр также.
Усилиями Ивана III, Василия III и Ивана Грозного к середине XVI в. ни светская, ни церковная вотчина не имели правовой защиты, что практически доказала опричнина с ее конфискациями, выселениями и переселениями. Самый знатный человек мог лишиться собственности в любой момент, часто – вместе с жизнью.
Де-факто к концу правления Ивана Грозного вся земельная собственность в стране была огосударствлена – насколько это было возможно в конце XVI в.
Это чрезвычайно важный итог становления самодержавия. Не нужно специально пояснять, как это укрепило позиции государства.
Служилые люди, подобно натуральной повинности, несли обязательную военную службу, не вознаграждаемую никакими гражданскими привилегиями, порядок которой был окончательно разработан в Уложении о службе 1556 г.
Служба начиналась с 15-ти лет, когда «недоросль» становился «новиком», и была пожизненной. У тех, кто уклонялся от службы, землю отбирали и пускали в раздачу. Те, кто не являлся на службу (их звали «нетчиками», потому что в списке против их имени ставилась помета «нет»), подвергались наказанию батогами и/или лишались поместья.
Помещик владел поместьем, пока нес службу в армии. Если у него не было взрослого сына, который мог бы принять на себя обязательства отца, то земля уходила в казну и перераспределяться. Поместье не должно было выходить из «службы».
Вместе с тем естественное желание дворян людей закрепить землю за своей семьей было очень сильным, поэтому – если была такая возможность – служебные обязанности де-факто могли перелагаться на зятьев и родственников. Как говаривал С. Ю. Витте, «это слишком по-человечески».
Итак, служилые люди по отечеству, т. е. помещики, были крепостными государства, и это постепенно привело к закрепощению значительной части крестьян, поскольку только они могли стабильно обеспечивать потребности солдат-дворян и их семей.
Важно понимать, что создание поместной системы было вызвано объективными причинами, а не было только плодом, скажем, скверного характера Ивана III и его потомков.
Дело в том, что Россия того времени – отрезанная от морей бедная страна с огромной территорией, редким населением и слабой торговлей, не имеющая никаких залежей цветных металлов и вынужденная веками ввозить не только медь, свинец и олово, но и серебро. Власть не имела возможности платить армии полноценного жалованья, как это было в куда более богатых странах Запада.
Поэтому поместье стало своего рода натуральной платой за военную службу. Однако эту специфичную зарплату требовалось еще и материализовать – превратить в еду, дом, одежду, вооружение и т. д.
Сделать это могли прежде всего крестьяне (хотя на Руси пахали и дворяне), однако они еще были свободными. Судебник 1497 г. лишь официально распространил на всю страну уже существовавшую норму о возможности ухода от помещиков в течение плюс-минус недели от Юрьева дня осеннего (26 ноября ст. стиля) с уплатой 1 рубля пожилого землевладельцу. Судебник 1550 г. повторил ее, увеличив пожилое до 1,5 рублей.
Забегая вперед, отмечу, что Иван III, несомненно, закрепостил бы крестьян, имей он такую возможность. И хотя, сломав многовековую историю Руси и судьбы десятков тысяч людей, он делом показал подданным, «кто тут хозяин», прикрепить земледельцев к поместьям ему было не по силам.
Сделать это власть смогла лишь в 1590-х гг., когда население было обессилено безумным правлением Ивана Грозного – более чем 30-летние беспрерывные войны и ужасы опричного террора привели к тому, что в науке называется «хозяйственным разорением и запустением русских земель 1570-1580-х гг.».
Слова Чичерина о том, что «самые отношения государя к подданным сложились под монгольским влиянием…это были отношения господина к холопам», хорошо иллюстрируются известным сообщением посланника Священной Римской империи Сигизмунда фон Герберштейна о Василии III: «Властью, которую он применяет по отношению к своим подданным, он легко превосходит всех монархов всего мира… Всех одинаково гнетёт он жестоким рабством… Он применяет свою власть к духовным так же, как и к мирянам, распоряжаясь беспрепятственно и по своей воле жизнью и имуществом всех; из советников, которых он имеет, ни один не пользуется таким значением, чтобы осмелиться разногласить с ним или дать ему отпор в каком-нибудь деле. Они открыто заявляют, что воля государя есть воля Божья и что ни сделает государь, он делает по волей Божией… Равным образом, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь деле неверном и сомнительном, то в общем обычно получает ответ: «Про то ведает Бог да великий государь»11.
Иван Грозный довел эти тенденции до немыслимых для христианской страны той эпохи пределов.
Он не просто в корне изменил традиционные нормы отношений между государем и элитой, он не гнушался лично участвовать в пытках и убивать своих бояр, не говоря о простолюдинах. Реально его правление продемонстрировало, что произвол власти может не иметь границ – как Космос (оставляя в стороне вопрос о том, насколько люди XVI в. мыслили в таких категориях).
Опричнина и ее продолжение после 1572 г. ясно показали, что никто в стране – включая царского сына – не защищен от самой жестокой смертной расправы.
Трудно сомневаться в том, что опричнина задала, если так можно выразиться, определенный стандарт государственного бесчеловечия, не говоря о стандарте ужаса.
Гражданская война начала XVII в. (Смута) разрушила старый социальный порядок, однако после ее окончания он стал быстро возрождаться, а в 1649 г. Соборное Уложение закрепостило крестьян и посадских людей, прикрепив их к месту жительства (при этом кое-какие права за крестьянами оставались).
Телесные наказания по-прежнему равно распространялись на людей без различия чинов. В том числе служилые люди всех категорий как царские холопы, по обычному московскому порядку, подлежали телесным наказаниям[14], которые считались нормальным средством устранения любых непорядков12.
Разумеется, неверно представлять Россию своего рода огромной Веселой башней из повести Стругацких «Трудно быть богом», в которой круглосуточно шли бесконечные расправы.
Вместе с тем насилие было неотъемлемым компонентом русской жизни. Нэнси Коллманн, отнюдь не склонная преувеличивать различия между Россией и Европой в правовой сфере13, в своей монографии об уголовном судопроизводстве XV – начала XVIII вв. отмечает, что «насилие буквально пронизывало Россию изученного периода… Россия была в данный период социумом с очень высоким уровнем насилия, поскольку крепостное право было основано на насилии, вне зависимости от того, насколько широкой автономией пользовались крестьянские общины на практике. Землевладельцы наказывали крепостных кнутом; главы семей тиранически управляли молодежью и женщинами своих деревень; государство выслеживало и ловило беглых крепостных. Такой тип делегированного государственно-санкционированного насилия был изначально присущ российскому проекту государственного строительства»14. Добавлю, что с этим проектом органично сочетались и другие виды насилия.
Известный богослов и публицист XVII в. Юрий Крижанич, мечтавший о том, что Россия возглавит борьбу славянских народов против немецкой угрозы и приехавший в Москву с этим проектом, был поражен тем, что увидел: «Во всем свете… нет такого крутого правительства, как в России… всякое место наполнено кабаками, заставами, откупщиками, целовальниками, выемщиками, тайными доносчиками: люди отовсюду и везде связаны… все должны делать со страхом и трепетом… укрываться от толпы правителей или палачей»15…
Едва ли не больше он был потрясен холопским положением элит, абсолютно невозможным в Европе.
Его эмоции вполне понятны.
Рафаэль Барберини еще в 1565 г. удивлялся тому, что царь «приказывает сечь, растянув за земле, знатнейших бояр… Нет почти ни одного не высеченного чиновника, но они не гонятся за честью и больше чувствуют побои, чем знают, что такое стыд»16.
Раболепство придворных поражало иностранцев, отмечавших, что «самые турки… не изъявляют с более отвратительной покорностью своего принижения перед скипетром султана»17. До 1680 г. в дворянских челобитных сохранялась фраза: «Чтобы государь пожаловал, умилосердился как Бог».
Поэтому, выдвигая программу преобразований страны, Крижанич говорит о необходимости повышения достоинства дворянства и, в частности, считает необходимым, чтобы «князья, бояре, боярские дети могли писаться полными, а не уничижительными именами, были освобождены от наказания кнутом, батогами, клеймения, отнятия члена, пытки и смертной казни, а наказывались бы только ссылкой и отнятием почестей и должностей»18. Однако реализована эта программа была только через столетие – при Екатерине II.
Если так обращались с элитой, то легко представить, каким было положение остального населения. Понятно, что схема отношений царя со знатью автоматически репродуцировалась по нисходящей.
Так на всех уровнях самовоспроизводилось крепостное право.
Поскольку в обществе не было уважения к правам личности, то и телесные наказания не имели того позорящего значения, которое существовало в Западной Европе (попытаемся представить героев Дюма, на которых кто-то поднимает руку).
Петр I, вступив на престол, унаследовал этот порядок, при котором жестокость была условием выполнения любого дела, хоть частного, хоть государственного, и усилил его до максимума.
Об этом написано так много, что я лишь напомню о том, что важно для нашего текста.
В строительстве той России, о которой он мечтал, должны были участвовать все ее жители, все его подданные, и именно таким образом, какой он считал целесообразным.
Дворянство обязано было постоянно служить и давать кадры военных и гражданских чиновников, купечество – платить и давать кадры менеджеров, желательно эффективных, крестьянство – платить подати и поставлять солдат и рабочих для бесчисленных строек необъявленных петровских пятилеток, а урезанное в правах и численности духовенство – молиться за победу православного оружия и следить за оппонентами власти.
Петр окончательно закрепостил население страны.
Он максимально ужесточил государственные требования ко всем категориям населения, в том числе и к служилым людям, доведя всеобщее закрепощение сословий как архаичную мобилизационную систему до уровня определенного «регулярства».
Он уничтожил старый порядок, при котором государственные повинности падали не на все население. В армии и на флоте теперь служили те, кто раньше не служил, а налоги платили те, кто прежде не платил; – для увеличения контингента плательщиков подушной подати и рекрутов он ликвидировал холопство (холопы несли повинности только в пользу своих господ) и маргинальное состояние вольных-гулящих людей[15].
Такова была плата за Империю.
В результате Северной войны в России появилась регулярные армия и флот европейского уровня, а их сохранение и развитие в будущем стали для Петра I приоритетом.
Весьма серьезно изменилось положение служилых людей, превратившихся в дворян.
Они по-прежнему служат бессрочно – до «дряхлости или увечий», но меняется сам характер службы – из периодической она становится круглогодичной и для всех начинается с низшей солдатской ступени.
При этом де-факто они по-прежнему могли лишиться своих земель, не обладая правом собственности на них, и подвергнуться репрессиям, вплоть до смертной казни.
Указ о единонаследии 1714 г. уравнял поместье и вотчину. Первое стало наследственным владением, и указ разрешал наследовать недвижимость лишь одному из сыновей, а не всем, как было раньше. Это должно было создать армию военных и гражданских чиновников, которые не имели бы отныне иного источника доходов, кроме жалованья.
Появляется чиновная номенклатура. Петр с самого начала своего царствования исповедует принцип служебной годности человека в противовес знатности и закрепляет эти тенденции в «Табели о рангах» 1722 г., радикально расширившей социальную базу Империи.
Кроме того, с 1714 г. дворянские дети обязаны учиться под угрозой запрета женитьбы. Петр считал, что только сочетание службы и образования делает человека благородным.
А что до службы, то она была настолько тяжелой, что немалая часть дворян, не хотевшая, условно говоря, 365 дней в году стоять под ружьем, уклонялась от нее, как могла.
Один за другим следовали указы о карах за неявку на смотры и службу, сама частота которых лучше всего говорит о масштабе проблемы. «Нетчики» были постоянной тревожной заботой Петра I.
Он боролся с ними весьма сурово, используя широкий диапазон угроз и взысканий – от «жестокого наказания и разорения» до конфискации имущества и лишения прав состояния, причем одновременно он стремился материально поощрять доносчиков, получавших имущество объекта доноса. И эти угрозы не были пустыми словами. Известно, что при Петре 20 % поместий сменили хозяев.
Более того, указ 11 января 1722 г. фактически поставил «уклонистов» вне закона и приравнял к изменникам. Не явившиеся на смотр «будут шельмованы, и с добрыми людьми ни в какое дело причтены быть не могут, и ежели кто таковых ограбит, ранит, что у них отымет, и у таких, а ежели и до смерти убьет, о таких челобитья не принимать и суда им не давать, а движимое и недвижимое их имении отписаны будут на Нас бесповоротно».
Их имена должны быть «для публики прибиты к виселицам», а те, кто их поймает и сдаст властям, получат половину их имущества, хотя бы это были «их собственные люди»19.
Нежелание служить было так велико, что известны случаи, когда дворяне записывались в купечество, в однодворцы, странствовали по России, скрывая свое дворянство и даже «поступали в дворовые к помещикам»20.
Обычным делом при Петре был приказ гвардейскому капралу арестовать виновных в упущениях чиновников вплоть до московского вице-губернатора и «держать в цепях, и в железах скованных», пока «совершенно не исправятся»21, наказание кнутом, клеймение и «вечная ссылка» за нарушение царского запрета рубить лес22.
В 1722 г. в Великолукской провинции по подозрению в сокрытии от переписи людей, по царскому указу, «было подвергнуто пытке и бито кнутом или палками 11 дворян и 85 крестьян, из них от побоев умер 1 дворянин и 10 крестьян; арестовано 7 дворян и 6 дворянских жен и детей, из них один скончался от ужасных условий содержания»23.
Как известно, всю жизнь Петр I собственноручно избивал своих подданных разного звания и положения, а бывало, и граждан других стран. Вторые не всегда переносили это так спокойно, как первые. Когда Петр ударил палкой нанятого им для строительства Петербурга гениального архитектора Ж.-Б. Леблона, тот умер от унижения и позора24.
Поэтому прав, конечно, А. В. Романович-Славатинский, замечая, что шляхетство в ту эпоху «находилось почти в такой же крепостной зависимости от правительства, в какой от него крестьяне»25.
Однако.
Однако мы должны понимать и то, что, обратив всех в полных рабов, Петр создал великую державу.
Что благодаря ему у русских дворян и, можно думать, у русского народа появилось доселе не очень им знакомое и крайне важное чувство победителей, причем не кого-нибудь, а могучей шведской армии во главе с героем тогдашней Европы Карлом XII.
В прошлом остались времена, когда к русским дипломатам при европейских дворах относились с нескрываемым пренебрежением.
Это чувство со временем укрепится славой Семилетней войны, победами над турками, присоединением Крыма, созданием Новороссии и разделами Польши.
Я, избави Бог, сейчас не пытаюсь сказать, что обретенное государственное величие оправдывает страдания подданных и самые настоящие измывательства над ними – я более, чем далек от этой столь любимой сталинистами схемы.
Я лишь хочу подчеркнуть, что вне этого чувства победителей, без учета этих эмоций – нам не понять людей XVIII–XIX вв.
Правление Петра I стало вторым после Ивана Грозного апогеем самодержавия в нашей истории.
Все вышесказанное позволяет коснуться одной важной проблемы.
Даже в профессиональном сообществе понятия «самодержавие» и «абсолютизм» зачастую используются практически как синонимы и редко дифференцируются. Это – тоже результат волевого внедрения с 1930 г. решением Сталина теории общественно- экономических формаций в русскую и мировую историю, что породило перманентную «разруху в головах» наших соотечественников.
В результате правление Алексея Михайловича, который «всего лишь» установил крепостное право, в учебниках трактуется как «зарождение абсолютизма», а царствование его сына Петра I, железной рукой проведшего преобразования, кардинально изменившие страну, – как «утверждение абсолютизма».
Попробовал бы, к примеру, «король-солнце» Людовик XIV («государство – это Я») построить не то, что Петербург, но даже Таганрог, или флот в Воронеже (условные), или выкопать пару каналов петровскими методами во Франции![16] Об «Утре стрелецкой казни» и не упоминаю. Надо думать, участь Бастилии решилась бы тогда намного раньше 1789 года!
В действительности, абсолютизм – это синоним европейской монархии по Монтескье. Это если и не правовое государство, то государство, которое стремится стать таковым.
А самодержавие – это возможность по воле царя устроить и опричнину, и провести петровские преобразования, и росчерком пера сделать десятки тысяч государственных крестьян военными поселянами и многое-многое другое.
Первый абсолютный монарх в России – Александр II, который начал трансформацию страны в правовое государство! И тоже, замечу, по своей воле.
После смерти Петра I начинается постепенное раскрепощение дворянства (а также духовенства и горожан), служить становится легче, петровские строгости понемногу смягчаются.
По мнению А. Б. Каменского противоречивость реформ Петра, модернизационных по сути, но проводившихся путем громадного усиления крепостничества, сильнее всего отразилась на дворянстве. С одной стороны, оно получило условия для превращения в «полноценное сословие», а с другой, оказалось в куда большей зависимости от государства.
Вместе с тем «мир новых идей, который стал известен дворянину петровского времени, светское образование, которое он теперь получал, возможность познакомиться с жизнью собратьев по сословию заграницей – все это заставило русских дворян задуматься над своим положением, сословными нуждами и интересами.
С Петра процесс складывания дворянства как единого сословия начинается как процесс консолидации русского дворянства. Суть его была в постепенном обретении сословных прав и привилегий и одновременном освобождении от государственного рабства, что означало начало борьбы дворянства с государством за свою свободу, под знаком которой прошло все XVIII столетие.
Борьба эта имела определяющее значение для исторических судеб страны и стала возможной благодаря тому, что те же условия, которые обеспечивали процесс становления дворянского сословия, и прежде всего привилегированный правовой статус, превратили его и в самостоятельную политическую силу»26.
В 1736 г. пожизненная служба дворян сокращается до 25 лет, а 18 февраля 1762 г. Петр III подписывает «Манифест о даровании вольности и свободы благородному российскому дворянству», само название которого лучше всего говорит о том, что оное дворянство доселе не имело ни того, ни другого.
«Манифест» уничтожил обязательность службы и разрешил неслужащим дворянам выезжать заграницу. То есть дворяне официально перестали быть крепостными государства, что, в числе прочего, подрывало моральное обоснование крепостного положения крестьян, работа которых на господина прежде оправдывалась его службой государству.
С 1760-х гг. начинается отсчет первого, а с 1780-х гг. – второго поколения «непоротых русских дворян». Первое поколение дало генералов-героев 1812 г., второе – офицеров-героев 1812 г. и старших декабристов.
Наконец, в 1785 г. Жалованная грамота дворянству официально закрепила сословные права дворян, в том числе и дарованное им в 1782 г. право собственности на землю.
То есть за полвека после Петра I положение дворянства радикально изменилось – юридически оно стало свободным. Самодержавие пошло на ограничение своей власти.
Но здесь самое время подумать над промежуточным вопросом: какие человеческие типажи успели сформироваться за 300 лет такой истории?
Часть ответа очевидна – такие, которые носили в себе все следы оскорбительного, пренебрежительного отношения государства к человеку и его правам и в целом и в бесчисленных частностях.
Могли ли забыться вчерашние, позавчерашние и более давние незащищенность, издевательства и др.?
Уместно также спросить, могло ли что-то всерьез измениться в сознании дворян от того, что их перестали пороть?
Могло – и постепенно стало меняться.
Широко известно мнение В. О. Ключевского о петровских преобразованиях: «Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощенном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства – это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»27.
Спора нет – во множестве случаев раскрепощаемый, а позже освобожденный раб продолжал психологически оставаться рабом. Однако у части дворян, поначалу, естественно, меньшей, чтение и приобщение к культуре, полученной благодаря Петру, постепенно родило то самое чувство собственного достоинства, об отсутствии которого как о примете русского средневековья говорит Б. Н. Чичерин.
Характерно в этом смысле, как князь М. М. Щербатов уже в екатерининское время рассуждал о петровском рукоприкладстве. Царь бил приближенных, пишет Щербатов, «не разбирая ни роду, ни чинов», что противоречило обычаям, им же и введенным, потому что «многие из нас, конечно, восхотят скорее смертную казнь претерпеть, нежели жить после палок или плетей», пусть даже нанесенных «священными руками и под очами божия помазанника».
«Всякой век имеет свои нравы, а век тот, который застал Петр Великий и с воспитанными в коем людьми жил, был таков, что побои не инако, как по болезни почитали, не считая их себе в бесчестие, хотя бы те и кацкими (палаческими – М. Д.) руками были учинены».
Из разрядных книг известно, продолжает историк, что «иных» после наказания плетьми «отсылали к тому головою, с кем местничался», а «иных» за какую-нибудь провинность ставили под виселицей и палач бил их по щекам. Их имен Щербатов называть не хочет, дабы не огорчать их потомков, но тогда это было обычным делом, людей эти наказания не бесчестили, «и они по-прежнему в чины и должности употреблялись».
Поэтому неудивительно, что Петр Великий со своим «горячим» нравом вел себя с другими в духе времени и «сам воспитанию своему уступал». Щербатов знал многих из «претерпевших такие наказания», но ни один из них за эти побои не «пожаловался на Петра Великого или бы устыдился об оных сказать, или бы имел какое озлобление на него; но всех паче видел я исполненных любовию к нему и благодарностию.
А сие и доказует, что сей поступок не в порок особе Петра Великого должно приписать, но в порок умоначертанию тогдашнего времени»28. Как можно видеть, эволюция чувства собственного достоинства русской элиты здесь очерчена весьма наглядно.
Впрочем, у многих дворян это чувство появилось и зримо проявилось, по меньшей мере, уже в 1730 г., когда членами Верховного Тайного Совета была предпринята попытка ограничения самодержавия Анны Ивановны, хотя и неудачная.
Далее оно развивалось во многом благодаря более гуманным, в сравнении с петровским, правлениям Елизаветы Петровны и Екатерины II.
В лице своих лучших представителей дворянство демонстрировало не только европейский уровень образования, но и достаточно независимый стиль отношений с носителями верховной власти.
Таковы братья Никита Иванович и Петр Иванович Панины, которые родились еще при Петре (соответственно в 1717 и 1721 гг.) и не раз оппонировали Екатерине II.
Таковы отстоящие от них на поколение братья Александр Романович и Семен Романович Воронцовы, родившиеся при Елизавете – в 1741 и 1744 гг.
Однако не будем лучших отождествлять со всеми и преувеличивать масштабы психологического раскрепощения дворянства – оно только начиналось и явно отставало от юридического.
Тот же М. И. Кутузов (1745–1813), по слухам, лично варил фавориту Екатерины II Платону Зубову кофе, и говорят, что «зубовская фаворитка» – обезьянка, сиживала у него на парике со всеми вытекающими – в прямом и переносном смыслах – последствиями. Впрочем, тут Кутузов был не одинок.
Павел I попытался воскресить многое из того, что уже начало забываться. Его царствование во многом было попыткой вернуть дворянство в прошлое – не буквально в петровское время, конечно, но как бы в стилистику страха.
Однако в одну реку не входят дважды, и дворяне – как умели – продемонстрировали Павлу, что его самодержавие ограничено их удавкой.
Предвижу возражение – а разве дворцовые перевороты не говорят о свободном сознании дворянства? Думаю, что нет. Ведь и преторианцы в древнем Риме – отнюдь не свободные люди. Это рабы, сделавшие бунт доходным ремеслом.
И здесь уместно привести один весьма интересный документ.
В 1801 г. посол России в Англии граф С. Р. Воронцов в напутственном письме сыну Михаилу, который уезжал из Лондона начинать «взрослую» жизнь на родине, предупреждал его, что он увидит страну, которая резко отличается от Англии, где тот вырос и где «люди подчиняются лишь закону, перед которым равны все сословия и где для человека естественно чувство собственного достоинства.
У нас – невежество, дурные нравы как следствие этого невежества и форма правления, которая, унижая людей, отказывая им во всяком возвышении души, приводит их к алчности, чувственным наслаждениям и к самой гнусной низости, и к заискиванию перед любым могущественным человеком или фаворитом государя.
Страна слишком велика для того, чтобы государь, будь он хоть новым Петром Великим, мог все делать сам, без конституции и твердо установленных законов, без независимых судов, чьи решения были бы непреложны».
В силу природы русской власти он вынужден опереться на «самого приближенного министра», который становится чем-то вроде великого визиря и повсюду назначает своих родичей и друзей, которые «будучи уверены в силе этой протекции и в своей безнаказанности, становятся пашами. Весь двор лежит у ног визиря, а вся империя следует его примеру.
Нация униженная, ослабленная, утопающая в роскоши и долгах, обладает в то же время такой легкостью характера, что она забудет ужас деспотизма, от которого страдала, когда ей разрешат носить круглые шляпы и туфли с загнутым носком.
Вы увидите, как они разговаривают настолько же свободно, насколько были раньше мрачны, запуганы и молчаливы, а поскольку нынешний государь хорош, они считают себя действительно свободными, не задумываясь над тем, что у человека может измениться характер, или что ему унаследует новый тиран. Нынешнее состояние государства есть ничто иное, как приостановленная тирания, а наши соотечественники подобны римским рабам в дни Сатурналий, после которых они вернутся в свое обычное рабство»29.
Этот хирургически безжалостный и точный анализ рисует картину слегка европеизированной восточной деспотии, при этом картину не абстрактную, а в высшей степени конкретную – ведь не прошло еще и двух месяцев после убийства Павла I.
В 1802 г. М. М. Сперанский писал Александру I следующее: «Я бы желал, чтоб кто-нибудь показал различие между зависимостью крестьян от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, какое имеют помещики на крестьян своих…
Вместо всех пышных разделений свободного народа русского на свободнейшие классы дворянства, купечества и проч, я нахожу в России два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только в отношении ко вторым, действительно же свободных людей в России нет, кроме нищих и философов»30.
Несложно увидеть, насколько созвучны мысли Сперанского в 1802 г. тому, что писал Воронцов-старший в 1801 г.
Вместе с тем оба «непоротых» поколения, вступивших в жизнь в конце XVIII – начале XIX вв., в лице своих лучших представителей никоим образом не ощущало себя рабами верховной власти. Для них Россия – не деспотия, а европейская монархия в понимании/определении Монтескье, император – монарх, а они – дворяне-носители принципа Чести, системообразующего начала монархии.
Их понимание чести соответствует формуле того же Монтескье: желание почестей при сохранении независимости от власти. Честь, несомненно, ключевое понятие, на которое замкнуто все мироощущение множества дворян той эпохи.
Они ясно различали понятия «Государь» и «Отечество». Приверженность «собственно Государю» и «любовь к отечеству» не тождественны друг другу. Эти понятия могли совпадать, точнее накладываться друг на друга, а могли и не совпадать. Характерно сделанное в 1812 г. замечание Воронцова: «Приятно жертвовать жизнию, когда любовь к Отечеству ничем не отделяется от любви к своим Государям и ничто иное, как одно и то же»31.
Они чувствовали себя слугами престола, но не рабами, хотя жизнь, конечно, иногда вносила коррективы в это мироощущение.
Отмечу, что 10 лет беспрерывных войн, которые Россия вела в 1804–1815 гг., заметно повысили у дворянства чувство ответственности за судьбы страны, а значит, и собственной значимости, чем отчасти и порожден феномен декабризма. Не зря цесаревич Константин Павлович считал, что война портит армию – у людей неизбежно повышается число степеней свободы.
Однако сейчас я говорю о лучших из дворян, а лучшие всегда в меньшинстве. Показателен следующий эпизод.
В 1814 г. генерал-адъютант Винценгероде в горячности дал пощечину одетому в солдатскую форму офицеру, обидевшему хозяина квартиры-саксонца, несмотря на жесткий приказ вести себя с местными жителями дружелюбно. Генерал принял его за солдата[17]. Будущий декабрист С. Г. Волконский объяснил любимому им начальнику, что тот оскорбил офицера, и «тогда добрый старик» предложил офицеру дуэль, несмотря на разницу в званиях, что законом категорически запрещалось – «благородный поступок, не оправдывающий, но некоторым образом уменьшающий вину Винценгероде».
Увы, офицер предпочел просить генерала о том, чтобы тот «при случае не забыл» представить его к награде. Волконский пишет: «Тут уже я покраснел за соотечественника и внутри себя не мог не сказать себе, что этот подлец не заслуживал моего соучастия»32.
Характерно и замечание, сделанное в 1816 г. Михайловским-Данилевским, сопровождавшим Александра I в поездке от Петербурга до Волыни. Если в Москве царю представилось 42 дворянина, то в Житомире, «весьма посредственном губернском городе» – 200. При этом в Житомире предводитель дворянства граф Илинский «произнес прекрасное приветствие его величеству, в то время как предводители в семи великороссийских губерниях не могли при государе отворить рта и только низкими поклонами показывали свою преданность. Они более являли из себя метрдотелей, занимавшихся угощением, нежели представителей дворянства.
У одного из них император спросил, почему он не был на смотру войск, происходившем поутру. – «Я распоряжался столом для вашего величества», – отвечал предводитель»33. А ведь губернские предводители дворянства – очень важные персоны в то время, их и было менее 50-ти человек на всю Империю!
Но, как видим, некоторым из них привычнее была роль старого графа Ростова, затевавшего обед для Багратиона, чем старого князя Болконского.
При этом большинство дворян не ощущало свою зависимость от престола как нечто дискомфортное, отчасти потому, что это, в свою очередь, делало их повелителями крестьян и подначальных; так, в частности, проявляется крепостническое сознание.
Все по Державину: «Я царь – я раб – я червь – я Бог…».
Хотя, Гаврила Романович, можно думать, имел в виду менее прозаические сюжеты.
Конечно, положение дворян в эпоху Николая I разительно отличалось в лучшую сторону от положения их предков при Петре I. И все же известный эпизод с бородами славянофилов в этом плане курьезен лишь отчасти[18]. На деле правительство показало дворянству, что не собирается отказываться от своих прав по контролю за ним.
Однако – еще и еще повторю – все наши суждения о зависимости дворянства от государства будут односторонними, если мы не будем постоянно иметь в виду, что чувство принадлежности к непобедимой державе у русских людей после 1815 г. неизмеримо усилилось даже в сравнении с суворовскими временами.
Ведь Россия действительно открыла и закончила свой XVIII век в совершенно разных статусах. Начала она с позора Нарвы, а закончила Итальянским походом 1799 г., когда, по выражению Марка Алданова, Суворов «достиг высшего предела славы, при котором именем человека начинают называть шляпы, пироги, прически, улицы. Все это и делалось в ту пору в Европе, особенно в Англии». А потом, несмотря на позор Тильзита, Россия в конечном счете низвергла такого колосса, как Наполеон.
«Русские – первый в мире народ», «Россия – первая в мире держава», – часто повторяет в своих письмах после вступления в Париж А. П. Ермолов, и с ним, безусловно было солидарно подавляющее большинство русских дворян.
При этом Ермолов отнюдь не закрывал глаза на негативные стороны жизни страны. Однако ради такого величия с ними можно было худо-бедно мириться – в надежде на будущее их исправление.
Ощущение того, что ты часть Победоносного, пусть и несовершенного мира, – огромная вещь. Для многих людей это часто оправдание даже мрачного статус-кво – и серьезное оправдание.
Отечественная война 1812 г. стала важнейшей вехой в нашей истории вообще и в идейном развитии, в частности.
Самосознание русских людей поднялось на новый, несравненно более высокий уровень, закономерно усилив чувство национальной исключительности – ведь только России удалось остановить Наполеона.
Война и заграничные походы русской армии показали, что феномен Империи Петра I по-прежнему существует и работает. Мысль о том, что «наша отсталость» более пригодна для защиты Отечества, нежели «европейская образованность» в разных вариациях звучала в публицистике 1812 г.
Александр I, ученик Лагарпа, пропитанный идеями XVIII в., мечтал дать России свободу и политические права. Однако сделать это, не касаясь крепостничества, было невозможно, а покушения на свой образ жизни дворянство не потерпело бы. Тем не менее после 1815 г. царь на новом уровне возвращается к своим либеральным планам эпохи Сперанского.
Михайловский-Данилевский, сопровождавший Александра I в поездке по Швейцарии, в своем «Журнале за 1815 г.» отмечает, что царь неоднократно заходил в дома тамошних крестьян и что «душа его, конечно, страдала, когда он сравнивал состояние вольных швейцарских поселян с нашими крестьянами. Сердце Государя напитано свободою, если бы он родился в республике, то он был бы ревностнейшим защитником прав народных. Он первый начал в России вводить некоторое подобие конституционных форм и ограничивать власть самодержавную, но вельможи, окружающие его, и помещики русские не созрели еще до политических теорий, составляющих предмет размышлений наших современников. Он не мог сохранить привязанности к людям, которые не в состоянии ценить оснований, соделывающих общества щастливыми». Из истории мы знаем, что в других странах народы требовали свои права от монархов и вступали с ними в борьбу за них, а у нас, наоборот, император пожелал «возвратить нам оные, но никто его не понимал; напротив, многие на него роптали»34.
Тем не менее, победив Наполеона, Александр I даровал конституцию Польше, мечтая распространить ее и на Россию. В 1816–1819 гг. было проведено безземельное освобождение крестьяне в Прибалтике, предпринимались попытки сделать то же самое в Малороссии.
В 1818 г. он заказал людям, чье мнение ценил, подготовить свои варианты освобождения (проекты Аракчеева, Гурьева, Балугъянского), и тогда же в Варшаве под руководством Новосильцева началась работа над «Уставной грамотой Российской империи», новым конституционным проектом (его следы мы находим в «Конституции» Никиты Муравьева). Секретность в Империи была первым признаком серьезности намерений власти – об Уставной грамоте не знал даже будущий император Николай Павлович – вплоть до Польского восстания 1830–1831 гг.
Однако упорное убеждение царя в существовании всемирного антимонархического заговора в сочетании с мистицизмом (оценить который в полном объеме, на мой взгляд, могут лишь люди искренне и глубоко верующие) покончило с либеральными начинаниями. Последней каплей здесь стало восстание Семеновского полка осенью 1820 г. Финал правления Александра I был отрицанием, прямой противоположностью его началу.
Одновременно наиболее яркие представители дворянской молодежи из второго «непоротого поколения» создали тайную организацию, которая ставила целью изменение существующего строя.
Однако невозможно оспаривать тот факт, что в самом начале они видели себя не противниками, а помощниками императора, поскольку ими двигали те же стремления, что и Александром I (до поры) – видеть на своей родине свободу и право, а не вотчинно-крепостнический строй. Хотя и не сразу, но они пришли к идее освобождения крестьян.
Имея большое внешнее сходство с другими дворцовыми переворотами, их восстание, как известно, радикально отличается от них сутью – оно затевалось не ради смены племянника на тетю, как в 1741 г., мужа на жену, как в 1762 г., или отца на сына, как в 1801 г.), а ради свободы, законности и уважения прав человека, против рабства и произвола.
Однако, как точно заметил Б. Н. Чичерин, «именно эти возвышенные идеи были еще не по плечу русскому обществу, которое все держалось на крепостном праве. Декабристы составляли в нем ничтожное меньшинство. Это был цвет русской молодежи, но цвет, оторванный от почвы, а потому обреченный на погибель»35.
Поиски свободы в декабристском ключе не были близки большинству дворянства, его устраивало статус-кво.
Итак, некоторые из промежуточных выводов, важных для этой книги, таковы.
1. К 1725 г. сформировался феномен Империи Петра I – мощного в военном отношении государства, основанного на всеобщем закрепощении сословий, т. е. на полном бесправии населения.
Для Власти население страны были расходным материалом, без особенного различия в социальном положении. Веками люди были для нее, как сказали бы в XXI в., чем-то в роде одноразовой посуды – это восточная схема отношений с подданными.
2. При этом дворянство, с одной стороны, было «первым среди бесправных». На него вплоть до середины XVIII в. распространялись основные «прелести» режима – личная и социальная незащищенность, возможность наказания вплоть до лишения чести, имущества и жизни.
А с другой стороны, будучи «рабами верховной власти», дворяне одновременно были господами, а потом и повелителями крепостных.
Повторюсь: одновременное пребывание в двух человеческих измерениях не могло не отразиться на их психологии.
Этот «амбивалентный» психологический Янус очень серьезно и многообразно повлиял на нашу историю. Во многом из-за него и сегодня, а не то, что во времена Чичерина, становится стыдно за взрослых и, казалось бы, крупных людей, ведущих себя как среднестатистические дворовые.
Очень долго дворянство ощущало свою значимость и важность только в соотнесении с бесправностью нижестоящих.
Элита, у которой нет подлинного сознания своих прав и своего достоинства, не будет уважать права и достоинство других людей.
И то, и другое после веков деспотизма приобретается с немалым трудом.
4. При этом ясно, что страна, жизнь которой стоит на нерегламентированном, по сути, крепостном праве, в значительной мере находится вне правового поля. Вряд ли в этих условиях может возникнуть уважение к закону – ему просто неоткуда взяться.
Тем более, что гражданские права, в том числе и право частной собственности, появляются в русском законодательстве только за 7 лет до Великой Французской революции в Жалованных грамотах Екатерины II дворянству и городам.
5. Победоносная история Империи после 1708 г. была одним из ключевых факторов, сформировавших мироощущение русского дворянства, и в большой степени русского народа в целом.
Вместе с тем мы должны знать, что военная мощь странным, на первый взгляд, образом сочеталась с малой эффективностью системы управления. К этой теме мы вернемся позже.
13
Иван III был безжалостным правителем, и в первую очередь по отношению к своим родичам. Таков был наложившийся на семейную генетику урок, вынесенный им из династической войны 2-й четверти XV в. – жестокой борьбы двух линий потомков Дмитрия Донского.
Мы знаем, что он приговорил к смерти своих родичей по литовской линии – отца и сына князей Патрикеевых (родоначальников князей Голицыных и Куракиных), которых спас митрополит, вымоливший для них постриг в монахи. А вот князь Семен Ряполовский-Стародуб-ский был казнен. Родного брата Андрея Иван III попросту уморил голодом, а племянников, его сыновей, продержал в заключении 30 лет. Не зря Д. Н. Борисов в своей книге «Иван III» одну из глав назвал «Палач».
14
В Соборном Уложении 1649 г. прямо говорится, что если бояре и воеводы без указа государя начнут отпускать со службы ратных людей и «брать с них за это посулы и поминки, то им чинити жестокое наказание, что государь укажет» (гл. VII, $11). При этом Уложение смягчает степень наказания людям высших разрядов. (Ступин М. История телесных наказаний в России от Судебников до настоящего времени. Владикавказ. 1887. С. 20). Котошихин пишет, что за разбой, пожог и другие преступления пытали всякого «какого чину ни буди: князь или боярин, или и простой человек».
15
Пестрая социальная категория, куда входили отпущенные на свободу холопы, слуги, пленные и все, кто по каким-то причинам не был записан в писцовые книги, и др. Они были нетяглыми, т. е. никому не платили податей. (Анисимов Е. В. Петр Великий: личность и реформы. СПб., 2009. С. 224; Границы и маркеры социальной стратификации России XVII–XX вв.: векторы исследования ⁄ [под ред. Д. А. Редина]. – СПб.: Алетейя, 2018. С. 129–130).
16
О том, как жили и трудились строители Петербурга см. Анисимов Е. В. Его Величество. «Юный град. Петербург времен Петра Великого». СПб., Дмитрий Буланин. 2003. С. 105–112 и др. Замечу, что 30 тыс. рабочих, строивших Версаль, жили и работали, конечно, в других условиях, начиная с климатических.
17
Офицер раньше служил в дивизии Аркадия Суворова, сына великого полководца, воевавшей с турками, в которой по приказу командира все офицеры носили солдатские мундиры, чтобы затруднить работу туркам-снайперам. Первым подобный приказ отдал, кажется, Г. А. Потемкин.
18
Когда славянофилы начали появляться на публике в одежде, которую считали соответствующей своим взглядам, а некоторые отпустили бороду, то специальный циркуляр МВД в апреле 1849 г. объяснил, что «Его Величество почитает недостойным русского дворянина увлекаться подражанием западным затеям так называемой моды и что ношение бороды тем более неприлично, что всем дворянам предоставлено право ношения мундира, при котором отнюдь не дозволено иметь бороды». Характерно, что простые москвичи принимали славянофилов за «персиян».