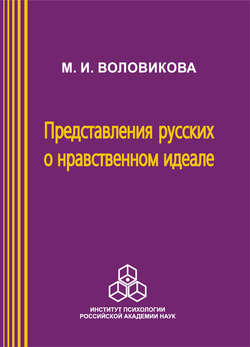Читать книгу Представления русских о нравственном идеале - М. И. Воловикова - Страница 5
Глава I
Свидетели Российской истории
Речь Достоевского о Пушкине
ОглавлениеСлово о Пушкине было произнесено Ф. М. Достоевским 8 июня 1880 года на заседании Общества любителей российской словесности и опубликовано затем в одном из выпусков «Дневника писателя». Ввиду важности мыслей, развиваемых в речи «Пушкин», писатель предваряет ее публикацию специальным «Объяснительным словом»[17]. Здесь он еще раз останавливается на главных четырех утверждениях, на которых «Речь» построена.
В первом утверждении говорится об отрыве интеллигентного общества от русского народа и о том, что Пушкин «своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим» не только отыскал, но и преодолел в своем творчестве. Проблема этой послепетровской разделенности единого народа на «народ» и «благородных» (интеллигентных, знатных и т. п.) ныне далеко отстоит от нас, но многое объясняет во внутренних причинах исхода русских. Те, кто уехали из России, через трудности и большие лишения внутренне проходили путь к основам духовной культуры своего народа. А пока, в XIX веке оторванность от народа (от своей «почвы», как говорит Достоевский) приводит к появлению людей онегинского типа, впервые замеченного и описанного Пушкиным.
И сразу же следом «Дневник писателя» говорит о положительном нравственном идеале, выведенном Пушкиным. «Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшиеся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные»[18]. Это образы инока в «Борисе Годунове», «типы бытовые» «Капитанской дочки» и Татьяна Ларина, о которой Достоевский говорит искренне и проникновенно.
Третье утверждение касается «способности всемирной отзывчивости», характерной вообще для русских, и особенно ярко выраженной пушкинским гением. «Не в отзывчивости одной тут дело, а именно в изумляющей полноте перевоплощения» [19].
Ту же мысль писатель развивает в четвертом утверждении, выделяя самое главное и существенное в нравственном идеале народа русского: «Я именно напираю в моей речи, что не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способный, из всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не какая другая, это лишь нравственная черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском?»[20]. Луже в самой «Речи» та же мысль выражена еще более определенно и ярко: «Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите» [21].
Итак, в этих «четырех пунктах», повествующих о значении Пушкина, точно обозначены и нравственный идеал, и «пародия» на него (догадка Татьяны об Онегине). Отметим, прежде всего, что идеал – это всегда лицо, образ – человек, имеющий имя и внешние черты, совершающий поступки. Герои, созданные поэтом, для многих поколений становятся реальными и живыми образцами поведения. Именно в таком виде они занимают свое место в представлениях людей. Онегин, Ленский и Татьяна для многих поколений не менее реальны, чем некоторые исторические деятели. В представления эти герои включаются уже вместе со своими отношениями к другим действующим лицам. И тогда возможным становится то, что и век спустя пушкинская Татьяна потрясает юного читателя простонародным своим ответом:
Но я другому отдана
И буду век ему верна.
О Татьяне Достоевский пишет: «Это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины…» [22]. В самой же «Речи» писатель говорит:
«Она высказывает правду поэмы. О, я ни слова не скажу про ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака – нет, этого я не коснусь. Но что же: потому ли она отказалась идти за ним, несмотря на то, что сама же сказала ему: “Я вас люблю”, потому ли, что она “как русская женщина” (а не южная или французская какая-нибудь), не способна на смелый шаг, не в силах порвать свои путы, не в силах пожертвовать обаянием почестей, богатства, светского своего значения, условиями добродетели? Нет, русская женщина смела. Русская женщина смело пойдет за тем, во что поверит, и она доказала это. Но она “другому отдана и будет век ему верна”»[23].
И далее Достоевский развивает ту, наверное, главную для него идею о том, что счастье нельзя построить ценой несчастья другого, если платой за счастье станут позор и бесчестье «старика» («Евгений Онегин»), если за счастье «всего человечества» нужно пожертвовать страданиями и жизнью «всего лишь» одного младенца («Братья Карамазовы» и др.).
«Счастье не в одних только наслаждениях любви, айв высшей гармонии духа. Чем успокоить дух, если назади стоит несчастный, безжалостный, бесчеловечный поступок? <…> Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только лишь одно человеческое существо <…> Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? Вот вопрос» [24].
Речь о Пушкине, произнесенная Достоевским, потрясла современников. Это видно и по дискуссии, особенно когда умный и язвительный К. Н. Леонтьев хочет ослабить впечатление, но не может этого сделать.
Два русских гения, разделенные по времени жизни почти полувеком, – Пушкин и Достоевский, «встретились» в эпоху начавшихся цареубийств и почти неотвратимого приближения грядущей революции и смогли сформулировать продуманную до конца мысль, особенно важную для русских людей с их «всемирной отзывчивостью», внутренней готовностью воспринять идею о построении счастья «для всего человечества» и, обладая способностью перевоплощаться, воплотить ее жизнью своею. К тому же «Речь» показывает два глубоких российских раскола: народа с интеллигенцией и женской души с ее мужской «половиной».
Прислушаемся опять к Достоевскому:
«Я вот как думаю: если бы Татьяна даже стала свободною, если 6 умер ее старый муж, и она овдовела, то и тогда бы она не пошла за Онегиным. Надобно же понимать всю суть этого характера. Ведь она же видит, кто он такой: вечный скиталец увидал вдруг женщину, которой прежде пренебрег, в новой, блестящей недосягаемой обстановке, – да ведь в этой обстановке-то, пожалуй, и вся суть дела. <…> Вот мой идеал, восклицает он, вот мое спасение, вот исход тоски моей, я проглядел его, а счастье было так возможно, так близко!» <…> Да разве этого не видит Татьяна, да разве она не разглядела его уже давно? <…> Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить…»[25].
У Достоевского (особенно в «Дневнике писателя») есть очень тонкие и честные наблюдения о том, как легко любить «дальнего», «человечество» и т. п., но как смертельно трудно любить просто человека, «ближнего». Любить – значит воспринимать его страдания как свои, но этому противится природный эгоизм и просто чувство самосохранения. Имеющие опыт такой любви не будут подсчитывать, сколькими жизнями и страданиями можно заплатить за всеобщее счастье или справедливость.
Достоевский предчувствовал русскую революцию и предостерегал от нее. Как если и женщина русская увлечется идеей пустой и убийственной?
Читая автобиографические повести С. В. Ковалевской, можно наблюдать, как происходит этот процесс и как даже очень умная и одаренная женщина оказывается беззащитной. Идеи невидимы. Невозможно поставить заслон, чтобы не допустить их в богатый генеральский дом, в котором растут две сестры: старшая, красавица и одаренный литератор, и младшая – в будущем первая в России женщина – профессор математики Софья Ковалевская. Достоевский был знаком с сестрами и даже сватался к старшей – Анне, рассказывая позднее своей невесте об этом так:
«Анна Васильевна – одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива»[26].
История сестер (рассказанная младшей, Софьей) напоминает еще об одном переломном моменте в судьбах России и ее граждан – крестьянской реформе 1861 года. Последствия реформы для помещиков можно сравнить с последствиями первоапрельского финансового обвала 1991-го, когда граждане России в течение нескольких дней вернулись за порог бедности. Сейчас давние события позапрошлого века забыты, но реально богатые помещики были разорены. В воспоминаниях Софьи Ковалевской об этом говорится так:
«В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высоконькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла называться почти писаной красавицей <…> Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. <…> Иногда он снисходил до объяснений и очень резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика жить в своем поместье. Бросить теперь имение значило бы разорить семью. <…> После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала»[27].
Женихов и молодежного окружения не было. Их заменили книги, и буквально внедрение идеала («чуждого», как позднее заметил Достоевский) произошло при встрече с литературным героем – очень посредственным, но надрывно эмоциональным.
«В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд»[28].
То, что написано в романе, полностью противоположно духу православия. Героиней является Эдит, невеста погибшего короля Гаральда, кажется, великого злодея. Эдит совершает какие-то невозможные подвиги, становится известной католической монахиней и перед смертью требует за свои подвиги прощения душе жениха, но, услышав от священника, что это невозможно («Король Гаральд проклят…»), мало того, что отказывается от спасения своей собственной души, так еще и требует у Бога явных знаков – доказательств: «Яви мне перед смертью знамение: когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собой свеча…» – и прочее…
Текст настолько кощунственен, что только явный отрыв от родной почвы позволил девушке внутренне принять этот бред: «Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор ее погас навеки»[29]. Софья Ковалевская отмечает: «И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры»[30].
Следом на подготовленной таким образом почве спокойно прижились идеи нигилизма, занесенные, как это обычно было для того времени, соседом-поповичем[31]. «Главный prestige[32] молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей», – пишет Ковалевская. Ею же сделано наблюдение, очень интересное:
«Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье не спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за каких-нибудь вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. “Не сошлись убеждениями!” – вот только и всего, но этого “только” вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей отречься от детей. Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то – убегать из родительского дома» [33].
Анна Васильевна уехала из России в 1869 году вместе с младшей сестрой Софьей и ее мужем. Во Франции она стала известной революционеркой Анной Жаклар, а после поражения Парижской коммуны ей удалось с помощью родителей и супругов Ковалевских скрыться из Парижа. В примечаниях к воспоминаниям Ковалевской об Анне Жаклар сказано: «Она участвовала в работе Центрального Комитета Союза женщин, основанного Елизаветой Дмитриевой, последовательницей Маркса, посланной в Париж от Генерального Совета Интернационала»[34].
Идея «Интернационала» – явная подмена «русской идеи», впервые названной так Достоевским (в объявлении о подписке на журнал «Время» на 1861 год). В «Речи» русская идея сформулирована со всею искренностью и определенностью:
«И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону. <…> Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина»[35].
Идея «Интернационала» – «фантазия» людей, оторванных от родной почвы, от народа, к которому они принадлежат. И то, как происходит пленение деструктивной и убийственной в прямом смысле слова мыслью, показано самим Достоевским с анатомической точностью в романе «Преступление и наказание». В ранней молодости своей Достоевский сам переболел идеями социализма. И дело не только в том, что это увлечение едва не стоило ему жизни. Он смог изнутри понять ошибочность идеи построения «счастья» для всех «дальних», невзирая на «неизбежные жертвы». В самом резком виде он описал это в романе «Бесы», после революции почти не издаваемом.
По мысли А. В. Брушлинского (и всей школы С. Л. Рубинштейна), именно психическое как процесс является предметом психологии. Для выявления процесса в живом мышлении им был разработан микросемантический анализ, к которому мы еще не раз будем здесь возвращаться. Этот вид качественного анализа основан на выявлении общей направленности мысли с помощью вычленения в тексте (письменном или устной речи) моментов переформулирования высказываний. При этом сама речевая ситуация понимается в терминах решения мыслительной задачи, где есть условия, требование и вопросы, которые зачастую еще нужно сформулировать.
Применение анализа, первоначально разработанного в исследованиях мышления, для изучения социальных представлений следует специально обговорить.
Хотя социальные представления – это общепринятые убеждения, поддерживаемые большинством идеи и ценности, помогающие объяснить мир[36], формируются они на уровне конкретных личностей (последнее обстоятельство и позволяет К. А. Абульхановой говорить о личностных представлениях). В работах о социальных представлениях иногда используется калька с английского слова – репрезентации. В Большом англо-русском словаре в качестве одного из значений слова representation дается пояснение – понятие; представление; (мысленный) образ[37]. В Толковом словаре русского языка представление объясняется через слова знание, понимание чего-либо[38]. В. Даль в качестве одного из значений слова понятие употребляет в качестве синонима слова представленье и мысль: «…мысль, представленье, идея; что сложилось в уме и осталось в памяти по уразумении, постижении чего либо»[39].
Зафиксированная в словарях связь мысли и представлений (пока что – любых, не только социальных) позволяет обратиться к анализу зарождения, принятия какой-либо мысли человеком.
Хотя исторически термин социальные представления образовался от понятия коллективные представления, введенного Э. Дюркгеймом в социологию и обозначающего чувства и идеи, которые выражают единство и сплоченность социальной группы, для того, чтобы быть принятой (или отвергнутой) группой, мысль первоначально должна быть принята отдельным человеком.
С этими предварительными замечаниями (предполагая в дальнейшем еще не раз вернуться к проблеме исследования социальных представлений) мы можем перейти к микроанализу действия законов принятия (и пленения) мыслью на уровне конкретного человека.
Такую возможность дает нам обращение к роману Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
17
Далее страницы приводятся по изданию: Достоевский Ф.М. «Дневник писателя за 1880 г.»; в кн.: «Русская идея: сборник произведений русских мыслителей», М.: «Айрис-пресс», 2002.
18
Там же, с. 163.
19
Там же, с. 164.
20
Там же, с. 165–166.
21
Там же, с. 187.
22
Достоевский Ф.М. «Дневник писателя за 1880 г.», с. 177.
23
Там же, с. 179.
24
Там же, с. 179–180.
25
Там же, с. 180–181.
26
Достоевская А. Г. Воспоминания. Приводится по тексту примечаний к книге С. В. Ковалевской «Воспоминания. Повести». М.: Правда, 1986, с. 409–410.
27
Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М.: Правда, 1986, с. 83. Далее страницы приводятся по указанному изданию.
28
Там же, с.86.
29
Там же, с.88.
30
Там же, с. 88.
31
Вспоминая историю своего нигилизма о. Сергий Булгаков, происходивший из семьи священника, замечает: «Думаю, что моя внешняя судьба здесь аналогична судьбам также семинаристов Добролюбова и Чернышевского». Булгаков С. Православие. М.: Фолио, 2001, с. 297.
32
Обаяние, престиж (фр.)
33
Ковалевская С. В. Воспоминания. Повести. М.: Правда, 1986, с. 93.
34
Там же, с. 404.
35
Русская идея…, с. 188.
36
См. Майерс Д. «Социальная психология», СПб.: Питер, 1997, с. 679–680.
37
Новый Большой англо-русский словарь под ред. Ю. Д. Апресяна и Э. М. Медниковой. М.: Русский язык, 1993–1994.
38
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999.
39
Даль В. Словарь живого великорусского языка. Т. 3.