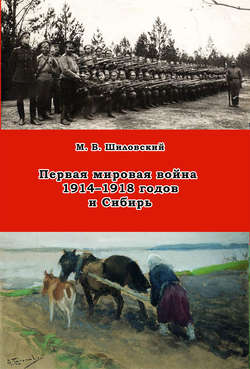Читать книгу Первая мировая война 1914–1918 годов и Сибирь - М. В. Шиловский - Страница 5
Глава 1. Военный потенциал Сибири в Первой мировой войне
§ 2. Сибирские соединения на фронтах войны
ОглавлениеПроблема участия сибиряков в боевых действиях во время Первой мировой войны 1914–1918 гг. является предметом специального и обстоятельного исследования не одного поколения историков. Поэтому, предваряя анализ различных аспектов военной повседневности региона в избранных хронологических рамках, ниже постараюсь дать краткий очерк вклада сибиряков в военные усилия государства[58].
По состоянию на 1 мая 1914 г. в зауральских военных округах насчитывалось: в Омском – 17 батальонов и 6 казачьих сотен; в Иркутском – 68 батальонов и 20 сотен; в Приморском – 118 батальонов, Приморский драгунский полк (6 эскадронов) и 13 сотен[59]. Кроме того, в полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) дислоцировались подразделения Заамурского корпуса (округа) пограничной стражи, формально не входящие в состав русской императорской армии. Согласно Расписанию сухопутных войск 1910 г. в соединении насчитывалось 8 пехотных и 3 конных полка[60]. Как видим, основная часть российских войск в регионе концентрировалась на Дальнем Востоке. В соответствии с упомянутым выше мобилизационным расписанием в случае осложнения отношений с Японией или Японией и Китаем в Маньчжурии разворачивались четыре армии: 1-я, 2-я, 3-я Забайкальские и Приморская. До завершения мобилизации в них прикрывать район сосредоточения и КВЖД должен был Заамурский округ пограничной стражи, преобразованный и развернутый в армейский корпус.
Поскольку на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири мобилизационных ресурсов (резервистов) не хватало, предусматривалось их пополнение за счет Омского и Казанского военных округов. Так, при развертывании войск Иркутского военного округа до штатов военного времени требовалось порядка 150 тыс. чел., реально на его территории могли призвать 39,5 тыс. чел. Недостающее количество планировалось получить из Омского (70 тыс.) и Казанского (40,7 тыс. чел.) военных округов[61].
В ходе массовой мобилизации в июле-августе 1914 г. в трех упомянутых выше военных округах развернули 44 сибирских стрелковых полка (с 1-го по 44-й), сведенных в 11 Сибирских стрелковых дивизий. Кроме того во время войны сформировали еще 11 (12–22-я) сибирских стрелковых дивизий четырехполкового состава и Сводную Сибирскую стрелковую дивизию. Из подразделений Заамурского корпуса пограничной стражи образовали приблизительно 18 пограничных Заамурских пехотных и 5 пограничных Заамурских конных полков.
Летом-осенью 1914 г. на базе кадровых частей и мобилизованных резервистов Омского, Иркутского и Приамурского военных округов развертываются семь Сибирских армейских корпусов и отдельно от них 11-я Сибирская стрелковая дивизии. Русский армейский корпус состоял из двух стрелковых дивизий, в каждую из которых входило две стрелковых бригады по два полка в каждой. Полк подразделялся на четыре батальона, а те, в свою очередь, включали четыре роты. Численность корпуса определялась в 48 тыс. чел., дивизии – 21 тыс., батальона – 1 тыс. чел. Следовательно, в 11-ти стрелковых дивизиях насчитывалось 357 тыс. отправленных на фронт сибиряков. Кроме того, Сибирское казачье войско выставило 9 конных полков (свыше 16 тыс. чел.), Забайкальское казачье войско – 8 конных полков (около 12 тыс. чел.).
1-й Сибирский армейский корпус в составе 1-й и 2-й Сибирских стрелковых дивизий формировался в Приморском военном округе. Часть его личного состава, также как и 2-го Сибирского армейского корпуса, составили мобилизованные резервисты из 10 уездов Вятской и Пермской губерний, включенные в состав подразделений корпусов в ходе перевозки их на запад. Участвовал в боевых действиях с августа 1914 г. на Северо-Западном, а с августа 1915 г. – Западном фронтах под командованием генерала М. М. Плешкова. Соединение отражало наступления противника на Варшаву и активно сражалось в Лодзинской операции (11 ноября – 19 декабря 1914 г.), в ходе которой были сорваны планы окружения двух русских армий СевероЗападного фронта. В составе 1-й армии сибиряки в феврале-марте 1915 г. участвовали в разгроме немецкой группы войск генерала М. Гальвица и освобождении г. Прасныша, а затем в отражении наступления противника летом-осенью 1915 г. на Наревском направлении. В 1916 г. корпус вел позиционную войну в составе 1-й и Особой армий Западного фронта, а в 1917 г. – 3-й армии.
2-й Сибирский армейский корпус (4-я и 5-я Сибирские стрелковые дивизии) был переброшен из Забайкалья (Иркутский военный округ) в Варшаву во второй половине сентября 1914 г. Под командованием генерал-лейтенанта А. В. Сычевского (с декабря 1914 г. – генерал от инфантерии) соединение приняло на себя основную тяжесть боев на варшавском направлении, потеряв к 5 октября 1914 г. 260 офицеров и 13,5 тыс. солдат. За бой под местечком Гройцык командир 16-го Сибирского стрелкового полка полковник С. М. Рожанский посмертно награждается орденом Св. Георгия 3-й степени. В конце 1914 г. 2-й Сибирский армейский корпус принял участие в тяжелейших боях в районе Лодзи, а в начале 1915 г. вместе с 1-м Сибирским армейским корпусом под упомянутым выше городом Праснышем. В августе того же года соединение перебросили из-под Барановичей на рижское направление, оно заняло оборону по реке Западная Двина. В конце 1916 – начале 1917 г. сибиряки приняли участие в наступлении 12-й армии Северного фронта на Митаву. В ходе операции 17-й Сибирский стрелковый полк корпуса отказался идти в атаку и выдвинул политические требования – формирование ответственного перед парламентом кабинета министров. К восставшим присоединился 55-й Сибирский полк 6-го Сибирского армейского корпуса. Личный состав резервной 3-й Сибирской дивизии частично разбежался, побросав оружие и боеприпасы. 92 зачинщика выступления из числа рядовых и унтер-офицеров на основании решения военно-полевого суда были расстреляны в присутствие представителей рот и команд, большое количество приговорили к каторжным работам[62]. В марте 1917 г. боевые действия носили спорадический характер, военнослужащих больше интересовали внутрироссийские проблемы. Как отмечал в своей записке генерал М. В. Алексеев: «В 2-м Сибирском корпусе 12-й армии возбужден целый ряд вопросов относительно могущих произойти последствий. Были некоторые голоса, что без царя нельзя и надо скорее выбирать государя, что евреев нельзя иметь офицерами, что необходимо наделить крестьян землей при помощи Крестьянского поземельного банка»[63].
3-й Сибирский армейский корпус (7-я и 8-я Сибирские стрелковые дивизии) из Иркутского военного округа воевал на Северо-Западном, а с августа 1915 г. – на Западном фронтах в составе 10-й армии (до февраля 1916 г.), а затем 4-й и 2-й армий. Им последовательно командовали генералы от инфантерии В. П. Корнеев, Е. А. Радкевич, генерал-лейтенанты В. О. Трофимов, А. Е. Редько и избранный солдатским комитетом в апреле 1917 г. генерал-лейтенант В. Ф. Джунковский. Соединение приняло участие в боях на белостокском направлении в районе крепости Осовец, на подступах к г. Августов. В составе 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта В. Е. Флуга корпус отличился в Первой августовской операции (12–30 сентября 1914 г.), совершив обходной маневр, взяв г. Августов и выйдя немцам в тыл. В. Е. Флуг писал по этому поводу: «Эта согласованная боевая работа и доблесть сибирских и финляндских стрелков увенчались наконец желанным успехом: понеся большие потери, противник, всюду сбитый, 19 сентября стал поспешно отступать, теряя пленных, пулеметы и орудия. Таким образом фронт противника в районе к югу от Сувалок оказался прорванным»[64]. В конце 1914 – первой половине 1915 г. его части оборонялись в районе Мариамполя – Кальварии, крепости Ковно (Каунас), где только 9 июля 1915 г. потеряли 461 солдата убитыми, 245 ранеными и 603 пропавшими без вести, к осени численность полков уменьшилась в 2–4 раза.
Евгений Александрович Радкевич, командир 3-го Сибирского армейского корпуса
Зима 1915–1916 гг. прошла спокойно, а в марте 1916 г. корпус принял участие в наступательной операции в районе озера Нарочь. Вместе с 1-м Сибирским армейским корпусом и другими объединениями 2-й армии Западного фронта корпус пытался прорвать фронт противника и развернуть наступление севернее и южнее озера Нарочь на Свенцяны, Вилькомир. Сковав на Восточном фронте значительную часть группировки немецких войск, вынудив германское командование перейти под Верденом к обороне и перебросить свыше четырех дивизий с Западного фронта на Восточный, 2-я армия потеряла 1018 офицеров и 77 427 солдат (30,3 % личного состава)[65]. Летом, в развитие Брусиловского прорыва, 3-й корпус пытался наступать южнее Барановичей, держал оборону на плацдармах по реке Неман. В январе 1917 г. в его состав вошла вновь сформированная 17-я Сибирская стрелковая дивизия 4-й очереди. Корпус был окончательно расформирован весной 1918 г. в Смоленске.
4-й Сибирский армейский корпус (9-я и 10-я Сибирские стрелковые дивизии) формировался в Приамурском военном округе. Он воевал на СевероЗападном, Западном (с августа 1915 г.) и Румынском (с декабря 1916 г.) фронтах в составе 12-й, 2-й, 3-й, 8-й, 6-й армий. Личный состав соединения участвовал в Праснышской наступательной операции и разгроме армейской группы генерала М. Гальвица в начале 1915 г. В последующем части корпуса обороняли отведенные ему позиции вплоть до его расформирования в начале 1918 г.
5-й Сибирский армейский корпус (3-я и 6-я Сибирские стрелковые дивизии, расквартированные в Приамурском военном округе). Принимал участие в боевых действиях на Северо-Западном, Западном (с августа 1915 г.), Северном (с марта 1916 г.) и Юго-Западном (с июня 1916 г.) фронтах в составе 1-й, 2-й, 4-й, 12-й, 6-й, 8-й, 11-й армий. Наиболее значимыми в его военной истории стали боевые действия под Варшавой, Лодзью. 6-я Сибирская стрелковая дивизия корпуса в конце ноября 1914 г. участвовала в окружении группы генерала Шеффера, но не была поддержана и подверглась разгрому тремя германскими дивизиями. Летом 1916 г. эта дивизия отличилась в сражении на реке Стырь, разгромив части германского корпуса. В июле 1917 г. 5-й Сибирский корпус принял участие в наступлении на львовском направлении, которое было остановлено прибывшими из Франции немецкими войсками, а потом войска Юго-Западного фронта оттеснили на линию Броды, Збараж, Гржималов, Боян. Также, как и другие армейские формирования, соединение в 1917 г. подверглось «демократизации» и как докладывал в начале 1918 г. его выборный командир капитан А. И. Тодорский 13 декабря 1917 г. по инициативе сибиряков 6-й Сибирской артиллерийской бригады начала функционировать организация союза сибиряков корпуса», которая предполагала бороться «за широкое самоуправление и самобытность Сибири»[66].
6-й Сибирский армейский корпус образован в сентябре 1914 г. на базе второочередных 13-й и 14-й Сибирских стрелковых дивизий, кадры для которых были выделены из 8-й и 11-й Сибирских стрелковых дивизий. Соединение участвовало в боевых действий в составе 1-й, 2-й, 4-й, 12-й армий на Северо-Западном, Западном (с августа 1915 г.) и Северном (с октября 1915 г.) фронтах. 14-я с. д. первая на Восточном фронте подверглась газовой атаке и потеряла большую часть личного состава. Корпус прославился атакой без единого выстрела германских позиций в декабре 1916 г. Тогда особо отличились 11-й Сибирский стрелковый полк полковника В. Н. Пименова и 56-й Сибирский стрелковый полк полковника П. П. Шрамкова.
7-й Сибирский армейский корпус образован в июле 1915 г. на фронте на базе второочередных 12-й и 13-й Сибирских стрелковых дивизий. Они были развернуты соответственно в Иркутске и Красноярске во второй половине июля 1914 г. 12-я с. д. в конце 1914 – начале 1915 г. воевала в Карпатах, а в июне 1915 г. была переброшена на Северо-Западный фронт в 5-ю армию. 13-я с. д. в составе 6-го Сибирского армейского корпуса осенью 1914 г. обороняла Варшаву, а затем вела бои в районе городов Цеханов, Плонск. В апреле 1915 г. ее передали в состав Юго-Западного фронта, где она участвовала в боях на реке Сан. В конце мая соединение возвратили на Северо-Западный фронт. 3 июля 1915 г. приказом по 5-й армии 12-я и 13-я с. д., 4-я и 15-я кавалерийские дивизии объединяются в особый отряд, а затем 7-й Сибирский армейский корпус во главе с начальником 12-й с. д. генерал-лейтенантом Н. И. Сулимовым. Дивизии участвовали в кровопролитных арьергардных боях лета 1915 года, вошедших в историю как «Великое Отступление» русской армии, обороняли Митавскую укрепленную позицию, подступы к Двинску и Риге. Корпус участвовал в наступательных операциях на рижском направлении в марте и июле 1916 г. В августе того же года соединение по железной дороге перебросил на юг в резерв Юго-Западного фронта в район г. Ровно и включили в состав 7-й армии. В сентябре-октябре сибиряки вели тяжелейшие бои, приняли участие в последнем крупном наступлении русской армии в июне 1917 г. Известно, что «из частей 7-го Сибирского корпуса исполнили приказ о занятии передовых позиций только разрозненные части, всего два с половиной полка»[67]. Корпус был расформирован в марте 1918 г.
Бойцы 4-го Сибирского корпуса поднимают аэростат для наблюдения за противником. 1915 г. (Из коллекции Новосибирского краеведческого музея)
Помимо 10 стрелковых дивизий пяти армейских корпусов во время всеобщей мобилизации в последней декаде июля 1914 г. в Омском военном округе формируется 11-я Сибирская стрелковая дивизия, в состав которой вошел 41-й Сибирский стрелковый полк, дислоцировавшийся в Новониколаевске. Она участвовала в сентябре 1914 г. в деблокаде крепости Осовец. «Звездным» часом для соединения стали бои в районе польского города Прасныш, предотвратившие окружение русских войск в Польше. 30 июня 1915 г. в тяжелейшем бою дивизия отбила натиск шести дивизий двух германских корпусов. Героическое сопротивление ее воинов спутало немецкие планы и они смогли лишь вынудить русские войска к медленному отходу. В этом бою 11-я с. д. потеряла 70 % личного состава (105 офицеров и 10 951 солдата и унтер-офицера). За проявленное мужество разведчик 41-го с. п. младший унтер-офицер П. Т. Дрон награждается Георгиевским крестом 3-й степени, а стрелок Н. П. Каменев – 4-й степени[68]. В составе дивизии воевал старший унтер-офицер М. Е. Ванин (1890–1968), переселенец из Тамбовской губернии, житель д. Высокая Грива Кайлинской волости Томского уезда. Он служил в разведке и за проявленное в боях личное мужество был награжден четырьмя Георгиевскими крестами. Затем служил в РККА и посвятил 20 лет педагогической деятельности[69]. Среди ее офицеров следует назвать награжденного орденом Св. Георгия 4-й степени капитана (в последствии подполковника) А. Н. Пепеляева, в будущем генерал-лейтенанта, командующего белой 1-й Сибирской армией.
Сибирское казачье войско (СКВ) отправило на фронт свыше 16 тыс. чел. Его 1-й и 2-й полки были сведены в Отдельную Сибирскую казачью бригаду, воевавшую на Кавказском фронте. Здесь отличился 1-й полк, который в бою под городом Ардаганом 21 декабря 1914 г. разгромил турецкий пехотный полк и захватил его знамя. Высочайшим приказом от 6 декабря 1916 г. император Николай II принял шефство над частью и включил в её списки своего сына и наследника престола цесаревича Алексея. С этого момента полк стал именоваться 1-й Сибирский казачий Ермака Тимофеева, ныне его Императорского Величества, полк, а его личный состав получил право носить на погонах императорский вензель. 3-й полк всю войну оставался в Омском военном округе со штабом в г. Зайсане. 4-й и 5-й казачьи полки в августе, 7-й и 8-й в декабре 1914 г. были отправлены на фронт и приданы четырем армейским корпусам Северо-Западного фронта. Только в ноябре 1915 г. их свели в Сибирскую казачью дивизию. В феврале 1915 г. в Августовских лесах 4-й Сибирский казачий полк был разбит, в бою погиб его командир войсковой старшина Г. А. Власов, в плен попало 9 офицеров и командир 1-й бригады Сибирской казачьей дивизии генерал-майор А. Я. Усачев. В свою очередь, в феврале 1915 г. под г. Праснышем две сотни 8-го полка разгромили два германских эскадрона конного-гренадерского полка. Весной 1917 г. дивизию отвели в тыл и рассредоточили для несения охранной службы в Минском и Московском военных округах.
Павел Осипович Показанов (1893–1919), полный георгиевский кавалер Первой мировой (из коллекции Куйбышевского краеведческого музея)
6-й и 9-й полки, сведенные в Отдельную Сибирскую казачью бригаду, выступили на Северо-Западный фронт в июле 1915 г. В 1916 г. 9-й полк сняли с фронта и через Семипалатинск направили в Семиречье для подавления восстания казахов. Затем его перевели в Ташкент, откуда в январе 1917 г. отправили в Персию в состав Русского экспедиционного корпуса. 6-й полк в сентябре 1917 г. вернули в Сибирь (4 сотни в Семипалатинске, по одной в Новониколаевске и Омске). Кроме того, летом 1915 г. в СКВ сформировали и срочно отправили на фронт три отдельных сотни (3 офицера и 157 казаков в каждой). Они несли службу при штабах армейских корпусов, периодически участвуя в боевых действиях. Так, за героизм, проявленный при прикрытии отхода наших войск в течение 18 июня 1917 г. 3-я Отдельная Сибирская казачья сотня получила для награждения отличившихся 25 Георгиевских крестов и 20 Георгиевских медалей. В 1915 г. в Брянске сформировали Сибирский казачий конно-артиллерийский дивизион, в конце этого же года в составе Сибирской казачьей дивизии создается Отряд особого назначения во главе с подъесаулом Б. В. Анненковым[70].
1-я Забайкальская казачья бригада Забайкальского казачьего войска (ЗКВ) прибыла на Юго-Западный фронт и приняла активное участие в Варшавско-Ивангородской операции 28 сентября – 8 ноября 1914 г. В боях забайкальские казаки проявили свои лучшие качества. Так, при отходе с левого берега реки Пилица в спешке отступления бросили раненых пехотинцев. Спасти их вызвались добровольцы из 2-й сотни 1-го Читинского полка, которые под сильным ружейно-пулеметным огнем несколько раз прорывались к раненым и вывезли 30 солдат. За этот подвиг, ставший известным всей армии, казаков наградили Георгиевскими крестами. Всего же за осенне-зимние бои 1914 г. только в 1-м Верхнеудинском полку вручили 78 Георгиевских крестов и 28 медалей. В начале 1915 г., как вспоминает тогда сотник 1-го Нерчинского казачьего полка и будущий атаман Г. М. Семенов, на границе с Восточной Пруссией, его подчиненные «вели разведку и состязались с германскими кавалеристами в небольших кавалерийских стычках и ловкости разведчиков. Немцы придерживались системы разведки не менее полуэскадроном, а мы предпочитали пользоваться мелкими разъездами, имевшими иногда в своем составе не более 5–6 коней. Наш казак оказался лучшим индивидуальным бойцом, чем немецкий регулярный кавалерист. За полтора месяца практики моей в действии разъездом, при регулярной смене казаков, я захватил в плен свыше 50 германских всадников и не потерял ни одного со своей стороны»[71].
Прожекторная станция во время работы 4-й Сибирский корпус. Румыния, г. Галац, 1916 г. (Из коллекции Новосибирского краеведческого музея)
Вплоть до апреля 1915 г. 1-я Забайкальская казачья бригада занимала оборону по р. Пилица, а затем прикрывала отход пехоты Северо-Западного фронта из Польши. После прибытия на фронт 2-го Верхнеудинского казачьего полка бригаду развертывают в 1-ю Забайкальскую казачью дивизию. 15 января 1916 г. в Бобруйске состоялся смотр нового соединения императором Николаем II. По итогам боевых действий в 1915 году только в 1-м Верхнеудинском полку в хорунжие произвели вахмистра Подойницына и старшего урядника Кузнецова. Награждены орденами: Св. Анны 4-й степени прапорщик Барахтин, хорунжий, князь Аргутинский-Долгоруков, войсковой старшина Измайлов; Св. Анны 2-й степени с мечами – сотники Лавров и Сенченков; Св. Станислава 2-й степени – ветеринарный врач Мальковский; Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом – хорунжий Горбач; английским «Отличной службы» – есаул Мациевский. Мечи и бант к ордену Св. Станислава получили подъесаул Резухин и сотник Иванов, войсковому старшине Зимину вручено Георгиевское оружие.
В этом году дивизия приняло участие в Брусиловском прорыве. Только за один день боев 1-й Верхнеудинский полк захватил 2 орудия, несколько пулеметов и до 1100 пленных австрийцев. Линия фронта стабилизировалась на реках Стоход и Стырь. За отличие в боях, помимо орденов Св. Станислава 4-й степени с мечами и Св. Владимира 4-й степени, сотник 1-го Нерчинского казачье полка, барон Р. Ф. Унгерн-Штернберг удостоился двойного производства в чинах: 3 сентября 1916 г. его производят в подъесаулы, а на следующий день – в есаулы[72]. В конце 1916 г. части дивизии направляются в тыл для охраны железных дорог и задержания дезертиров. По признанию Г. М. Семенова: «Мы ловили на станции Узловая до тысячи человек в сутки. Солдатский поток с фронта был настолько значителен, что это явление нельзя было рассматривать иначе, как грозным признаком грядущего развала армии»[73]. 23 мая 1917 г. полкам 1-й Забайкальской казачьей дивизии предписывается сдать свои знамена в штаб армии с последующей отправкой в Петроград для снятия царских регалий. Однако, на общем собрании казаков и офицеров 1-го Читинского полка принимается решение оставить у себя свое Георгиевское знамя.
На Кавказском фронте в районе Карса воевала 2-я Забайкальская казачья бригада, а на Эриванском направлении 4-я. Забайкальские казаки в 1915 г. приняли участие в боях за Тадван, на битлисском направлении, в турецком Курдистане и в Персии. В 1916 г. они участвовали в боях на мосульском направлении. Весной 1917 г. забайкальцы стали создавать полковые комитеты, проявлять враждебное отношение и недоверие к офицерам[74].
В свете изложенной информации требует пояснений понятие «сибирское соединение» применительно к перечисленным корпусам и дивизиям. Сам факт их формирования за Уралом в Омском, Иркутском и Приамурском военных округах дает основание предположить, что основную часть мобилизованных в них резервистов составили местные жители, хотя среди них находилось большое количество переселенцев, сравнительно недавно мигрировавших в Сибирь. Были и оставшиеся на жительство отслужившие срочную службу. Яркий пример – будущий герой гражданской войны в Енисейской губернии П. Е. Щетинкин, уроженец Рязанской губернии, который, уволившись в запас в декабре 1909 г., остался на жительство в деревне Красновка под Ачинском. В начале 1912 г. он стал сверхсрочником в 29-м Сибирском стрелковым полку в Ачинске, откуда летом 1914 г. отбыл на фронт.
Но большую часть командного (офицерского) состава в этих воинских формированиях составили уроженцы и выходцы из Европейской России. Доля их в составе частей была незначительной. Так, в 11-й Сибирской стрелковой дивизии на 14397 солдат приходилось 230 офицеров (1,04 %)[75]. Однако часть личного состава 1-го и 2-го Сибирских армейских корпусов, как указывалось выше, составили мобилизованные резервисты из 10 уездов Вятской и Пермской губерний (всего в них насчитывалось 23 уезда). И самое главное. В отличие от германской корпусной системы комплектования и пополнения воинских частей за счет призванных с определенной территории или города, этот принцип в русской армии в годы Первой мировой войны обеспечивался частично. Во-первых, в запасные батальоны и полки сибирских военных округов направлялись призванные не только из Сибири, но из Вятской, Пермской и Уфимской губерний, и не только русские. Так, в 1915 г. из 258 чел., прибывших по призыву в 38-й Сибирский запасной стрелковый полк (в Томске) из Бирского уезда Уфимской губернии, русские составляли 36 чел., остальные являлись башкирами и татарами[76]. Во-вторых, маршевые роты из сибирских запасных частей отправлялись как правило не адресно в сибирские фронтовые формирования, а в запасные полки армий и фронтов. Например, в конце декабря 1917 г. в г. Ржев в 52-й пехотный запасной полк прибыли пять маршевых рот (по 250 чел.) из Томска для пополнения Западного фронта[77]. 77-я маршевая рота из 38-го Сибирского запасного полка из Томска прибыла на станцию Вязьма 17 ноября 1916 г. в 23-й запасной пехотный полк Западного фронта. В кратком отчете о ее осмотре указывалось, что среди военнослужащих были уроженцы Томской, Петроградской, Волынской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской, Пермской, Уфимской и Харьковской губерний[78]. И только 72-я маршевая рота из того же томского запасного полка 8 декабря 1916 г. прибыла на укомплектование 244-го Красноставского пехотного полка 61-й пехотной дивизии[79]. Таким образом, в сибирских формированиях начального периода войны сибиряки, по всей видимости, преобладали. Их доля уменьшалась в ходе военных действий, хотя и была достаточно внушительной.
В связи с этим встает вопрос о степени привязки отдельных полков русской императорской армии к городу, в котором они формировались и данное обстоятельство увековечивалось в их названии. Так, в числе кадровых армейских частей еще до войны были 9-й гренадерский Сибирский генерал-фельдмаршала Великого Князя Николая Николаевича полк, 38-й Тобольский, 39-й Томский, 40-й Колыванский, 41-й Селенгинский, 42-й Якутский, 43-й Охотский, 44-й Камчатский пехотные полки. Например, Томский егерский полк был сформирован в Томске 29 ноября 1796 г. В 1808 г. в составе 24-й пехотной дивизии его вывели к западным границам России и больше в Сибирь он не возвращался. В 1864 г. он становится 39-м пехотным Томским. Накануне Первой мировой войны часть дислоцировалась в городе Козлове (Мичуринске) Тамбовской губернии, а с началом боевых действий вошла в состав 10-й пехотной дивизии вместе с другими «сибирскими» формированиями: 37-м Екатеринбургским, 38-м Тобольским и 40-м Колыванским пехотными полками[80]. Судя по отсутствию информации о призыве в него томичей и жителей Томской губернии, можно предположить, что полк не был «сибирским», и в период развертывания в июле 1914 г. в него пришли резервисты в основном из Тамбовской губернии. В качестве противоположного примера можно назвать третьеочередной 533-й Новониколаевский пехотный полк 134-й пехотной дивизии, который был сформирован уже во время войны из новониколаевцев и доблестно сражался на фронте. Причем городские власти и обыватели поддерживали связи со своими родными и земляками, собирали для них теплую одежду, продукты и подарки, на фронт приезжали делегации горожан[81]. В Томске же в 1910 г. на базе местного пехотного батальона развертывается 42-й Сибирский стрелковый полк 11-й Сибирской стрелковой дивизии, командиром (командующим) которого назначили полковника Н. М. Пепеляева (отца В. Н. и А. Н. Пепеляевых)[82].
Определенное представление об офицерском составе сибирских воинских формирований периода Первой мировой войны, их мужестве и героизме дают собранные Д. Г. Симоновым сведения на 534 кавалера военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия, участвовавших в боевых действиях в составе сибирских частей[83]. Как известно, орден этот давался только за военные подвиги. Всего с момента учреждения в 1769 г. и до конца 1917 г. орденом Св. Георгия 4-й степени награждено свыше 6 тыс. чел. Все 534 офицера удостоились этой степени, а трое – генерал-майор А. С. Карницкий, командир 2-го пограничного Заамурского полка, а затем 1-й Заамурской конной бригады; генерал-лейтенант В. И. Соколов, командир 4-го Сибирского армейского корпуса и полковник В. Н. Токарев, командир 9-го гренадерского Сибирского полка – стали еще и кавалерами этого ордена 3-й степени.
За какие заслуги награждали этой высокоценимой в армии наградой, можно судить из представления на награждение орденом Св. Георгия 4-й степени будущего генерал-лейтенанта сибирской белой армии А. Н. Пепеляева: «Будучи в чине штабс-капитана, в бою 18 сентября 1915 года, командуя отрядом из четырех команд конных разведчиков 11-й Сибирской стрелковой дивизии, одной пешей командой разведчиков 44-го Сибирского стрелкового полка и полуротой того же полка, лично управляя боем под сильным пулеметным и ружейным огнем, удержал свою позицию. Отбив атаки германцев силою около двух батальонов пехоты с 6 пулеметами, когда же позиция правого боевого участка у д. Боровая была захвачена противником, и был неизбежен наш отход по всему фронту, штабс-капитан Пепеляев, получив разрешение отойти из д. Клетище, по собственной инициативе решил держаться на своей позиции, отбил все атаки немцев и, выждав благоприятную минуту, перешел сам в наступление, отбросив противника и своим наступлением угрожая левому флангу немцев, занявших д. Боровую, заставил их бросить занятую ими позицию и отступить за р. Неман»[84].
Орден Св. Георгия (слева) и Георгиевский крест (справа)
По годам войны награждения распределяются следующим образом: 1914 – 5 (0,93 %), 1915 – 185 (34,6 %), 1916 – 125 (23,4 %), 1917 – 217 (40,6 %), 1918 – 2. По родам войск: пехота – 322 (60,3 %), казаки – 35 (6,5 %), артиллерия – 64 (12,0 %), саперы (инженеры) – 12 (2,3 %), военнослужащие Заамурских пехотных и конных полков – 61 (11,4 %). Среди награжденных присутствует один врач – Е. А. Матушкин, лекарь, и. д. врача 21-го Сибирского стрелкового полка. Список свидетельствует о появлении нового рода войск – военной авиации, поскольку в каждом армейском корпусе по штатному расписанию полагалось авиазвено, выросшее до авиаотряда. Из 15 награжденных летчиков 8 можно считать кадровыми авиаторами. Например, прапорщика Б. И. Мерцалова, летчика 3-го и 5-го Сибирских корпусных авиаотрядов. Еще 7 офицеров пришли в авиацию в ходе боевых действий из артиллерии, пехоты, кавалерии, саперных частей. В качестве примера можно назвать поручика 31-го Сибирского стрелкового полка Ф. Ф. Василевского, фактически служившего военным летчиком 8-го авиационного отряда истребителей или штабс-капитана 77-й артиллерийской бригады Н. В. Евсюкова, служившего летчиком-наблюдателем 1-го Сибирского корпусного авиационного отряда.
Среди награжденных – представители 54 стрелковых полков, 13 артиллерийских бригад и дивизионов, 10 казачьих полков СКВ и ЗКВ, всего – 77 частей. Больше двух награжденных служило в 57 полках, бригадах и дивизионах. Максимальные показатели: 14 орденоносцев – в 7-м, по 12 – в 4-м, 6-м, 9-м, 14-м, 21-м Сибирских стрелковых полках, 11 – в 8-м, 37-м Сибирских стрелковых, по 10 – в 47-м пехотном и 7-й Сибирской артиллерийской бригаде. По 9 награжденных воевало в двух полках, по 8 – в двух, 7 – в одном, по 6 – в шести полках и двух артиллерийских бригадах, по 5 – в пяти полках.
По воинским званиям изучаемая совокупность распределилась следующим образом: прапорщики (корнеты, хорунжие) – 60 (11,23 %), подпоручики – 78 (14,6 %), поручики (сотники) – 87 (16,2 %), штабс-капитаны (подъесаулы) – 61 (11,4 %), капитаны (ротмистры, есаулы) – 92 (17,2 %), подполковники (войсковые старшины) – 64 (12 %), полковники – 54 (10 %), генерал-майоры – 23 (4,3 %), генерал-лейтенанты – 6 (1,1 %), генерал от инфантерии (Е. А. Радкевич, командир 3-го Сибирского армейского корпуса) – 1. Среди полковников 44 служили командирами полков, т. е. являлись ключевыми фигурами в непосредственной организации и ведении боевых действий. За что их награждали, можно судить по описанию подвига командира 39-го пехотного Томского полка М. Г. Пацевича, который «в бою 15 авг[уста] 1914 г. у поселка Лащов, командуя левым боевым участком в составе трех батальонов его же полка, воодушевляя подчиненных личным мужеством, энергичной атакой опрокинул превосходные силы неприятеля на узкую переправу у дер. Пукаржева, что привело к разбитию австрийской дивизии и пленению значительной части ее. При этом полком было взято знамя, одна батарея и несколько сот пленных». Сам М. Г. Пацевич был убит в бою 13 февраля 1916 г.[85]
58
Раздел написан на основе данных: Строков А. А. История военного искусства. Капиталистическое общество периода империализма (до конца первой мировой войны 1914–1918 гг.). М., 1967; Новиков П. А. Восточно-Сибирские стрелки в Первой мировой войне: 2-й, 3-й и 7-й Сибирские армейские корпуса в 1914–1918 гг. Иркутск, 2008; Симонов Д. Г., Шиловский М. В. Первая мировая война // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2010. С. 597–599.
59
ГАРФ. ДПОО, 4-е делопроизв. 1914. Д. 138. Ч. 1. Л. 7.
60
Дальний Восток России в период революции 1917 года и гражданской войны. Владивосток, 2003. Т. 3. Кн. 1. С. 64.
61
Ращупкин Ю. М. Указ. соч. С. 122.
62
Смирнов Н. Н. Слово о забайкальских казаках. Волгоград, 1994. С. 398–400.
63
Новиков П. А. Указ. соч. С. 67.
64
Ращупкин Ю. М. Иркутский военный округ во второй половине XIX – начале ХХ веков: формирование, специфика и деятельность. Иркутск, 2003. С. 114.
65
Гаврин Д. А. 2-я русская армия в боях у озера Нарочь в марте 1916 года // Вестник Омского университета, 2011, № 1. С. 85–89.
66
Хромов П. Антивоенные выступления в войсках 12-й армии Северного фронта в конце 1916 года // Военно-исторический журнал. 1962. № 4. С. 121.
67
Жилин А. П. Последнее наступление (июнь 1917 г.). М., 1983. С. 27.
68
Фабрика Ю. А. Новониколаевск и его жители в Первой мировой войне 1914–1918 гг. // Военно-исторический журнал. 2010. № 6. С. 42.
69
Олейников А. В. Генерал Первой мировой В. Е. Флуг // Военно-исторический журнал. 2010. № 4. С. 26.
70
Исторический архив, 2004, № 3. С. 89.
71
Атаман Семенов. О себе (Воспоминания, мысли, выводы). М., 1999. С. 40.
72
Жуков А. В. Барон Унгерн. Даурский крестоносец или буддист с мечом. М., 1913. С. 111.
73
Корольков Г. Праснышское сражение. Июль 1915 г. М. – Л., 1928. С. 43, 44, 53.
74
Смирнов Н. Н. Слово о забайкальских казаках: Исторический очерк-хроника. Волгоград, 1994. С. 395–523.
75
Фабрика Ю. А. Сибирский щит (становление сибирского воинства и военные деятели Сибири). Новосибирск, 2001. С. 78.
76
Тогучинская газета. 2013. 14 авг.
77
ГАНО. Ф. Д-132. Оп. 1. Д. 35. Л. 31–31 об.
78
Там же. Л. 78.
79
Там же. Л. 86.
80
Ульянов И. Э. Регулярная пехота 1855–1918. М., 1998. С. 260; Голиков В. И., Чернов К. А. Томский пехотный полк в боях и сражениях в XVIII – ХХ веках. Томск, 2012. С. 327.
81
Шулдяков В. А. Гибель Сибирского казачьего войска. 1917–1920. М., 2004. Кн. 1. С. 29–31.
82
Чернов К. А. Томский гарнизонный батальон – 42-й Сибирский стрелковый полк // Тр. Томск. обл. краеведческ. музея. Томск, 2002. Т. 12. С. 93
83
Сибирская историческая энциклопедия. Новосибирск, 2010. Т. 3. С. 647–655.
84
Цит. по: Звягин С. П. В. Н. Пепеляев: судьба либерала из Сибири в начале ХХ века. Томск, 2012. С. 18–19.
85
Смирнов Н. Н. Слово о забайкальских казаках. Волгоград, 1994. С. 494.