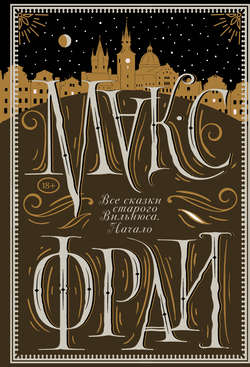Читать книгу Все сказки старого Вильнюса. Начало - Макс Фрай - Страница 7
Улица Аугустиону
(Augustijonų g.)
Билет и чемодан
Оглавление– По-моему, тебе пора в отпуск, – говорит Нёхиси.
Это, во-первых, чистая правда. А во-вторых, конечно, полная чушь. Какой может быть отпуск?! Еще чего.
– Еще чего, – огрызаюсь я. Вслух, чтобы было понятно: это не случайная вздорная мысль, рожденная духом противоречия, а моя официальная позиция.
Но Нёхиси моя официальная позиция до одного места. Он настойчивый.
– Ты на себя в зеркало посмотри, – говорит он. – Если, конечно, в городе найдется хоть одно настолько безумное, что согласится тебя отражать. А жаль, зрелище поучительное. Ты же зеленый уже!
– Не уже, а еще. Я, если ты не заметил, с мая зеленый. Как минимум раз в неделю. Обычно по вечерам.
– То-то и оно что с мая, – вздыхает Нёхиси. – Никогда еще с тобой такого не было, чтобы дурацкая шутка затягивалась так надолго… Эй, это что за нелепое недоразумение прямо перед моим носом? Откуда оно взялось?
– Это кулак, – объясняю я. – Мой. Одна штука. Не настолько пудовый, как хотелось бы, но уж какой есть. Я тебе им грожу.
– Ясно, – кротко кивает Нёхиси. – Ладно, хорошо, не дурацкая. Но и остроумные шутки обычно надоедают тебе после первого употребления. Повторяться ты не любитель.
Это, кстати, чистая правда. Но зеленеть мне почему-то пока не надоело. Этот цвет лица меня неизменно смешит.
– Черт знает что с тобой в последнее время творится, – снова вздыхает Нёхиси. – По-моему, ты слишком много работаешь. И почти перестал развлекаться. Хотя развлекаться – и есть твоя основная работа. Такой вот удивительный парадокс.
– Погоди. Как это – перестал развлекаться? А чем, по-твоему, я занимаюсь по сто сорок восемь часов или сколько их там в этих дурацких сутках, которыми здесь зачем-то измеряют время?
– Всего двадцать четыре. Согласен, что маловато, но продолжительность суток не в моей компетенции. Извини.
– Вот сколько есть, столько и развлекаюсь. Не покладая верхних конечностей и временами задействуя нижние. Что не так?
Нёхиси молчит, но столь выразительно, что крышу заброшенного двухэтажного дома на улице Аугустиону, где мы сегодня засели, окутывает влажный, густой, совершенно осенний туман, а температура воздуха резко понижается с плюс двадцати четырех до примерно семи. Но все-таки выше нуля. И на том спасибо.
– Прорехи, которые ты оставляешь в реальности, становятся все шире, – наконец говорит Нёхиси. – Но валится из них на наши головы, по большей части, какая-то па… Ладно. Скажем так, не настолько забавные штуки, как раньше. То есть вообще не забавные. Как магнитом их сюда тянет. И это совсем не смешно.
Я начинаю понимать, что разговор, который я считал дружеским трепом, как-то незаметно превратился в производственное совещание. В ходе которого мне делают самый настоящий втык. Тоже, надо понимать, производственный. Интересное ощущение. Отчасти даже прельстительное – свежестью и остротой.
– Ты почти перестал вытворять бесполезные глупости, – продолжает Нёхиси. – Как будто – типун мне на язык! – вдруг повзрослел. И разлюбил свои лучшие игрушки. Это, конечно, можно понять, ни одно сердце в мире не безразмерно, даже твое. А все-таки моста через Вильняле напротив Бернардинского кладбища мне жаль до сих пор. Такой был отличный почти общедоступный путь к новой судьбе; не удивлюсь, если кратчайший во всей Вселенной. И тайная лестница во дворе на Бокшто, спускаясь по которой практически каждый получал небольшой шанс угодить прямо в Тонино кафе, теперь закрыта на ремонт. Для завсегдатаев, понятно, невелика проблема, у них свои тропы, но этой твоей замечательной лотереи для случайных прохожих больше нет.
– Мост я не разлюбил, а просто не удержал, – признаюсь я. – Всего на несколько дней отвлекся, перестал по нему гулять, а оказалось, мое внимание было не одной из множества опор, как я думал, а последней, единственной. Мне самому очень жаль. Но что касается лестницы у Тониного кафе, поверь, все только к лучшему. В последнее время там стали появляться чрезвычайно неприятные визитеры. Приходить приходили, но не видели ничего, кроме пыльных руин. Даже музыку не слышали, прикинь. От их невидящих взглядов штукатурка над барной стойкой трещинами пошла. И угадай с трех раз, кого припахали шпатлевать стены? Тоже, конечно, взглядом. Но все равно тяжелый физический труд. Терпеть не могу такой ерундой заниматься. В общем, я рассердился и прикрыл лестницу. Временно. Когда остыну, снова открою. Ну или не открою. Поглядим. Как пойдет.
– Ладно, – неохотно соглашается Нёхиси. – Ежедневно шпатлевать стены и правда невелика радость. Но ангел-то чем тебе не угодил? Отлично смотрелся в арке на Ужупе со своей трубой и добросовестно отменял личный конец света для каждого, кто проходил там в трудную минуту. А красный самолет с улицы Тоторю?..
– Да почему сразу «не угодил»? Они просто улетели – и ангел, и самолет. Все, что наделено крыльями, имеет полное право летать. Пришлось им немного помочь – просто ради торжества целесообразности формы. А ребята, понятно, вошли во вкус. Не силой же их теперь возвращать.
– Силой не надо. Да и проблема не столько в том, что их больше нет, сколько в твоем настроении. Что нового появилось в городе за последний год? Четыре бездонные пропасти, очередной филиал Серого Ада аж с тремя роковыми закусочными – вот уж чего от тебя никто не ожидал! – и этот жуткий трамвай, курсирующий по Пилимо…
– С чего это вдруг он «жуткий»? По-моему, шикарный, совершенно невозможный трамвай; в каком-то смысле ничем не хуже исчезнувшего моста. Куда сам пожелает, туда и завезет. И наконец-то долговечный! Все его предшественники исчезали буквально через пару часов, а этот с прошлого сентября исправно появляется на одной и той же улице в определенные лунные дни. Не надо его ругать. Я изобретал этот трамвай в поте лица, долгими зимними вечерами, босой, при лучине, питаясь исключительно вермишелью, застрявшей в бороде на позапрошлогоднем благотворительном обеде для горемычных сирот…
Нёхиси начинает ржать. Устал я или нет, а рассмешить его мне всегда удается. Наверное, потому, что в этом и состоит мое основное предназначение – его веселить.
– Согласен, отличный трамвай, – наконец говорит Нёхиси. – Но некоторых пассажиров он увозит в такой невообразимый кошмар, что не хотел бы я оказаться на их месте. Впрочем, возможно, ты прав, и это лучшее, что могло бы с ними случиться. А все равно тебе давным-давно пора в отпуск. Всем иногда надо отдыхать.
– Легко сказать – в отпуск. Вот как ты себе это представляешь?
– Обыкновенно. Во-первых, тебе понадобится большой чемодан…
Я делаю страшное лицо, но Нёхиси этим не проймешь.
– А в чемодан непременно надо положить плавки, – добавляет он. – Люди всегда берут в отпуск плавки. Такие специальные мокрые трусы для купания в море. Где-то я об этом совсем недавно слышал. Или читал.
– Ладно, – киваю я. – Ты меня практически убедил. Большой чемодан, набитый мокрыми трусами, – это очень серьезное искушение. Как тут устоять.
– И еще билет, – говорит Нёхиси. – Я точно знаю, что должен быть билет. Потому что без билета тебе придется лететь в отпуск просто с попутным ветром. Что само по себе скорее удовольствие, чем проблема. Но вряд ли ветер сможет прихватить с собой чемодан. А без чемодана отпуска не бывает.
– На самом деле бывает. Например, с рюкзаком. Или просто с кредиткой в кармане, чтобы купить все на месте. Но я не настаиваю. Пусть будет по-твоему. Билет и чемодан.
– Ну и отлично, – улыбается Нёхиси. – Значит, ты отправляешься в отпуск. – И снова став серьезным, добавляет: – Надолго я тебя, конечно, не отпущу. Но неделю-другую воображать, будто ты – просто беззаботный богатый бездельник, уехавший к морю, я, пожалуй, смогу.
– «Беззаботный богатый бездельник» – это соблазн покруче, чем полный чемодан плавок. Никогда не пробовал, как это. Но в юности, грешным делом, хотел таким стать.
– Ну вот и попробуешь, – говорит Нёхиси. – Я, собственно, почему так настаиваю. Вчера случайно подслушал один разговор. Люди в кафе обсуждали планы на отпуск и пришли к выводу, что путешествовать надо как можно чаще, хотя бы в соседний город, на пару дней. Потому что человек устает не столько от тяжелой работы сколько от повседневного образа себя. И я начал беспокоиться: все-таки ты время от времени утверждаешь, будто когда-то был человеком. Вдруг это правда? И вдруг оно у тебя… не совсем прошло?
«Не совсем прошло» – это он, конечно, метко меня припечатал. Что тут возразишь.
– Честно говоря, я просто боюсь, – признаюсь я.
– Ты боишься?! Да ну, не заливай. Чего?
– Ну как – чего? А вдруг ты сам себе поверишь, когда станешь воображать меня беззаботным бездельником с чемоданом, набитым плавками и билетом на самолет. И я навсегда им останусь. А ты без меня заскучаешь. И наш распрекрасный хаос понемногу начнет без меня упорядочиваться. И горожане с туристами перестанут то и дело проваливаться за подкладку реальности. И постепенно затянутся все небесные щели, даже самые безобидные, из которых приходят только тревожащие воображение сны, а это уже совсем никуда не годится. Может, ну его к лешему, этот отпуск?
– Конечно, я без тебя заскучаю, – говорит Нёхиси. – Заранее страшно подумать насколько! Но ничего. Неделю уж точно как-нибудь потерплю, а потом выдумаю тебя заново, мне не привыкать. И ты тут же вернешься из отпуска, довольный и отдохнувший. Как видишь, я все предусмотрел.
Кто из нас кого выдумал – это, конечно, отдельный вопрос. У каждого из нас на него как минимум два ответа: «ты» и «я». А еще есть Стефан, совершенно уверенный, будто призвал нас обоих звуками своего бубна и, подкупив обильными жертвами, уговорил не только задержаться подольше, но и решить, будто мы тут были всегда. А еще есть небытие, время от времени нашептывающее мне: «На самом деле вас обоих вообще нет». И несговорчивые древние духи этой земли, которые считают город в месте слияния рек и реальностей случайным недоразумением, а нас – бессовестными самозванцами; им, конечно, с нами не сладить, но по мелочам пакостят изобретательно и так вдохновенно, что лучше бы, ей-богу, учились красить картины и сочинять стихи.
Все вышеперечисленное вносит в нашу с Нёхиси жизнь достаточно неопределенности, чтобы заставить меня опасаться нарушить сложившееся равновесие. Поэтому я ни за что не…
– Эй, – смеется Нёхиси, – с каких это пор ты разлюбил рисковать?
– С недавних, – мрачно говорю я. – И это, конечно, не дело. Наверное, мне и правда пора отдохнуть.
* * *
С этой мыслью я и просыпаюсь: мне пора отдохнуть. В первую очередь, от себя – если уже даже во сне мне об этом твердят, дело плохо, значит, и правда устал. А потом вспоминаю, что отдых – это больше не умозрительная идея, а план, к исполнению которого я приступлю вот прямо сейчас. Выпью кофе, схожу куда-нибудь позавтракать и поеду в аэропорт. Билет в кармане, до вылета почти четыре часа.
Пока варится кофе, я смотрю на улицу Августиону, куда выходят окна моей новой квартиры. Странная улица – узкая, непроезжая, и ни единого дерева, только камень и солнечный свет. Слева – мрачные здания Иезуитского колледжа, справа – новенькая студия йоги, стены которой выкрашены в жизнерадостный, как скрежет зубовный, оранжевый цвет. Это я, конечно, очень удачно поселился, аккурат между двух огней, в смысле путей к спасению; оба не для меня. Зато в центре, то есть прямо напротив моего окна установлен своего рода мемориал богооставленности – три мусорных бака, доверху заполненных, скажем так, правдой жизни. Правда жизни, как ей и положено, энергично смердит, назло иезуитам, йогам и романтично настроенным агностикам вроде меня. Замыслившим побег.
При мысли о побеге у меня снова поднимается настроение. Наливаю себе кофе, смотрю на огромный серебристый чемодан, нежно, как на спящую возлюбленную, – еще не время ее будить. В смысле пока рано волочь его вниз. Сперва завтрак, чемодан подождет.
Жизнь в Старом городе позволяет сэкономить на покупке сковородки. В смысле совершенно необязательно готовить себе завтрак, достаточно выйти из дома, и все омлеты этой части Вселенной к твоим услугам. Надо только выбрать, куда идти, и вот это, кстати, проблема таких масштабов, что, ей-богу, легче было бы пожарить омлет самому. Но я не пасую перед трудностями, а просто бросаю монетку. Орел – направо, решка – налево. При каждом новом приступе нерешительности повторить.
Сегодня направо, и это значит, что монетку мне еще бросать и бросать, очень уж много разнообразных соблазнов таится в той стороне. Но, положа руку на сердце, всем бы такие проблемы. Спорю на что угодно, загорелый старик, роющийся сейчас в одном из мусорных баков, поменялся бы со мной, не глядя. А я с ним, пожалуй, нет.
Ну и дурак, – сердито говорю я себе. – Глупо мыслить стереотипами. Роется в мусоре – значит совсем пропащий, жизнь его тяжела. А между тем выглядит дед отлично. И одет не хуже меня. Чем сожалеть о его печальной судьбе, лучше подумай, что такой джентльмен может искать в помойке. Наверняка потерянное сокровище, пиратский сундук или случайно выброшенный в мусор золотой слиток. Полуторакилограммовый. Например.
Впрочем, – думаю я, – это ужасно скучно. Ну, слиток, ну потерял, ну нашел, припер домой, поставил на место, тоже мне великое приключение. Лучше так: например, дед узнал, что в одном из мусорных баков спрятана… ай, чего мелочиться, пусть будет Книга Судеб. Понятия не имею, как она там поместится, но все равно, хотя бы один из томов, где, предположим, записаны судьбы жителей нашего Старого города или, скажем, всех горожан, чьи имена начинаются на букву «Б». Понятия не имею, по какому принципу ангелы-хранители ведут документацию, но главное, что ведут. И один из них – то ли уникальный балбес, в сто раз хуже меня, то ли, напротив, хитрец, каких мало, – хранит свои записи в мусорном баке, как в сейфе. Знает, что никто не польстится на выброшенную в помойку старую исписанную тетрадь; это, кстати, объясняет, почему у нас так редко вывозят мусор: с ангельской волей коммунальным службам не совладать. И этот смуглый старик – конечно же, великий маг и алхимик, возможно, недавно прибывший к нам из Магриба верхом на рейсовом джинне – как-то пронюхал, что здесь хранится, и отправился на поиски. Во-первых, такое любому интересно почитать! А во-вторых, пока хозяин тетради беззаботно скачет по облакам, можно найти в списке имя – свое, или лучшего друга, или бывшей возлюбленной, или самого злого в мире злодея, за чьей головой охотишься уже тысячу лет, – и дописать пару строк. И дело в шляпе, написанное не вымараешь, да и вряд ли ангел так уж дотошно всякий раз проверяет…
Нелепая версия, это я и сам понимаю, но ничего не поделаешь, надо же как-то себя развлекать по дороге на завтрак. Почти дойдя до угла, я оборачиваюсь – как там успехи у моего магрибского мага-алхимика? И вижу: старик действительно держит в руках большую тетрадь в темно-коричневом переплете, что-то торопливо в ней черкает, закрывает, кидает обратно в бак и поспешно исчезает – то ли за дверью Иезуитского колледжа, то ли просто посреди бела дня, у меня на глазах.
Больше всего на свете люблю такие нелепые совпадения. Отлично начался день. Главное теперь не испортить себе удовольствие, не броситься к помойке за этой дурацкой тетрадью, чтобы, упаси боже, не обнаружить там какие-нибудь расходные записи или, того хуже, любительские стихи. Потому что пока не знаешь наверняка, можно воображать что угодно. Например, что я угадал, и старик действительно переписывал чью-то судьбу, и все у него получилось, и теперь…
Нет знака препинания лучше многоточия, хотя на письме ими, конечно, не следует злоупотреблять.
Теперь я не просто иду завтракать, а лечу, натурально на крыльях любви, – к жизни, которая снова кажется мне по-настоящему удивительной штукой, надо только не лениться самостоятельно раскрашивать ее в соответствующие цвета. А я в последнее время как-то утратил эту свою замечательную способность устраивать себе отличные развлечения буквально из ничего. Наверное, просто устал – от себя, больше-то, по идее, не от чего. Хорошо хоть хватило ума купить билет на самолет к далекому теплому морю и собрать чемодан. Все-таки великое дело отпуск – еще никуда не уехал, а усталость, похоже, уже прошла.
И это только начало, – говорю я себе, проходя мимо оранжевого особняка, где недавно открыли студию йоги. С тех пор я мечтаю заказать в мастерской табличку с дурацкой надписью, например «Общество охраны прав василисков» или «Комитет нарушений причинно-следственных связей», и однажды безлунной ночью тайно ее подменить. Вернусь – надо будет этим заняться. И, кстати, нарисовать уже на каменной мостовой улицы Августиону тени деревьев, которые здесь не растут. Мне несложно, бывших художников не бывает. А какой будет эффект! – думаю я, ковыряя вилкой омлет. Откуда он, кстати, взялся? В смысле когда это я успел зайти в кафе и даже дождаться заказа? Вопрос риторический; ясно, что пока я прикидывал, сколько краски и времени уйдет на рисование теней, откуда следует начинать и не позвать ли помощников, а если да, то кого, жизнь продолжалась, и я в ней довольно активно участвовал – не приходя в сознание. Все-таки мой автопилот удивительный молодец.
Я жую, почти не чувствуя вкуса, потому что разглядываю через окно ярко-синюю дверь на противоположной стене улицы и думаю: как же жаль, что человеческие возможности ограничены, и я не могу сделать так, чтобы эта синяя дверь каждый день оказывалась в каком-нибудь новом месте. Не то чтобы в этом был какой-то особый прок, но такие штуки бросаются в глаза, запоминаются, вносят в повседневное размеренное существование элемент божественного противоречия, лишают реальность избыточной плотности, от которой на самом деле очень легко устать, вон даже я устал, хотя казалось бы… Хотя, – думаю я, – двери на разных улицах можно время от времени тайком перекрашивать; это, конечно, наверняка считается хулиганством и карается штрафом. Надеюсь, что только штрафом, потому что, если уж мне припекло, держите меня семеро; впрочем, все равно не удержите. Непременно этим займусь, как только вернусь из отпуска и нарисую на Августиону хотя бы десяток древесных теней. И закажу какую-нибудь дурацкую табличку для студии йоги. Надо же, сколько дел! Прямо хоть не уезжай.
Но билет жжет мне карман, пепел кармана стучит в моем сердце, на пороге моей квартиры нервно поскрипывает колесиками собранный чемодан, боится, вдруг я без него уеду. Поэтому я откладываю в сторону вилку и, расплатившись, выхожу из кафе. По дороге успеваю придумать площадь имени Летучего Голландца, которая иногда туманными вечерами мерещится праздным гулякам вроде меня самого, огорчиться, что устроить такую штуку уж точно не в человеческих силах, увидеть над входом в студию йоги табличку «Общество охраны прав нарушителей причинно-следственных связей», почувствовать, как волосы натурально становятся дыбом, решить, что такая прическа мне наверняка к лицу, и несколько раз промахнуться ключом мимо замочной скважины: руки у меня те еще дураки, чуть что не так – дрожат. Я уже отчаялся воспитать в них стойкость.
Дома выясняется, что время у меня есть как минимум на еще одну чашку кофе, а пока он варится, хорошо бы проверить, что творится в моем чемодане, потому что собирал я его вчера явно на автопилоте, и теперь совершенно не помню, что туда положил. Но гораздо важнее, что возня с чемоданом отвлечет меня от размышлений о том, откуда взялась табличка над йоговской студией. Именно то, что мне сейчас требуется, потому что какой же дурак согласится сойти с ума накануне отпуска, буквально пару часов до вылета не дотянув.
Открыв чемодан, я действительно сразу забываю о дурацкой табличке. Какая может быть табличка, когда из чемодана к моим ногам вываливаются плавки – не одни, а десятки, нет, сотни плавок разных фасонов, цветов и размеров, мокрых настолько, что по полу от них в разные стороны текут ручейки; сливаясь, они превращаются в реки, вода прибывает, минуту спустя меня уже окружает самое настоящее море, оно мне сейчас как раз по колено, самое время идти на дно, в смысле садиться на пол и хохотать, наконец-то вспомнив, откуда эти мокрые плавки взялись.
* * *
– Это нечестно, – говорю я. – Тоже мне отпуск! Какие-то жалкие полтора часа.
– Час тридцать восемь минут, – педантично поправляет меня Нёхиси. – Я засекал. Однако этого хватило. Твою усталость как рукой сняло.
– Я не то что до моря, а даже до аэропорта не добрался, – говорю я, изо всех сил стараясь изобразить хоть какое-то подобие негодования на своем лице, стремительно превращающемся в безобразно довольную рожу.
Нёхиси тактично делает вид, что не замечает моих провальных попыток. Хотя, по идее, мог бы задразнить.
– Извини, – с несвойственной ему кротостью отвечает он. – Я без тебя как-то неожиданно сильно заскучал. Сам удивляюсь – с чего бы? Теоретически я всемогущ, а значит, могу все, в том числе прекрасно без тебя обходиться. Но теория внезапно разошлась с практикой. Видимо, это и называется «форс-мажор». С другой стороны, все к лучшему. Эта твоя идея с тенями от несуществующих деревьев очень уж хороша, а рисовать их все-таки лучше не той краской, которую можно купить в любой художественной лавке, а новейшим тенеимитатором из моих запасов. Пару банок я охотно тебе ссужу.
– И поможешь мыть кисти, – говорю я условно суровым тоном. Очень условно суровым, потому что голос сейчас повинуется мне не лучше, чем лицо.
– Помогу, – соглашается Нёхиси. – Кто же, будучи в здравом рассудке, доверит тебе самому отмывать кисти? Даже не знаю, во что они превратятся после такой процедуры. А инструменты хорошие, дорогие, еще пригодятся. Надеюсь, не раз.
– А потом я…
– А потом ты займешься исчезающей площадью, – твердо говорит Нёхиси. – Будет обидно, если ее никто никогда не увидит. Например, сегодня на закате в районе Тибетского сквера. И завтра вечером где-нибудь возле Нерис. И послезавтра…
– Да не вопрос, – улыбаюсь я. – Я еще помню, как мне было обидно, что устроить такую штуку не в человеческих силах. Чертовски приятно вспомнить, что «не в человеческих» означает «вполне в моих».