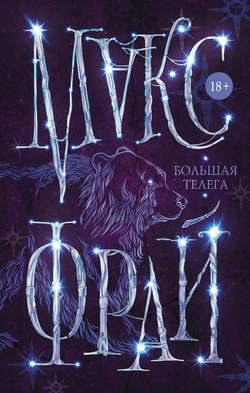Читать книгу Большая телега - Макс Фрай - Страница 2
α
ОглавлениеВаша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик.
Некоторое время я созерцал телефон, пытаясь понять, что тут не так. То есть, разумеется, вообще все не так. Какая «корреспонденция»? От кого, откуда, зачем? С каких пор о получении письма оповещают по телефону? И что за почтовый ящик может быть в саду? В каком, к черту, саду?! И почему именно в Нанси? Я туда, конечно, еду – вот прямо сейчас, в скоростном поезде из Парижа. Но об этом не знает ни одна живая душа.
Я и сам еще два часа назад не знал, что отправлюсь в Нанси. Просто шел мимо Восточного вокзала, рядом с которым поселился, глазел по сторонам в надежде, что увлекательные планы на только-только начавшийся день образуются как-нибудь сами собой. И вдруг вспомнил игру, которую придумал давным-давно, еще в школе, но по-настоящему оценил, когда стал жителем объединенной Европы и принялся исследовать ее с энтузиазмом узника, чье пожизненное заключение внезапно закончилось, а жизнь – еще нет.
Правила простые: оказавшись возле вокзала в начале свободного от неотложных дел дня, войти и изучить расписание пригородных электричек, а если есть лишние деньги и желание забраться подальше, то и поездов дальнего следования. Выбрать ближайший, вернее, отходящий минут через десять-пятнадцать, чтобы успеть купить билет – и вперед, на поиски новых впечатлений. Обычно я ограничиваюсь короткими поездками, чтобы вечером можно было вернуться, но это не принцип, а вынужденная уступка обстоятельствам. Будь я богатым бездельником, месяцами домой не возвращался бы.
В глубине души я всегда считал, что это не просто развлечение, а большая, сложная игра с невидимым и, ясное дело, непостижимым партнером, которого по малолетству именовал Судьбой, потом – Случаем, но довольно быстро почувствовал, что никаких имен называть не надо, даже наедине с собой, и благоговейно притих.
Я уже давным-давно такой взрослый, что самому страшно, но до сих пор люблю представлять, что всякий раз, когда я приближаюсь к вокзалу, какой-нибудь дежурный сотрудник Небесной Канцелярии бросает все дела и принимается спешно составлять для меня очередной маршрут. Ощущать его внимание и деятельную заботу мне нравится даже больше, чем болтаться без дела по незнакомым городам и селениям, а лучше этого занятия я пока так ничего и не придумал. Хотя очень старался.
Попав на несколько дней в Париж, я никаких дополнительных путешествий не планировал, это, казалось мне, перебор – все равно что, проникнув в погреб знаменитого винодела, периодически выскакивать оттуда в ближайшее бистро. Но уже на третий день, проходя мимо Восточного вокзала, я почувствовал знакомый сладкий зуд – не в теле и даже не в так называемой «душе», а где-то в районе грядущего полудня. Почти неохотно вошел, почти невольно покосился на расписание и увидел, что скоростной поезд до Нанси как раз готовится к отправлению. Прикинул: а что, прекрасный маршрут, полтора часа, и на месте. И вернуться наверняка можно сегодня же вечером, ну же, сказал я себе, ну! – и только тогда заметил, что уже уперся коленом в жизнерадостную зеленую твердь билетного автомата.
И вот я еду в Нанси, уже почти приехал, за окном мелькают пригородные сады, а мой телефон внезапно начинает шипеть, свистеть и плеваться – я специально сохранил в его памяти симфонию для трех одновременно закипевших чайников, чтобы улыбаться всякий раз, когда приходит sms.
Доставая телефон из кармана, я полагал, это кто-нибудь из приятелей внезапно вспомнил о моем существовании, но нет, сообщение было послано с какого-то незнакомого местного номера. «Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик», – и, да, я наконец понял, что удивило меня больше всего: все, кроме собственно адреса, было написано по-русски, причем не транслитом, а кириллицей. При том что нахожусь я во Франции, а номер у меня – немецкий. Однако неведомого поклонника Кирилла и Мефодия эти обстоятельства совершенно не смутили.
Конечно, я попробовал перезвонить таинственному отправителю – с предсказуемым результатом. Ласковый женский голос проворковал, что такого номера не существует в пределах обитаемой вселенной; что же касается необитаемой, о ней механическая мадмуазель не имела никакой информации, как, впрочем, и я сам. Ну, то есть, мне приятно думать, что автомат сказал примерно это, а не банальное «неправильно набран номер», для того и нужны благозвучные незнакомые языки, вроде французского – чтобы питать наши иллюзии.
Тогда я написал ответ – дескать, ничего не понимаю, объясните. Зря старался, все равно сообщение не дошло до абонента; я, впрочем, не слишком на это рассчитывал.
Значит так, сказал я себе, покинув здание вокзала. Таинственная корреспонденция подождет, пока я выпью кофе. И волшебный сад, который, надо думать, в детстве мечтал стать избитой метафорой утерянного рая, тоже подождет, и дурацкий почтовый ящик, которого, разумеется, не существует.
Вообще-то, сейчас, когда на меня никто не смотрел и мыслей, смею надеяться, не читал, можно было бы оставить этот снисходительный тон, пинком прогнать внутреннего скептика, наспех сотворенного когда-то из вязкой глины детских разочарований специально для упрощения коммуникаций с внешним миром, и честно признать: на самом деле я погибаю от любопытства и нетерпения. С тех пор, как прочитал нелепое сообщение, написанное кириллицей, только и думаю, что про сад на улице Сельер. Привстал на цыпочки, затаил дыхание, жду.
Но внутренний скептик имеет надо мной куда большую власть, чем было задумано в момент его рождения. Вот и сейчас он буквально силком затащил меня в ближайшее кафе, а со всем остальным я отлично справился сам: обменял две монеты на чашку, наполненную ароматной тьмой, пригубил, вышел на террасу, сел, уставился на разрисованную пластиковую столешницу, достал блокнот, записал: Жители города Нанси чертят на своих столах старинные карты мира, чтобы находиться одовременно всюду, оставаясь при этом дома.
Это уже давно стало традицией, приезжая в незнакомый город, я записываю первое более-менее яркое впечатление; получается, можно сказать, новая «Книга чудес», потому что нет ничего причудливей, чем фрагмент правды, насильственно извлеченный рассказчиком из пестрой мозаики бытия и снабженный наивным комментарием озадаченного, но не утратившего вкуса к построению умозаключений инопланетянина. Как почти все, что я делаю, эти заметки не нужны и не интересны никому, кроме меня самого. В юности я полагал свой удел трагическим, но со временем понял, что это просто естественное положение вещей. Люди вообще нужны и интересны друг другу куда меньше, чем принято думать, разве только спину почесать, а если душа не лежит к этому занятию, следует привыкнуть к мысли, что тебя для окружающих как бы и нет вовсе. А еще лучше – научиться считать это не бедой, но преимуществом. Я научился.
Дописав, я одним глотком прикончил остывший эспрессо, купил в ближайшем киоске план города, с удивлением и даже некоторым разочарованием убедился, что улица Sellier действительно существует, даже Jardin de la Citadelle там отмечен крошечным зеленым прямоугольником, и неторопливо, с независимым видом зашагал по направлению к площади Короля Станислава, делая вид, будто ее хваленый архитектурный ансамбль занимает меня куда больше, чем тот факт, что от этой площади до моего сада практически рукой подать… До «моего»? Ого. Ничего себе.
Внутренний скептик был шокирован столь трепетным отношением к этому нелепому делу; еще больше его сердило, что улица и сад не оказались вымыслом, а значит не удастся вот прямо сейчас объявить меня легковерным ослом и закрыть тему, сэкономив, таким образом, кучу времени – ради чего, кстати, его следует экономить? Хороший вопрос.
Не желая сдаваться, внутренний скептик воздвигал на моем пути к таинственной корреспонденции все новые препятствия. Преувеличенно восхищался фальшивой позолотой решеток на площади Короля Станислава, долго топтался перед скучным фонтаном Нептуна, требовал вдумчиво насладиться ароматом цветущих лип на площади Ла Карьер и с таким неистовым ожесточением тащил меня к Кафедральному собору, будто всерьез вознамерился скормить тамошним позеленевшим от времени химерам. Наконец, отчаявшись, он уселся на стул первого попавшегося кафе и объявил, что без плотного завтрака шагу больше не сделает. Возражать было бессмысленно: этот мерзавец загодя включил легкое головокружение и уже держал палец на кнопке с надисью «нас всех тошнит». Пришлось покориться, уткнуться в меню, сделать выбор, терпеливо ждать сперва официанта, потом – его благополучного возвращения с омлетом, неторопливо есть, а в финале потребовать вторую чашку кофе, откинуться на спинку стула, блаженно вытянуть не успевшие пока устать ноги и закурить, как будто я совершенно не спешу рассчитаться, вскочить и отправиться на поиски Jardin de la Citadelle, больно надо, подумаешь.
Однако, когда я наконец поднялся, выяснилось, что до улицы Сельер вовсе не четверть часа ходьбы, как я предполагал, а рукой подать. Если верить карте, она начинается сразу за крепостными воротами, а ворота – вот же они, прямо передо мной, всего в сотне метров, странно, что я их раньше не увидел, как будто приблизились, пока я ел, ну или кафе аккуратно передвинулось, вместе с террасой, немногочисленными едоками и омлетом, поглотившим все мое внимание.
Ерунда какая, ухмыльнулся внутренний скептик, просто ты вышел сюда из-за угла и сразу уселся спиной к воротам, вот и не заметил, обычное дело, не выдумывай.
Ладно, какая разница, примирительно сказал я. И, поскольку внутренний скептик не смог изобрести ни одного мало-мальски убедительного предлога куда-нибудь срочно свернуть, поспешно зашагал к воротам.
Jardin de la Citadelle оказался совсем крошечным парком, разбитым, насколько я мог судить, на остатках древней крепостной стены, поэтому туда пришлось подниматься по каменной лестнице, скользкой от сотен тысяч минувших и будущих дождей. Я терпеть не могу аккуратные французские парки, но этот был настолько запущен, что уже почти превратился в английский – цветочные клумбы еще оставались на месте, зато кустарники давным-давно нарушили границы отведенной им территории, теперь они были всюду, расползлись по тропинкам, как пахучее зеленое тесто, убежавшее из квашни. В центре парка высились огромные клены. Когда-то, не сомневаюсь, они были рассажены стройными рядами, но с тех пор успели разрастись, развернуться в разные стороны, переплестись кронами, образовать между небом и землей маленькую действующую модель мирового хаоса.
Никакого почтового отделения в парке, разумеется, не оказалось. Глупо было на это рассчитывать, снисходительно заметил мой внутренний скептик. И, великодушный, как все победители, добавил: ладно, можешь тут перекурить, чтобы не было ощущения, будто совсем уж напрасно шел. А потом, если не возражаешь, поищем что-нибудь действительно интересное.
Курить мне пока не особо хотелось, но иных предлогов задержаться в саду, еще не утратившем очарования, свойственного всем несбывшимся обещаниям, я изобрести не мог. Поэтому сел на скамейку, достал из кармана сигареты, и только тогда заметил, что я здесь не один. Другое человеческое существо, которое с одинаковым успехом могло оказаться мужчиной, женщиной и даже неуклюжим рослым ребенком, стояло под самым высоким кленом и, задрав голову, что-то высматривало в его ветвях. Существо было облачено в черные джинсы и ярко-красную ветровку, на его голове топорщился коротенький ежик младенчески белокурых волос, а за спиной болтался большой, но явно почти пустой рюкзак, уныло-розовый, как коровье вымя. Впрочем, я недолго любовался этим зрелищем, потому что почти сразу инстинктивно задрал голову: что оно там высматривает? Белку небось? Я тоже хочу.
Но вместо белки я увидел когда-то красный, а теперь потемневший от времени и влаги почтовый ящик, не прибитый, а старательно прикрученный к кленовому стволу несколькими слоями проволоки и бечевки метрах в четырех над землей.
Это скворечник. Или кормушка, – заявил мой внутренний скептик и поспешно втянул голову в плечи – стыд ему все-таки ведом, и столь беззастенчивой подтасовкой фактов он обычно не занимается. А этот почтовый ящик был именно почтовым ящиком и ничем иным, невзирая на совершенно неуместное положение в пространстве.
Существо в красной ветровке вздрогнуло, словно наши взгляды столкнулись там, наверху, и обернулось. Оно оказалось одной из тех некрасивых женщин, которые в любом возрасте похожи на красивых мальчиков; они это, надо думать, прекрасно понимают, поэтому всю жизнь коротко стригутся и платьев не надевают даже по праздникам. Мне они очень нравятся, все как одна.
– Huch! – вырвалось у нее.
В принципе, все европейцы удивляются более-менее одинаково, лингвистические сложности начинаются секунду спустя, но это был такой характерный немецкий «ух», что я невольно улыбнулся ей, как старой знакомой. С тех пор, как я поселился в Германии и принялся регулярно оттуда уезжать, немцы попадаются на моем пути буквально всюду, включая литовские деревни, черногорские супермаркеты и вагоны пригородных электричек, курсирующих по Италии. Не сомневаюсь, что если однажды я отправлюсь в путешествие, скажем, из Португалии в Новую Зеландию на судне под американским флагом и, потерпев кораблекрушение, окажусь на необитаемом острове, там непременно обнаружится какой-нибудь плотный, добротно сработанный немец, сядет рядом со мной на песок и философски скажет: «Du scheisse»[1], – выразив, таким образом, наше общее мнение о сложившейся ситуации.
Но с женщиной в красной ветровке можно было поговорить о более жизнеутверждающих вещах. Например, как нас обоих зовут. И как это нам обоим приятно. И какой прекрасный город Нанси. И как удивительно, что мы вот так случайно встретились в этом маленьком парке. Мне-то рассказывать было особо нечего – приехал сюда на день из Парижа, просто так, посмотреть, раньше никогда тут не был. Нет-нет, я вовсе не в Париже живу, а в Берлине… Бабушка оттуда родом? Успела в свое время сбежать из Восточного? Ну надо же, какая молодец! И все в таком роде.
Белобрысая Биргит, похоже, сама не заметила, как уселась рядом со мной. Неодобрительно покосилась на мою сигарету, но тут же робко поинтересовалась, не найдется ли у меня еще одна?
– Потому что, – смущенно объяснила она, – я, вообще-то, бросила. Полгода назад. Уже в пятый раз. Это просто проклятие какое-то: я все время что-нибудь бросаю! Сперва – курить. Потом – есть. Потому что стоит бросить курить, и сразу начинаешь толстеть, никакой спорт не помогает. А мне нельзя толстеть, у меня и так фигура не очень, а все лишние килограммы откладываются на бока, и я становлюсь как веретено… И вот я голодаю день, другой, третий, потом срываюсь, покупаю какую-нибудь колбасу, ем ее с наслаждением, ненавижу себя и весь мир, и тут, наконец, вспоминаю, что табак прекрасно глушит чувство голода. Иду за сигаретами, и не жрать становится гораздо проще. Наконец, я получаю обратно свою более-менее сносную фигуру, успокаиваюсь и снова бросаю курить. И все начинается сначала… А сейчас, по-моему, самое время закурить, – вздохнула она, яростно ущипнув себя за бок. И добавила: – Ужас в том, что я сама прекрасно понимаю, что веду себя, как идиотка. Но это совершенно ничего не меняет!
– Все мы ведем себя, как идиоты, – примирительно сказал я. – Просто некоторые особо одаренные экземпляры это о себе знают, а все остальные – нет. Так что добро пожаловать в ряды интеллектуальной элиты.
Биргит расхохоталась, хотя, вообще-то, моя унылая ирония не заслуживала столь бурной реакции. Видимо, табак после долгой разлуки действовал на нее как марихуана.
– Ты определенно великий философ и вообще хороший человек, – внезапно заключила она, отсмеявшись. – А значит, ты поможешь мне залезть на дерево. Другого я бы постеснялась попросить. А тебе, видишь, уже все сказала.
– Нет проблем, – согласился я. – На какое дерево?
Она возмущенно на меня уставилась – дескать, сам, что ли, не понимаешь, на какое? – и молча ткнула пальцем в направлении почтового ящика.
– Почту надо проверить?
Вопрос был сформулирован ехидным внутренним скептиком, но, к счастью, озвучил его я сам, наивная жертва телефонного недоразумения, явившаяся в этот заброшенный парк за мифической «корреспонденцией», поэтому реплика вышла скорее сочувственная, чем ироничная.
– Вот именно, проверить, – кивнула Биргит. Помолчала и почти неохотно добавила: – Понимаешь, этот почтовый ящик – просто легенда. Его, по идее, не существует. Но мне сейчас очень-очень надо, чтобы он все-таки был. Я его уже давно ищу – везде, вернее, в самых неподходящих местах, где не может быть никаких почтовых ящиков. И – вот, видишь? Может быть, это он и есть? Ну, мало ли.
– А что за легенда-то? – спросил я.
– Я даже не уверена, что эта история тянет на полноценную легенду, – смущенно сказала Биргит. – Просто есть такая тема, которая время от времени всплывает в разговорах, кто-нибудь да скажет как бы в шутку, что этот город порой вступает в дружескую переписку со своими жителями. Не со всеми, конечно. Только с важными для него персонами. Рассказывают, например, что когда польский король Станислав только-только стал лотарингским герцогом[2] и прибыл в Нанси, таинственный посланец в стеклянном плаще вручил ему приветственное письмо якобы от главы семейства Вож[3]. А когда несколько дней спустя Станислав решил лично поблагодарить отправителя за добрые слова и дельные советы, выяснилось, что такой семьи нет не только в Нанси, но и во всей Лотарингии.
Заметив, наконец, мое недоумение, она пояснила:
– «Вож» – так здесь называют восточный ветер. Герцог этого, понятно, тоже не знал, а когда узнал, сперва рассердился, что его разыграли, но потом решил, что советами из такого источника пренебрегать не следует, и правил, как принято говорить в таких случаях, долго и мудро… Но это – просто байка. Я хочу сказать, письмо от семейства Вож в архивах не сохранилось, и никаких упоминаний о нем в других документах не осталось. Вообще ничего, кроме самой истории, которую, впрочем, тоже мало кто знает. А вот что касается Эмиля Галле[4]…
– А что было с Эмилем Галле? – Оживился я. – К нему, что ли, тоже гонца отправляли?
– Это, кстати, совершенно прекрасно и удивительно, что ты не спрашиваешь, кто он такой. Можно подумать, я умерла и оказалась в специальном раю для искусствоведов. Это такое замечательное место, где все происходит примерно как при жизни, просто каждый случайный прохожий знает, кто такой Эмиль Галле. И это полностью меняет ситуацию.
– А ты, выходит, искусствовед?
– Ну да. И Эмиль Галле – как раз моя тема. Я уже много лет занимаюсь Нансийской школой, точнее, их стеклом, а по стеклу как раз Галле главный. Я, собственно, затем в Нанси и приехала – монографию о его «говорящем стекле»[5] писать, и тут вдруг все так закрутилось… Неважно. Важно, что про Эмиля Галле я знаю, пожалуй, больше, чем он сам о себе знал при жизни, хотя бы потому, что у него не было возможности дневники и личную переписку своих родных и знакомых читать, а у меня – есть. Так вот. Была одна история, о которой сам Галле ни разу не упомянул – я имею в виду, письменно – зато в чужих пересказах якобы с его слов она встречается аж четырежды. Причем, одна свидетельница – женщина из Веймара, где он учился, задушевная подруга юности, переписку с которой Галле поддерживал на протяжении всей жизни, иногда, правда, с перерывами на несколько лет. В общем, практически нет шансов, что она была знакома с тремя другими источниками, а значит, велика вероятность, что история действительно известна ей со слов самого Галле… Ладно, на самом деле все это не очень важно. Как бы мы ни хотели сделать историю точной наукой, а она все равно никогда ею не станет.
К самой бессмысленной болтовне, если она ведется по-немецки, я привык относиться, как к бесплатному уроку разговорного языка, и принимать ее с благодарностью, но тут понемногу начал терять терпение.
– И что именно случилось с Эмилем Галле?
– Однажды, еще студентом, Галле вернулся в Нанси – к родителям, на каникулы. Он прогуливался по парку – какому именно, источники, к сожалению, не сообщают – и вдруг заметил почтовый ящик чуть ли не на самой верхушке высокого дерева. Залез туда из любопытства и обнаружил в ящике открытку. А на открытке – горящая лампа с прозрачным абажуром, разрисованным диковинными цветами. Представляешь?!
На этом месте Биргит почему-то умолкла, адресовав мне смущенный и одновременно торжествующий взгляд.
– И что там было написано? – Спросил я.
– Понятия не имею. Скорее всего, ничего… Ой, дошло! Ты, наверное, просто не знаешь, что именно Эмиль Галле первым стал расписывать прозрачные абажуры, чтобы цвет прозрачных красок смешивался со светом лампы, до него так никто не делал. Даже Тиффани начал чуть-чуть позже. Значит, когда Галле был студентом, открытки с таким изображением просто не могло быть. Но она была! И подсказала ему грандиозную идею. В этом все дело.
– Круто, – откликнулся я. Впрочем, без особого энтузиазма. История про открытку меня скорее разочаровала. Подумаешь – расписной абажур. Тоже мне величайшая идея всех времен. Спасенное человечество кланяется в пояс.
– Ты не понимаешь, – огорчилась Биргит. – Потому что я неправильно рассказываю. Надо было сперва упомянуть разные важные обстоятельства. Например, сказать, что у Галле тогда был очень непростой период жизни. Он изучал ботанику, химию и одновременно философию. Эти науки интересовали его больше, чем стекло и керамика, которыми занимался отец. А тот, в свою очередь, мечтал вслух: вот, закончишь учебу, передам тебе свое предприятие, уйду на покой с легким сердцем. Если бы Эмиль решительно не желал заниматься отцовским делом, было бы проще, всегда можно наотрез отказаться. Но проблема в том, что он и этого тоже хотел всем сердцем – быть художником, рисовать, лепить, мастерить красивые вещи. Столько всего хочется сделать, а жизнь всего одна, не успеть. Бедняга просто на стенку лез, не зная, что выбрать! И тут вдруг почтовый ящик на дереве, и эта открытка. Дело даже не в том, что годы спустя воплощение идеи принесло Галле славу и большие доходы. Просто в этой лампе с расписным светящимся абажуром все вдруг чудесным образом соединилось: отцовское стекло как основа, знание ботаники, необходимое для создания растительного орнамента, химия, чтобы составлять специальные прозрачные краски, ну и философия – это же, понимаешь, такая специальная невидимая колба, превращающая любое действие в алхимическое чудо. И тогда он вдруг понял, как можно. И решил для себя, как все теперь будет – раз и навсегда. И с того дня был счастлив. По его собственному утверждению, всегда, что бы ни происходило в жизни. Потому что счастье – естественное состояние человека, который знает свое предназначение и следует ему, для такого любые житейские невзгоды – просто рябь на поверхности. Теперь понимаешь?
– Теперь понимаю, – эхом откликнулся я. И не удержался от вопроса: – Ты поэтому хочешь залезть на дерево? Думаешь, там, в ящике, какая-нибудь открытка? Специально для тебя?
– Конечно, ничего такого я не думаю, – вздохнула Биргит. – Это было бы очень глупо, тебе не кажется?
Я понимающе улыбнулся, и она, чуть помедлив, тоже.
– Поэтому я не думаю, а просто надеюсь. Надежда сама по себе довольно дурацкое чувство. Надеяться можно на что угодно, в том числе, на всякие глупости, которые нормальному человеку и в голову не придут.
Надо же, родная душа. Ее рассуждения были ужасно похожи на мои дипломатические отношения с внутренним скептиком: всерьез обдумывать всякую чепуху я, из уважения к его могучему интеллекту, конечно, не стану. Разве только втайне надеяться, что… Что.
Я наконец вспомнил, за каким чертом сам притащился в этот парк. Дурацкое телефонное сообщение, написанное кириллицей, тревожное и прельстительное: «Ваша корреспонденция доставлена по адресу: Nancy, Rue Sellier, Jardin de la Citadelle, почтовый ящик». Это что же получается, замирая от восторга, спросил я себя. На дереве, что ли, тот самый почтовый ящик? Там для меня, выходит, послание припрятано? И получив его, я внезапно пойму, как можно? И с этого момента буду счастлив всегда, что бы ни случилось, потому что человеку, который узнал свое предназначение, иначе нельзя? О, господи.
Мой внутренний скептик отвернулся и демонстративно зажал уши, не желая иметь никакого отношения к происходящему. Но без него оказалось даже лучше. Я открыл было рот, чтобы рассказать Биргит про sms и предложить ей поучаствовать в получении моей таинственной корреспонденции, но она заговорила первой, и я не стал перебивать.
– Понимаешь, и герцог Станислав, и Эмиль Галле – они знаменитости, великие люди, каждый в своем роде. А про знаменитостей чего только не рассказывают. Я бы не стала искать этот почтовый ящик, если бы не Доротея. Она – хозяйка квартиры, которую я снимаю. Уж точно не знаменитость. Хотя, конечно, обычной дамой ее не назовешь. Ей уже почти шестьдесят, а с виду больше сорока не дашь. Красивая – слов нет. И светится изнутри, как лампы Галле, которыми я тебе зачем-то все уши прожужжала. И вечно занята по горло, у нее художественная студия, где дети учатся рисовать вместе с родителями, два литературных клуба, один для читателей, а второй для любителей придумывать детективные сюжеты, раз в неделю она проводит экскурсии по городу, причем только для местных жителей, которые давно привыкли жить среди этой красоты и поэтому ее не замечают, и еще что-то – я, видишь, запомнить не могу, а она все это придумала, организовала и уже много лет на себе тянет. И, похоже, ужасно счастлива… Так вот, мы как-то незаметно подружились, я вообще легко схожусь с людьми, и однажды Доротея мне рассказала, что прежде жила совсем иначе: бездельничала, скучала, часто болела, детей не завела, и муж ее, как водится, бросил ради молоденькой студентки, после двадцати лет совместной жизни – что еще надо женщине, чтобы почувствовать себя абсолютно несчастной? Говорит, что не покончила с собой только потому, что трусиха, никаких иных резонов жить дальше у нее не было. И тут в один прекрасный день она обнаружила на пороге извещение. Дескать, на ваше имя пришла корреспонденция, будьте любезны явиться по адресу…
– Улица Сельер, сад Цитадели, – продолжил я.
– Нет-нет-нет. Парк Шарля Третьего. Это в другой стороне, возле реки. Неважно. В общем, совсем рядом с ее домом, поэтому Доротея не удивилась, решила, что почтовое отделение переехало по другому адресу. В парк, так в парк, чего только не случается. И пошла. Но в парке, конечно, никакого почтового отделения не было, только клумбы, кусты, скамейки и мамаши с колясками. Доротея ужасно расстроилась, села на скамейку под деревом в стороне от прогулочных дорожек, чтобы никто ее не видел, расплакалась, и никак не могла успокоиться – ну, знаешь, как бывает, когда все плохо, любая мелочь может стать последней каплей. Сидела, рыдала, и вдруг почувствовала, что в ее затылок упирается что-то твердое. Обернулась, а там, на дереве, металлический почтовый ящик. Самый обычный, точно такой же, как у нее дома, только без номера квартиры и прикручен к стволу куском каната с обрывками тряпичных флажков, как будто его на каком-нибудь детском празднике позаимствовали. И Доротея так удивилась, что даже плакать перестала. А потом увидела, что ящик приоткрыт, и внутри что-то белеет. И, почти не соображая, что делает, протянула руку и взяла конверт. А там ее фамилия. И внутри – нет, не открытка, а просто письмо. Доротея мне не пересказывала, что там было написано. Только сказала, что нашла в письме очень простые и понятные ответы на все вопросы, которые у нее никогда не хватало смелости себе задать. И что назвать это письмо спасательным кругом для утопающего – значит очень сильно преуменьшить его значение. И что с тех пор все стало совсем иначе… И вот ее история меня зацепила. Так зацепила, что я уже который день по паркам брожу, и не только по паркам, хотя мне-то никакого извещения не присылали… Но все равно.
– Погоди, а почему ты просто не пошла в парк не помню какого по счету Шарля?
– Третьего. Конечно же, я туда пошла. Первым делом! Но там не было никакого почтового ящика. Понимаешь, не факт, что он всегда висит на одном и том же месте. Доротея говорит, что слышала похожую историю от человека, который нашел почтовый ящик с каким-то важным для него письмом на набережной Мёрта[6]. Он там просто валялся, как сломанный стул. Это, конечно, может быть выдумка. И история самой Доротеи тоже. Она вполне могла меня разыграть, почему нет. В Нанси, как, наверное, в любом другом городе, обожают потешаться над приезжими, особенно над романтичными натурами, вроде меня. Мне вон недавно на университетской вечеринке коллеги с серьезными лицами описывали торжественный выезд герцога Станислава, который якобы можно увидеть на площади в самую темную майскую ночь, и любезно подсказывали, что ближайшее новолуние двадцать четвертого мая, то есть, буквально на днях, надеялись, я побегу проверять… А все-таки сюжет с письмами и почтовыми ящиками повторяется слишком часто. И нравится мне так сильно, что я просто не могла не поверить. И, потом, мне сейчас, кажется, вообще больше не на что надеяться, – вздохнула она. Смутилась, словно сказала лишнее, но тут же встряхнулась и деловито спросила: – Так ты поможешь мне забраться на дерево? Подсадишь?
Я открыл было рот, чтобы рассказать наконец свою историю и объявить, что там, на дереве, мой почтовый ящик, а в нем моя корреспонденция, но в последний момент передумал. Чего зря болтать. Пусть лезет, если так припекло, а там видно будет – чья это корреспонденция, если она там вообще есть, в чем я очень со… Да нет, вру. В тот момент я не испытывал никаких сомнений. Внутренний скептик уставился на меня, разинув рот, словно впервые увидел. И его можно понять.
Я, впрочем, и без его подсказки осознавал, что со мной творится неладное. Получить необъяснимое телефонное уведомление и из любопытства явиться по указанному адресу – это еще куда ни шло. Заинтересоваться обнаруженным в парке почтовым ящиком – совершенно нормально, а кто бы на моем месте не заинтересовался? Выслушать все, что рассказала мне первая встречная эксцентричная фрау – ладно, допустим; в конце концов, это был очередной экзамен по разговорному немецкому, который я сдал на твердую «пятерку», понял все, до единого слова. Но пялиться на облезлый почтовый ящик, как на святыню – это уже перебор. Думать: «Там очень важное послание, которое перевернет мою жизнь», – как минимум, глупость. А сказать себе: «Ладно, пусть сначала девочка посмотрит, ей, похоже, здорово приспичило», – это уже натуральное безумие. Потому что пока ты чего-то для себя хочешь, пусть даже чуда – все более-менее в порядке, желание вовсе не тождественно вере. Но когда ты готов что-то отдать, значит, полагаешь, будто оно у тебя есть. Это уже не слепая вера, а твердое знание. Верный признак безумия, если называть вещи своими именами.
И если продолжить называть вещи своими именами, придется признать: в тот момент я совершенно точно знал, что в почтовом ящике на дереве лежит послание, которого я ждал всю жизнь, сам не понимая, чего жду. И одновременно я знал, что если ящик откроет Биргит, окажется, что письмо адресовано ей, а я останусь не у дел, жалким очевидцем, которому, в случае чего, никто не поверит, так что и пробовать рассказать эту историю бессмысленно. Таковы правила игры, я их не придумал, они существуют сами по себе – и очень жаль, кстати, будь это мои фантазии, в них непременно нашлось бы место достойному компромиссу, мы с Биргит достали бы из этого чертова ящика, как минимум, два письма, а лучше – еще дюжину, для родных и близких, чтобы все были довольны.
Я, видимо слишком долго молчал, потому что Биргит почти шепотом повторила свой вопрос:
– Так ты мне поможешь?
Она была такая трогательная – стриженая, белобрысая женщина без возраста, похожая на мальчишку, в бесформенной одежде, с дурацким розовым рюкзаком. На лице запоздалое смущение, а в глазах – такая дикая смесь надежды и страха, что я предпочел не заглядывать глубже, не высматривать, что заставило ее цепляться за дурацкую городскую легенду, как за единственный шанс на спасение – от чего, от кого? Не хочу этого знать. Пусть лезет в ящик, пусть найдет там свое письмо. Ей, похоже, действительно очень надо.
– Конечно помогу, – улыбнулся я. – Если ты встанешь мне на плечи, скорее, всего, дотянешься.
– А ты выдержишь? – Забеспокоился Биргит. – Я сейчас такая толстая! Шестьдесят семь килограммов, – и, мучительно покраснев, поправилась: – Это две недели назад было шестьдесят семь, а теперь, наверное, уже все семьдесят…
– Какая ерунда, – мужественно сказал я. – Кстати, при твоем росте вполне нормальный вес, так что не выдумывай.
Как бы я ни храбрился, но природа, увы, создала меня не для переноски тяжестей, а с какой-то иной, до сих пор неведомой мне целью. Поэтому когда я присел на корточки, и Биргит вскарабкалась мне на плечи, я едва не завалился на бок. А когда осознал, что сейчас мне предстоит подняться с этим грузом, окончательно утратил надежду на успех нашего предприятия. Но все-таки начал понемногу выпрямляться, упирась руками в кленовый ствол. Биргит тоже держалась за дерево, старалась перенести на него часть своего веса, и вообще помогала мне, как могла. Думаю, у нас все получилось лишь потому, что ее вера в меня была несокрушима.
Когда Биргит крикнула: «Есть!» – я ушам своим не поверил, но присел, медленно и аккуратно, и только когда она, наконец, слезла, позволил себе расслабиться и тут же рухнул на траву, как мешок с навозом – при условии, что мешки с навозом способны испытывать облегчение и блаженство.
– Я тебе что-то повредила? – Испуганно спросила Биргит.
– Не выдумывай, – отмахнулся я, вытягиваясь в полный рост. – Мне хорошо. Так что, там было какое-то письмо?
– Было! Есть! Я взяла! – звенящим от счастья и ужаса голосом доложила Биргит. И шепотом добавила: – Оно мне! Тут мое имя. Мое имя! Только теперь открывать страшно.
– Мне бы тоже было страшно, – сказал я. – Но я бы все равно сразу открыл. Пока оно не передумало.
– Кто – «оно»? – Растерянно спросила Биргит.
– Письмо, конечно. Пока оно не передумало быть адресованным мне.
Слышал бы меня сейчас внутренний скептик.
Но на Биргит мои слова подействовали: она, наконец, вскрыла конверт, достала оттуда сложенный вчетверо бумажный листок, развернула, принялась читать. А я лежал на спине и смотрел снизу вверх, как меняется ее лицо. Как уходит напряжение, разглаживаются морщинки, а глаза начинают сиять. Преображение это было столь стремительным и великолепным, что я вдруг почувствовал себя лишним. Такие вещи должны происходить с человеком, когда он один, подумал я. Без свидетелей, без посторонних.
Я осторожно поднялся и, стараясь ступать беззвучно, пошел прочь. Напрасная предосторожность – Биргит сейчас, пожалуй, и на работающую газонокосилку не обратила бы внимания. Весь мир временно исчез для нее, и я вместе с ним. Оно и к лучшему.
Все к лучшему, абсолютно все, говорил я себе час спустя, сидя на скамейке в парке имени Шарля Третьего, куда, разумеется, не мог не пойти.
Ей было очень надо, ты это сам видел, а потом ты видел, как исчез ее потаенный страх, и это было лучшее зрелище в твоей жизни, – напоминал я себе два часа спустя, за столиком уличного кафе, разбавляя душевную горечь горчайшим эспрессо, сваренным из тщательно сожженных зерен с лучших бразильских плантаций.
В конце концов, зачем тебе какое-то послание, пусть даже самое расчудесное, спрашивал я себя три часа спустя, на углу улиц святого Николая и не менее святой Анны, которые, если верить купленной утром карте, не могли пересекаться, поскольку шли параллельно друг другу. У тебя все и так хорошо, напоминал я себе, жизнь твоя прекрасна и удивительна, хоть и не соответствует порой ожиданиям – так она вроде бы и не должна.
Тем более, там наверняка была написана какая-то херня, – на этот раз внутренний скептик действовал из наилучших побуждений. Он всерьез полагал, что меня можно таким образом утешить.
Это у меня на лбу написана какая-то херня, огрызнулся я. И в книге судеб напротив моего имени заодно. Огненными скрижалями.
Но, вопреки столь мрачному ходу мыслей, я вдруг улыбнулся, потому что снова вспомнил, как менялось лицо Биргит – прежде я никогда не думал, что человек может так преобразиться за одно мгновение, а теперь знаю – бывает.
Собственно говоря, возможно это и было послание, адресованное тебе, балда, подумал я. Важная информация, внятный ответ на вопрос, который ты нипочем не додумался бы задать. Тебе сейчас прыгать от радости надо, а не таскаться с унылой рожей по прекрасному городу Нанси, который, честное слово, не заслужил подобного отношения.
Мне вдруг стало так хорошо, что я решил никуда пока не идти, чтобы не расплескать это удивительное ощущение покоя и воли – вот какое состояние, оказывается, описывает давно опостылевшая мне цитата, пока не попробуешь, не узнаешь, как это бывает, и ни черта не поймешь.
Я присел на ступеньку ближайшего дома и сидел так долго-долго, подставив лицо горячему солнцу и холодному ветру по имени Вож, который сперва всласть наигрался с моими давно не стриженными волосами и полами распахнутой куртки, а потом вдруг швырнул мне под ноги бумажный комок и притих, выжидая.
В другое время я бы на эту скомканную бумажку внимания не обратил, а теперь поднял, развернул, разгладил и, наконец, решился посмотреть – что там?
Там было написано от руки, бегло и неразборчиво: «Все только начинается», – и больше ничего. Никаких разъяснений – что именно начинается, для кого, когда и зачем, и как в связи с этим я должен себя вести. Но этого оказалось достаточно, чтобы мы с внутренним скептиком дружно перевели дыхание, обнялись от полноты чувств, поерзали на ступеньке, устраиваясь поудобнее, и сидели так долго-долго, а потом…
1
По эмоциональному наполнению это восклицание ближе всего к русскому «ой, бля».
2
Станислав I Лещинский – воевода познанский, был избран королем Польши под нажимом Швеции, но не признан большинством шляхты. Поражение Карла XII под Полтавой (1709) лишило Станислава поддержки шведских войск, он эмигрировал в Пруссию, а затем во Францию. В 1738 году окончательно отказался от притязаний на польский престол и получил во владение Лотарингию, столицей которой был город Нанси.
3
Вож, вогез (фр. vosges) – так в Нанси называют восточный ветер.
4
Эмиль Галле – французский художник и дизайнер, один из основателей стиля «Ар Нуво». Родился в Нанси 8 мая 1846, в семье предпринимателя, производившего художественное стекло и керамику. Занимался рисованием и стеклоделием, а также ботаникой, минералогией и философией. После ухода отца на покой возглавил семейное дело и завел собственную мастерскую. В 1901 по инициативе Галле был организован «Провинциальный альянс художественной промышленности», позднее известный как «Школа Нанси», который стал вторым (после Парижа) центром французского «Ар Нуво».
5
«Говорящими» называют стеклянные изделия Эмиля Галле с цитатами из Бодлера, Вийона, Верлена и других поэтов.
6
Мёрт (Meurthe) – река, на берегах которой стоит Нанси.