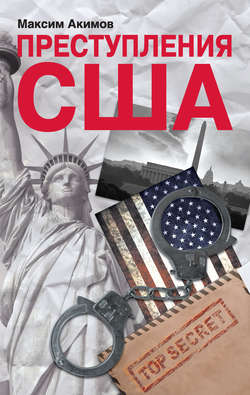Читать книгу Преступления США. Americrimes. Геноцид, экоцид, психоцид как принципы доминирования - Максим Акимов - Страница 6
Глава 4
Дальнейшее проникновение в Тихоокеанский регион и Латинскую Америку
ОглавлениеНавязывая японцам условия торговых и военно-политических соглашений, англичане и американцы практически насильно заставили Японию отказаться от доктрины самоизоляции, которой эта страна придерживалась прежде, живя так, как ей хотелось, не вмешиваясь в дела соседей. Вторгшись в мирок японского общества, англоязычные горлохваты совершили такую работу, которая поломала многое в душе японца и вызвала со временем такие процессы, которые отозвались потом кошмарными следствиями. Вживив в психологический код японцев новый ген, новую программу, европеизированные «цивилизаторы» выпустили из бутылки того джинна, которого трогать было нельзя.
До проникновения европейцев Япония была совершенно автономной системой, где сохранялась древняя языческая религия, витала архаичность средневековых порядков, полностью отсутствовала индустрия, не было ни одного сколько-нибудь крупного промышленного предприятия. До середины девятнадцатого века Япония, несмотря на древность своей истории, оставалась нацией-ребенком, по уровню технического развития она далеко отставала от той же России, где уже были и железные дороги и фабрики, не говоря уж о странах Европы, где было много чего еще. И народ-ребенок вдруг оказался подвергнут резкой перестройке сознания, ему, во-первых, продемонстрировали, насколько он отстает от «цивилизованного мира», во-вторых, он понял, что, не включившись в новую матрицу, он будет затоптан, его превратят в обычную колонию, коренное население которой либо обречено на уничтожение, либо влачит униженное и жалкое существование. И произошло это в тот момент, когда американское правительство послало к берегам Японии военную эскадру под руководством М. Перри, который, угрожая применением военной силы, и заставил японцев заключить Ансэйские договора.
И тогда японцы, имевшие свои уникальные черты эгоистического, обостренного национализма, вдруг резко рванули, они буквально сменили сущность прежней жизни на новую, за считаные десятилетия завели у себя индустриальную промышленность, создали мощный военный флот, переняли многие черты европейской хитрости и, главное, ступили на путь соперничества с европейскими игроками, закреплявшими свое влияние в регионе. Точно так же как подросток, подвергнувшись стрессу, способен быстро наращивать темп своего роста под воздействием гормона, вызывающего неестественную акселерацию, так и японское общество, пребывавшее прежде в уникальной ситуации цивилизационного детства, рвануло вдруг, приняв подражательную модель развития.
Япония была разгерметизирована, естественный ход ее развития оказался денатурирован, и, как показала дальнейшая история, это явилось роковым поворотом в ее истории, поскольку европейское влияние явилось тем, чем может стать домогательство взрослого мужчины, растлившего самолюбивого подростка с нестабильной психикой, жизнь которого после этого превратилась в попытку преодоления чудовищного стресса и вызвала жажду причинять ответное насилие столь же неестественного характера.
В послевоенный период, когда мир с ошеломленным удивлением подводил нерадостные итоги свершившихся событий, в которых страны «оси» отличились немыслимыми зверствами, оказалось, что японцы творили на оккупированных ими территориях ничуть не менее кошмарные казни и пытки, чем гитлеровцы, а общее число уничтоженных китайцев превышает количество убитых и замученных немцами русских, поляков, сербов и прочих восточноевропейских народов, вместе взятых. Американцы не могли простить японцам нападения на Перл-Харбор (хотя сами американцы незадолго до этого творили на Гавайях тоже весьма кровавые дела). Японцы удивили мир своей неистовой жесткостью, казавшейся многим животной, почти необъяснимой и шокирующей своими масштабами. И хотя американцы-то, пожалуй, и не уступили им по циничности, сбросив на мирные города атомные бомбы, но тем не менее мир вынужден был содрогнуться, глядя на кадры кинохроники, запечатлевшей зверства японских карателей, будто это были и не люди вовсе, а машины безжалостного убийства.
Сейчас, да и ранее, для многих людей европейской культуры, не знакомых с нюансами американо-британского влияния на Страну восходящего солнца, она казалась краем, населенным милыми, чрезвычайно сдержанными людьми, каждый из которых, как в рамочке, пребывал в ограничениях своего этикета. И вдруг такое! Немыслимые военные преступления, миллионы зверски убитых, подвергнутых чудовищным мучениям.
На самом же деле вся эта взрывная агрессия была результатом не столько аномалии развития японской нации, сколько следствием американского и английского психологического воздействия на нее (помимо политического и военного).
Японская нация, в прямом и банальном смысле, оказалась тем подростком, которому дали в руки автомат. А подросток почти всегда более жесток, чем взрослый человек, способность сдержать нахлынувший раж агрессии у него развита гораздо хуже, чем у повзрослевшего существа; известно ведь, что в тюрьмах, где содержатся малолетки, уровень насилия гораздо более высок, подростки чаще идут на то, чтоб садистски «сломать», унизить кого-то, самоутвердившись. И вашингтонский американизм, который сам являлся чем-то вроде незрелой, циничной подростковости, заразил японцев этим состоянием личности. Вот Япония и покатилась с горы, и стоило ей лишь попробовать сладость агрессии, раскручивание японского милитаристского маховика уже невозможно было остановить, японское общество двигалось к тому, что и привело к кошмарному и бесславному для него финалу. Японский подросток в конце концов бросил серьезный вызов и заокеанскому обидчику – американскому «дяде Сэму», некогда растлившему девственность его самоизоляции и аскетизма.
Но рассмотреть этот тонкий нюанс философской стороны политических процессов, происходивших в девятнадцатом веке, стоит для того лишь, чтоб показать, что преступления японцев, совершенные по отношению к китайцам и другим народам Азии, которых Япония уже почти победила в сороковых (и совсем бы победила, коль не вмешались бы США и СССР), имеют одной из причин вмешательство англоамериканцев, ведь именно они «научили плохому» японский народ, имевший до того момента совсем иную систему приоритетов и целеполаганий, в которой не было места захватнической войне. И если бы не вторглись они в Японию в середине девятнадцатого века, если бы не заставили ее расстаться с политикой самоизоляции, развитие японской нации шло бы по совершенно иному сценарию, да и судьбы соседних с нею народов вершились бы иначе.
Пожалуй, можно назвать разрушение прежней матрицы японского сознания одним из серьезных и тяжких преступлений американизма (хотя, разумеется, совершили это деяние не одни американцы, но они в первую очередь повинны в этом), точно так же как чудовищным преступлением является и разрушение англичанами исторического уклада жизни Индии и других стран, где корявый английский язык оставил свои письмена.
Злая ирония судьбы состоит в том, что, распалив агонию агрессивной военной страсти «японского подростка», американцы (поначалу называвшие японцев «азиатскими янки» за быстрые успехи Страны восходящего солнца в развитии промышленности) очень скоро примутся истово демонизировать, ненавидеть японцев вообще, всех японцев поголовно, даже тех, которые успели стать американскими гражданами и ни сном ни духом ни в чем повинны не были и не могли быть. Во время Второй мировой войны вашингтонский режим даже заточит японцев, живших в его штатах, в специальные концентрационные лагеря, депортировав каждого из них, в том числе детей-сирот, в эти зоны. Но подробнее об этом позже, в отдельной главе, которая будет посвящена депортациям народов в США. Сейчас же вернемся к хронологии американских войн, продолжавшихся непрерывной чередой в девятнадцатом веке.
В 1861 году в США началась Гражданская война, перед которой американские вояки успели испортить жизнь еще нескольким странам, захотевшим было избавиться от колониального гнета прежних хозяев, но попали в лапы нового, еще более циничного хозяина – звездно-полосатого монстра.
Так, во второй половине 1850-х годов янки успевают дважды провести карательные рейды против Никарагуа, добраться до Уругвая, начав хозяйничать и в нем, устроить бойню в японском форте Таку. Но и этого мало, они добрались аж до Анголы (Юго-Западная Африка) и там отметились!
По поводу Гражданской войны Севера и Юга существует много мифов, романтизированных американской пропагандой и литературой. И едва ли не главной из причин ее возникновения называют благородную борьбу северян за права негров и прочие свободы, отсутствие которых позорило «молодую демократию». И хотя течение аболиционизма действительно играло свою роль в контексте данных событий, но куда более значимыми были приземленные факторы, корыстные, мелочные и банальные вещи. Среди главных побудительных мотивов конфликта были «экономические причины» и борьба северных властных кланов с южными, вернее, желание северян навязать свою волю южанам. Предлог же борьбы за отмену рабства был чрезвычайно выигрышным, верным и способствующим успеху в «информационной войне».
Однако наиболее любопытным фактом является то, что генерал Улисс Симпсон Грант, знаменитый полководец северян, названный героем и спасителем нации, владел рабами вплоть до самой отмены рабства, а Роберт Эдвард Ли – главнокомандующий армии Юга – не имел рабов.
Однако это не самый примечательный момент из тех, на которые стоит обратить внимание, куда более интересен вопрос террора во время сей замечательной кампании.
Нам, наследникам советской страны, в девяностых годах все уши прожужжали о «красном терроре», о революционных казнях и прочих «кровавых делах», укоряя нашу страну этим, заявляя, что в нормальных странах все этому ужасаются, что нормальных людей оторопь берет от одной мысли, что такие гады, как советские коммунисты, на свете существовали! В свете этой пропаганды возникала мысль, что уж в американской-то Гражданской войне было сплошное благородство напополам с соблюдением прав человека.
Но что же такое делается, когда на самом-то деле все без исключения, историки, хоть сколь-нибудь подробно описывающие ход Гражданской войны в США и ее нюансы, утверждают, что события эти были отмечены такими жестокостями и зверствами, что кровь холодеет! Упомянутый «герой», физиономия которого красуется на одной из долларовых банкнот и поныне, то бишь Улисс Симпсон Грант, удивляет исследователей своим пренебрежением к жизням солдат. Грант вел войну на истощение, используя людские ресурсы в качестве пушечного мяса. Любопытно, что те самые пресловутые заградотряды, о которых нам столько бранных слов сказано, применялись Грантом без стеснения: отступающих солдат гнали назад, а тех, кто отказывался возвращаться, – расстреливали.
Генерал Грант абсолютно не считался с людскими потерями. Потеряв 18 000 человек в сражении в Глуши, он продолжал наступление, и в битве у Спотсильвейни потерял еще 18 000. Через пару недель в лобовых атаках на укрепленные позиции южан при Колд-Харборе он погубил еще 13 000 человек. И выражение «завалил трупами» подходит здесь как нельзя лучше, подходит идеально, это именно тот случай.
Но самым шокирующим фактом является, разумеется, не аспект военной борьбы, ведь было бы еще полбеды, коль генерал Грант был бы жесток и циничен лишь на поле боя; к сожалению, еще более бесчеловечно он поступал с мирным населением. Грант устраивал зверские, массовые расправы над пленными, над теми людьми, которых считал приверженными идеям Юга.
Улисс Симпсон Грант довел технологию массовых казней до технологического совершенства: он ставил людей рядами, по десять–двенадцать человек, и отдавал приказ расстреливать их картечью, приводили следующих и следующих, так уничтожали огромные массы людей. Тем не менее ни слезного раскаяния, ни укоризны никто не явил миру, никто не рвет на себе волосы, призывая каяться за Гранта. И по прошествии многих лет после этой Гражданской войны никто не собирается подвергать ее такой ревизии, сделать которую подбивали нас в отношении революционных событий и Гражданской войны, подсовывая нам в конце восьмидесятых и в девяностых годах ХХ века ложные жупелы, применяя ловкие психологические приемы.
Генерал Улисс Симпсон Грант, несмотря на весь свой садизм и жестокость, после этой войны дважды становился президентом США (хотя результаты его деятельности на этом посту оцениваются многими историками как провальные), потом, после выхода в отставку, пробовал стать коммерсантом (но прогорел), а поскольку привык жить небедно, получал потом деньги из особого фонда.
В конце концов был объявлен героем, стал объектом культа, портрет его попал на банкноты, а тело его поместили в Мавзолей. Да-да, тело его покоится в Мавзолее, оно до сих пор там находится, и никто не призывает его оттуда выволочь, а Мавзолей снести. Это нам такую «идейку» подбрасывают, чтоб мы своего деятеля Гражданской войны, собравшего страну из кусков и спасшего от катастрофы, осудили, опорочили и из Мавзолея выволокли, а своего-то они не трогают, уж его-то, если захотеть, можно разоблачать и разоблачать!
Мавзолей Улисса Симпсона Гранта находится не где-нибудь, а на Манхэттене, его здание многим кажется безвкусным (поскольку является не весьма талантливой копией античного мавзолея в Галикарнасе). И лежит себе этот Симпсон, жену к нему рядом положили, когда умерла, и никто его преступником не называет, хотя и помимо художеств, творимых им на войне, много чего за ним водилось.
* * *
По окончании Гражданской войны было отменено наконец американское рабство, что, конечно, замечательно, если не принимать в расчет, что в большинстве стран оно было изжито на полтысячелетия раньше, а где-то, как в России например, вообще никогда не существовало, а то пресловутое крепостное право, которым нас все попрекают, длилось всего около двухсот лет, причем в конце этого срока в крепостной зависимости оставалось уже менее трети населения страны, а в начале вышеуказанного срока крепостное право было довольно условным, затрагивающим в первую очередь вопрос имущественных отношений, а не межличностных. Каждый человек в России имел права личности, крепостное право лишь на определенном этапе существенно ограничивало их, но не отменяло! Крепостной крестьянин считался человеком, имел пускай и очень трудный, но легальный путь выхода из крепостной зависимости, к тому же почти каждый мог воспользоваться переездом в Астрахань и ее окрестности (откуда беглых не возвращали по закону Петра Первого) или в Сибирь (хотя, понятное дело, в Астрахани теплей).
Американские же рабы людьми не считались, а были приравнены к вещам, к скоту, потому никакого сравнения с крепостным правом быть не может. Но мало того, когда в России и крепостничество-то было уже отменено, в США все продолжалась война, в которой значительная часть американского общества боролась с оружием в руках за сохранение рабства.
Кстати, определенную роль в победе аболиционизма и в том, что война между Севером и Югом не сгубила еще больше жизней, не затянулась надолго, сыграло и то, что российский император Александр II послал к берегам Америки две эскадры, причем расчет был не на то, что русские военные примут участие в боях, а на то, что их присутствие охладит пыл англичан, которые намеревались вступить в войну (англичане рассматривали возможность начать действия и на стороне рабовладельческих штатов, главным для англичан было – вновь навязать свою колониальную волю). Расчет русского царя оправдался, ведь к данному моменту Россия, как никогда, усилила свой флот (хотя усиление и переоснащение русского флота и стало результатом неудач Крымской войны). Но так или иначе, во время знаковой войны между Севером и Югом Россия очень четко обозначила свое присутствие, охладила претензии Англии, перебросив часть военных кораблей в Тихий океан, часть – в Атлантику, постаралась сделать то, что могла, для смягчения жестокостей, вытеснения циничных мерзостей рабства и прекращения прочей дикой политики, которую продвигали те люди, которые в недавнем прошлом определяли многое и в общей политике США.
Но, к сожалению, Россия не всемогуща, она прилагала и прилагает немало сил для того, чтоб справедливости в этом мире было больше, и порой эти усилия приносят успех, но мир слишком огромен и подчас слишком жесток, а люди, раз за разом захватывающие власть в разных странах этого мира, и кланы, стоящие за властными фигурами, слишком эгоистичны. Вот и в отношении США Россия сделала все что могла, способствуя отмене рабства и чудовищных правоустановлений, сопутствовавших ему, но американское общество сумело обновиться лишь настолько, насколько сумело, слишком уж невелик был ресурс человечности и порядочности у «нации», выросшей из пиратского притона.
Сам по себе характер вмешательства России нельзя назвать решающим в этой войне, но он довольно показателен, ведь если та же вашингтонская держава, периодически производившая вмешательства в дела других государств (и до своей Гражданской войны, и после), как правило, делала это с целью сохранения рабства, вернее, строя, который предполагал рабство в комплексе установлений, выгодных для жесткого доминирования над той или иной территорией, то Россия преследовала совсем иные цели, характер ее внешней политики был совершенно инаков. Можно привести примеры, когда, освобождая тот или иной регион (к примеру, Болгарию от турецкого ига), Россия не приобретала прямых и ощутимых выгод (ведь стоило России освободить болгар, Англия и Германия тут же постарались подмять под себя болгарское правительство, спровоцировать его антироссийскую политику), но для русских были более важны гуманистические идеалы, продвижение не банального примата своей системы, а расширение ареала справедливости, истинной свободы в этом мире. А для США и Англии как в прошлом, так и сейчас, первой и главной целью являлось и является утверждение своего примата над тем или иным субъектом в мире, захват его воли, эксплуатация, выкачивание ресурсов и прибыли из его человеческого и природного потенциала. До повсеместной отмены рабства и колониальных отношений американцы и англичане действовали методами открытого порабощения, когда же времена изменились, они стали маскировать свои стратегии, «припудривать» их, но цели-то остаются прежними. Достаточно лишь взглянуть на то, как вел себя Советский Союз, к примеру, в Африке и что он давал странам, расширяя свою зону влияния, и что творят нынче американцы, вытеснившие русских и подмявшие под себя многие регионы Африканского континента.
И, быть может, открытым остается вопрос: правильно ли сделала Россия, способствуя скорейшему и наиболее удачному окончанию Гражданской войны между Севером и Югом, помешав вмешательству Англии и началу большой, масштабной бойни, ведь в случае разрастания этого «конфликта» США, вернее, то, что от них бы осталось, были бы значительно ослаблены и менее активны в своих поползновениях, донимавших многих в этом мире. Но Россия стала на сторону Линкольна, поскольку всегда выступала за справедливость, будучи верной своей борьбе за отмену рабства, за выравнивание прав всех людей на этой планете, и потому русские органически не могли солидаризироваться с реакционерами Юга, да и усиление Англии было совсем не нужно, ведь она была и оставалась самым жестоким вредителем, мировым диверсантом, которому очень нехорошо, когда кому-то хорошо живется, когда кто-то чересчур успешно развивается. Не вмешайся тогда Россия, все было бы еще хуже и мир был бы еще более несправедлив.
Но самое главное отличие русского вмешательства состоит в том, что наши военные ни в кого не стреляли, никого не убивали, не пытали, не причиняли урона, как это обычно делает Англия или США. Россия просто осуществила политическое давление, внеся свой вклад в поражение рабовладельцев.
И хотя для блага мирового сообщества было бы лучше, чтоб и Англия и США были бы полностью ликвидированы, по крайней мере, в качестве активных наступательных субъектов, но помимо того, что это было не слишком реально, уничтожение кого-либо – не по части России, это дело кровожадных наций, к которым, к сожалению, относятся англосаксы. Россия подтолкнула Америку к завершению рабских времен, и на этом спасибо, освободить же эту часть света от высокомерия, агрессии и наглости было не в силах России.
Когда внутренние баталии в США закончились и Север победил-таки конфедератов Юга, рай для бывших рабов и прочих ущемленных в правах групп населения все-таки не наступил, жилось им несладко, они испытывали массу чувствительных ограничений, а еще на них охотились карательные отряды Ку-Клукс-Клана и подобных «организаций», но все же при рабстве-то жилось куда хуже, так что какой-никакой прогресс имел-таки место.
Касаясь негритянского вопроса, можно вспомнить и любопытную возню белых американцев, предпринявших попытку избавиться от чернокожего населения, переселить обратно в Африку.
Когда только начал подниматься вопрос о возможной отмене рабства, немалая часть белых граждан была чрезвычайно раздражена тем, что негры могут стать едва ли не равными с ними, и потому был придуман хитрый фокус: было решено захватить на территории Африки какую-нибудь территорию у побережья Атлантического океана и, начав кампанию пропаганды, выманить негров из Америки под видом добровольного переселения. Все хотели представить так, будто негры сами хотят уехать из богатой Америки в бедную Африку, несмотря на то что Америка попользовалась их трудом, причем бесплатно, подняла экономику южных штатов на костях эксплуатируемых рабов. Неграм предлагалось отправиться «на свободу» в Африку, оставив белым американцам все богатства, которые успели накопить Соединенные Штаты. Так возникла Либерия – небольшая африканская страна, куда хотели «добровольно переселить» негров, которые больше не нужны были «американской мечте», оказались чужими на этом празднике жизни.
Надо сказать, что предприятие-то отчасти удалось, территория Либерии действительно была захвачена американцами в Африке, туда действительно переселилась часть бывших американских рабов, хотя почти все они забыли родные языки и принадлежали к самым разным африканским народностям, которые имели между собой не так уж много общего, как, к примеру, норвежец и албанец – на взгляд австралийского аборигена или бразильского индейца эти люди покажутся очень похожими, но их национальные характеры имеют мало общего.
Я употребил слово «захват» территории, а ведь она-то на самом деле была «куплена» у вождей местных племен, и хотя не сказать, что очень уж добровольно, но приобретена в самых лучших традициях американской коммерции, за товары на сумму 50 долларов США! А территория-то ни много ни мало составляла 13 тысяч квадратных километров.
Хотя еще до того, как была основана Либерия, негров уже начали переправлять за океан. Поначалу это было не так уж и добровольно. Избавиться стремились в первую очередь от вольноотпущенников, то есть от негров, которые сумели получить свободу. Их называли «проводниками бед», подозревали во всех грехах, считая, что их умственные способности настолько ущербны, что, получая свободу, негры могут распорядиться ею лишь для аморальных действий и вредительства.
Сначала освобожденных негров начали переправлять в английскую колонию Сьерра-Леоне (сейчас это соседнее с Либерией африканское государство), но туда успели депортировать лишь небольшую часть темнокожих, когда же появилось так называемое Американское колонизационное общество (АКО), дело пошло резвей, стали вывозить все больше «лишних» негров, теперь уже на территорию Либерии.
Американская пропаганда, разумеется, предпочитает говорить об АКО как об организации, гуманно радевшей за негров, созданной людьми, которые хотели темнокожим только добра, однако в американских же источниках нетрудно отыскать информацию, что подавляющее большинство членов общества были открытыми расистами, взглядов своих не скрывали, как, собственно, не является секретом и тот факт, что переселять за океан они стремились именно вольноотпущенников, а не рабов, то есть тех людей, которые от рабского-то положения и так уже избавились и могли бы пускай и в очень стесненном и ущемленном положении, но пользоваться благами Американского государства.
Среди горячих сторонников переселения было немало плантаторов Юга, рабовладельцев, считавших, что свободному негру в США делать нечего, и коль получилось так, что выскользнул он из рабской зависимости, пускай убирается, не претендуя быть одним из равных американских граждан и пользоваться благами демократии.
Не затягивая рассказа о данном эпизоде истории, скажу, что члены АКО, установив полный контроль над территорией Либерии, начали-таки активную депортацию негров и к 1867 году удалили из США более 13 000 темнокожих. И хотя не так уж и много находилось вольноотпущенников, которые горели желанием переехать в совершенно незнакомую и нищую африканскую страну, корабли, отплывавшие в Либерию, набивали-таки до отказа и вывозили негров «на родину».
Освещая нюансы попытки белых американцев депортировать темнокожих в Либерию, должен заметить, что тех результатов, которые ставили перед собой идеологи АКО, достичь не удалось, поскольку большинство негров осталось в США, но вместе с тем, если бы кампании по переселению бывших рабов не было вообще, то негров в Америке было бы еще больше, чем есть сейчас.
Вопрос этот на самом-то деле весьма деликатен, и понятное дело, что представитель каждой из расовых групп, как правило, хочет жить среди своих, испытывая раздражение, когда происходит метисация, «загрязнение крови». Англосаксов оправдывать не собираюсь, они слишком сильно скомпрометировали и опорочили себя, но отчасти оправдывая белое племя вообще, могу сказать, что расизм в странах Африки и Азии тоже существует, во всяком случае, его вспышки происходят там, где появляются люди иной расы.
Некоторые страны, к примеру Мексика или Сингапур, пошли по пути тотальной ассимиляции, вернее, общей метисации, стимулируя такую демографическую политику, при которой совершенно, казалось бы, разнородные расовые группы постепенно перемешивались между собой, образуя новую нацию. Сейчас по такому пути идет Бразилия, декларируя так называемую «расовую демократию». Мексиканцы, которых я должен буду упомянуть и в следующей главе, во всяком случае население центральной Мексики, почти полностью «перемешалось», и, по данным исследований современных генетиков, их нация вобрала в себя примерно пятьдесят процентов индейской компоненты, около сорока процентов составляет «кровь» европейских переселенцев и, внимание (!), около пяти процентов негритянская компонента. Но чистокровных негров в Мексике уже нет, даже мулата встретить трудно, все они ассимилированы, «влиты» в среду мексиканцев. Проблемы негритянского населения, как можно догадаться, в Мексике уже не существует, все бывшие рабы перемешались с бывшими господами и с индейцами. На юге Мексики есть регионы, где живут, довольно компактно, чистокровные индейцы, но они составляют лишь часть от общего населения страны, перевалившего уже за сто миллионов человек.
В США же, помимо того, что и после отмены рабства существовал «стеклянный потолок», который означал нежелание белых американцев «сливаться» с неграми и мулатами, самих негров в процентном отношении было намного больше, чем в Мексике, ведь невероятно жадные плантаторы южных штатов, зараженные манией «делать деньги», навезли столько рабов, что в некоторые периоды истории чернокожие могли стать большинством в США, если бы не их высокая смертность.
Ситуация после отмены рабства в Штатах была почти безвыходной: удалить всех негров обратно в Африку было нереально, разве что часть из них, ассимилировать темнокожих американцы не хотели, да и слишком много было негров, всех разом не ассимилируешь, но конфликтный потенциал из-за самого факта проживания в США бывших рабов, да еще отмеченных темным цветом кожи, оставался очень высоким и с течением времени нисколько не спадал.
Не исключено, что наиболее оптимальным решением было бы создание на территории США отдельного государства для темнокожих, что могли бы компактно проживать на территории трех или четырех штатов, с которыми вашингтонские политики заключили бы мир, перешли к стратегии добрососедства между «белым государством» и «темнокожим». В этом случае бывшие рабы могли бы получить свою часть богатств, которые созданы были их руками, неграм не пришлось бы никуда переселяться, они могли бы сами решать проблемы своей жизни, создавая пускай небольшое и пускай не такое богатое государство, как вашингтонский союз, но решив так часть собственных проблем. И, самое главное, белые американцы решили бы в этом случае ту проблему, которая так беспокоила их, то есть оградили бы себя, вернее, свою европейскую кровь, от смешения с неграми и мулатами.
Однако никто из вашингтонских «демократических» господ не собирался дарить неграм ни пяди «своей» земли, решить негритянский вопрос хотели, но ничем жертвовать не собирались.
Быть может, коль государство негров Америки появилось бы, оно могло стать враждебным белой Америке и являться раздражителем, но, с другой стороны, оно было бы чрезвычайно зависимо от Вашингтонского государства и вряд ли бы белой Америке доставило слишком много проблем. В конце концов, негритянские государства в Центральной-то Америке существуют, такими являются, к примеру, Гаити или Ямайка.
Но так или иначе, негритянский вопрос в США решен не был. Эгоизм американской «элиты» не позволил найти ни одного по-настоящему приемлемого решения, и фактический провал политики «переселения негров на родину» сменился лишь попыткой не замечать проблему, ограничивая негров в правах и во всем, в чем можно ограничить. Присутствие свободных темнокожих граждан бесило англосаксов, нередко белый полицейский мог застрелить негритянского подростка просто потому, что тот ему чем-то не понравился. Белые, как могли, стремились уменьшить процент темнокожих, предпринимали попытки проведения кампании по стерилизации негров, другие кампании – по снижению их рождаемости, но для того, чтобы англосаксам жить в обществе белых, нужно было с самого начала не заниматься работорговлей, не везти негров в страну, не трогать африканцев.
Негритянский вопрос не решен до сих пор, он остается больной мозолью Америки, на чем подробно остановимся уже в следующей главе, из которой вы узнаете, что и появление в будущем государства на территории США, большинство в котором будут составлять темнокожие, не исключено-таки, коль ситуация станет развиваться определенным образом.
* * *
Оправившись от потрясений Гражданской войны, вашингтонский режим продолжал новые вылазки и агрессивные кампании, которые сделались особенно интенсивны в Латинской Америке.
США накрепко впились в этот регион, и стоило там шевельнуться малейшему недовольству размахом их дел, они тут же посылали военную эскадру. Так, до конца века карательные экспедиции были совершены против Уругвая и Чили, в 1890 году американские войска были введены также в Аргентину.
Агрессивная деятельность Вашингтона все более и более набирала обороты, он всегда оставался безнаказан, что давало иллюзию вседозволенности.
Трудно даже перечислить все вылазки американского военного флота, предпринятые с тем, чтоб помешать кому-то спокойно жить, с тем чтоб задавить народный протест, привести к власти свою марионетку.
Во имя «интересов простого народа» была затеяна и испано-американская война, которая на самом деле оказалась войной за передел колониальных владений. Вашингтонский режим умело сыграл на антииспанских настроениях кубинского и филиппинского народа, цинично использовал национально-освободительное движение в своих целях… впрочем, как и всегда.
Штатами был послан флот на Кубу, устроена подлая провокация – американцы сами взорвали свой броненосец «Мейн» (причем сейчас этот факт доказан, поскольку после поднятия судна со дна эксперты установили, что взрыв произошел изнутри) и, устроив визгливую истерию, вломились в испано-кубинский процесс, без объявления войны напав на испанский флот и на опорные крепости.
«Демократия», разумеется, победила, она не могла не победить. Однако кубинцы с тяжелым разочарованием обнаружили, что все словеса вашингтонских деятелей о борьбе за независимость Кубы оказались подленькой ложью, поскольку остров оказался накрепко оккупирован американской военщиной, которая вгрызлась в него мертвой хваткой. Теперь уж кубинскому народу пришлось изыскивать средства – как бы выкурить этих «освободителей» со своей земли, но это было не так-то просто. И хотя, пускай и спустя довольно продолжительное время, американская оккупация Кубы все же ослабла, но с тех пор на острове появилась печально известная база Гуантанамо, ставшая камерой пыток для многих людей, без суда и следствия брошенных в тюрьмы вашингтонским режимом.
Однако Кубе-то еще повезло, на Филиппинах происходили дела куда более занимательные, ведь после испано-американской войны гнет на филиппинцев стал не только не меньшим, а усилился, что вызвало острое недовольство населения островов. На подавление сопротивления вашингтонский режим бросил семьдесят пять тысяч солдат (почти три четверти американской армии), и в 1900 году началось кровавое подавление партизанских отрядов, все еще не желавших сдавать страну.
Пятого февраля 1901 года статья в «Нью-Йорк Уолд» сообщала следующее о действиях США на островах: «Наши солдаты начали применять ужасные меры против туземцев. Капитаны и лейтенанты становятся судьями, шерифами и палачами. “Не посылайте мне больше пленных в Манилу!” – таков был устный приказ генерал-губернатора три месяца назад. Стало обычаем мстить за смерть американского солдата, сжигая дотла все дома и убивая направо и налево подозрительных туземцев».
Филиппинские крестьяне были согнаны в зоны, подобные концентрационным лагерям, названные «реконсентрадос» (приблизительно в это же время английские войска изобрели концлагеря в Южной Африке, но, поскольку там жертвами были белые – буры, эта история получила гораздо большую известность, чем бесчеловечные эксперименты американцев на Филиппинских островах). Пленные филиппинские солдаты и гражданские подвергались «водным процедурам». Их «заставляли проглотить четыре-пять галлонов (15–18 литров) воды, так что их тела превращались во что-то ужасное, а затем им на живот становились коленями. Это продолжалось, пока «амиго» не начинал говорить или не умирал». И если филиппинец отвечал ударом на удар, США были готовы зверски мстить. Когда американский взвод был уничтожен в засаде, бригадный генерал Джейкоб У. Смит, ветеран бойни при Вундед Ни (бойни индейцев) приказал «убить всех, начиная с возраста 10 лет». «Вся окрестность должна превратиться в пустыню, – заявил Смит. – Я не желаю пленных, я желаю, чтобы вы убивали и жгли, и чем больше вы убьете и сожжете, тем довольнее я буду. Я желаю убить всех, способных держать оружие в войне против США».
«Бойня Мэй Лай была проделана ранее на Филиппинах в 1906 году, – пишет Ховард Зинн. – Американская армия напала на 600 членов племени моро в южных Филиппинах – мужчин, женщин, детей, живущих в самых первобытных условиях, не имевших современного оружия. Американская армия, вооруженная до зубов, напала на них, уничтожила их всех до одного, мужчин, женщин, детей». Командир, ответственный за эту «операцию», получил телеграмму с поздравлениями от президента США.
Марк Твен с возмущением писал об этой бойне, но что мог поделать писатель против огромной машины массовых убийств и пыток, которой продолжала оставаться звездно-полосатая держава?!
Там же, на Филиппинах, американцами впервые было испытано и биологическое оружие. Американский врач, ставивший эксперименты над заключенными, заражал их чумой (подтверждено по крайней мере 20 случаев), а еще двадцать девять заключенных ввел в состояние тяжелого искусственного авитаминоза, часть заключенных погибла, все выжившие стали инвалидами [27].
В разгар испано-американской войны, помимо Кубы, Коста-Рики и Филиппин, вашингтонский режим аннексировал также и Гавайи, свергнув королеву государства, существовавшего на островах. Хотя политическое и торговое проникновение американцев на Гавайский архипелаг началось гораздо раньше, ведь чрезвычайно выгодное географическое положение этих островов делало их ключом, вернее, отмычкой для вторжения США в Тихоокеанский регион и Юго-Восточную Азию. Помимо прочего, на Гавайях были запасы сандалового дерева, высоко ценившегося в Китае, но самое главное – здесь можно было расположить отличную базу для пополнения запасов продовольствия и воды для трансокеанских судов, а также разместить военные объекты, ведь удобные гавани островов вполне благоприятствовали этому.
Вашингтонский режим очень беспокоился, как бы Гавайи не достались Франции или Англии, которые проявляли себя в данном регионе очень активно.
Экспансионистской политике США на Тихом океане инициативно содействовали собственники текстильных предприятий (связанных с азиатскими рынками), судовладельцы, торговые компании и набиравшие силу монополии типа «Стандарт ойл» [28]. Гавайи казались незаменимыми, они нужны были США, как винчестер опытному грабителю.
Еще в 1873 году генерал Скофилд по поручению президента У. Гранта облюбовал на островах выгодное место для военно-морской базы. Так началась история печально знаменитого Перл-Харбора.
В 1880-х годах американцы принялись уже вовсю хозяйничать на Гавайях, навязывали королю Калакауа кабальные договора, оговаривая для себя всевозможные «исключительные права», при этом ухитрялись избегать международных обязательств, ведя дьявольски хитрую политику. Они выжидали, как говорил госсекретарь Т. Байярд, пока на Гавайях окончательно обоснуются американские плантаторы и промышленники, «пока интересы населения островов не окажутся в сфере бизнеса и политических симпатий, полностью идентифицироваться с интересами Соединенных Штатов».
Разграбление народных богатств и угнетение местного населения началось с самого появления вашингтонских агентов на Гавайях. Вывоз в США сельскохозяйственных культур приносил торговым монополиям баснословные прибыли, почти весь сахар, производимый на островах, вывозили в США, почти весь рис, другие жизненно необходимые населению продукты.
Результат для некогда процветающего королевства был плачевным: к концу девятнадцатого века из трехсоттысячного гавайского населения в живых осталось лишь тридцать пять тысяч! [29] В это трудно поверить, но, к несчастью, это правда. И здесь мы вынуждены зафиксировать очередное чудовищное преступление американизма, в данном случае – уничтожение людей, очередной геноцид, в данном случае при помощи торговой войны.
Когда население островов было десятикратно сокращено, а все богатства королевства захвачены американцами, об аннексии говорилось уже как о чем-то решенном, подчинение Гавайев было лишь вопросом времени,
В 1891 году короля Гавайев заманивают в поездку по Калифорнии, где он умирает, его преемницей становится принцесса Лидия Лилиуокалани, которая, однако, оказалась не так проста, как о ней думали прежде. Она решила попытаться сделать хоть что-то для исправления катастрофического положения, приведшего к кошмарному вымиранию ее народа, то есть решилась бросить вызов американскому влиянию, применив при этом свою женскую хитрость. Принцесса Лидия, вернее, уже королева, постаралась консолидировать вокруг себя антиамерикански настроенные слои населения, но вашингтонский режим зорко следил за всем происходящим в островной стране и, умело подогревая в стране антипатриотические взгляды (ах, как это нам знакомо!), сумел сколотить в стране тайный «клуб сторонников аннексии», куда вошли немногочисленные, но влиятельные граждане, в основном из числа американских плантаторов и прочих лиц, заинтересованных в ослаблении местного суверенитета.
Стоит ли говорить, что королеву Лидию старались всячески опорочить в глазах народа и свалить на нее все то, что натворили американцы за годы паразитирования на гавайских богатствах.
В 1893 году произошел переворот, который, говоря начистоту, к коренному-то населению вообще почти никакого отношения не имел, поскольку во главе заговорщиков стояли плантаторы, их неприкрыто поддерживал посланник США и американские военные. Не очень-то надеясь на одобрение народных масс, заговорщики запросили дополнительные войска, которые конечно же и прибыли в незамедлительном порядке, высадившись 17 января в Гонолулу якобы для «охраны жизни и имущества американских граждан». Но сия охрана вылилась в мгновенную оккупацию столицы страны, войска сосредоточились вокруг королевского дворца и правительственной резиденции. Ни один из протестов королевского министра иностранных дел и губернатора острова Оаху против американской военной оккупации во внимание принят не был.
Королева была низложена и арестована.
Так закончилась независимость еще недавно богатого и успешного государства. Пришла «демократия».
Однако Всевышний, быть может, хотел-таки дать шанс коренному населению островов, и потому на исторической арене появляется весьма занятная личность, а именно Николай Судзиловский-Руссель, известный также под именем Каука Лукини (на языке местного народа – «русский доктор»). Желая помочь бедственному положению его коренного населения, этот человек сумел стать первым президентом сената Гавайских островов.
В момент осуществления вашингтонскими марионетками проамериканского переворота Николай Константинович занимался врачебной практикой на Гавайях, потому хорошо знал положение коренного населения. И когда в 1900 году президент США подписал «Акт о предоставлении правительства Территории Гавайи», в котором оговаривался обязательный институт Губернатора Территории, назначаемого президентом США (то есть надзирателя вашингтонского режима над островами), но в то же время Гавайям позволялось иметь свой парламент, Судзиловский решил активно стать на сторону подавляемых американцами канаков (народа Гавайев) и организовать «Партию самоуправления Гавайев» (так называемых гормулеров).
Однако для того, чтоб в парламент не прошли «неблагонадежные» (то есть местные патриоты), американцы тут же сколотили две другие партии (разумеется, «демократическую» и «республиканскую»), надеясь, что всю власть-то и прикарманят, но неожиданно для них в стране укрепилась-таки третья сила, во главе которой был Судзиловский со своими сторонниками, а поддерживали его широкие массы коренного населения, чьи интересы он отстаивал очень горячо, а главное – искренне. Николай Константинович без труда проходит в сенат вновь созданного государства, а затем его избирают президентом, что становится неприятной неожиданностью для большинства американских горлохватов, разинувших рот на оставшиеся богатства Гавайских островов.
Судзиловский-Руссель добивался, чтоб Гавайи действительно были самоуправляемой территорией (как было указано в формальном соглашении с «временным правительством», низложившим королеву Лидию). Находясь в должности президента, Николай Константинович успел провести реформы в поддержку канаков, в среде которых продолжал пользоваться огромным уважением, поскольку действительно проводил их интересы, но не смог противостоять усиливающемуся репрессивному давлению вашингтонского режима, потому был отстранен от должности, но мало того, еще и лишен гражданства за «антиамериканскую деятельность».
Николай Судзиловский родился в России, учился в Петербургском и Киевском университетах, затем стал революционером, общался с Карлом Марксом, побывал в разных странах, прежде чем осесть на Гавайях. Ему принадлежат также труды по теории медицины (и открытие так называемых «телец Русселя»). Биографию он имел поистине приключенческую, и хотя его нельзя назвать совершенно однозначной личностью, но все же это очень неординарный человек, который мечтал об улучшении жизни народов и освобождении их от любых форм поражения в правах, вот и гавайскому населению он всей душой хотел помочь.
Но что может сделать один русский против огромной махины вашингтонской агрессивной политики?
Ах, если бы русских в этом мире было побольше, тогда и мир был бы другим.
Подмяв под себя обширные пространства, претендуя на контроль над акваториями двух океанов, вашингтонский режим превратил свою систему власти в метрополию, распоряжающуюся новой колониальной империей. К началу двадцатого века уже успела сформироваться «фирменная» американская технология подавления народов, опирающаяся на трехступенчатую стратегию: во-первых – прямое военное вмешательство, во-вторых – шантаж и запугивание, и в третьих – так называемая «долларовая дипломатия», то есть навязывание кредитов, принуждение использовать доллары в качестве валюты для расчетов. Это третье все более и более становилось действенным, ведь, вытесняя других игроков, Вашингтон делал небольшие страны полностью зависимыми и чрезвычайно уязвимыми, и ликвидировать неугодный режим становилось теперь еще легче, уничтожить политика, вдруг осмелившегося сказать слово против ограбления своей страны штатовскими монополиями, стало проще. Хотя нужно отметить, что время от времени находились-таки люди, не боявшиеся бросить вызов звездно-полосатым горлохватам, но почти всякий раз настоящие патриоты своих стран, попавшие в зону влияния США, бывали либо уничтожены, либо изгнаны из страны.
В целом период с 1898 по 1938 год называют условно «Банановыми войнами», первой из них считают обычно Испано-американскую, когда вашингтонские «ястребы» без объявления войны напали на кубинские владения испанцев, потом последовала серия агрессивных кампаний, предпринимаемых как против чьих-то колониальных владений, так и против независимых территорий. Никакой разницы не прослеживается, американцы действовали почти везде одинаково – они убивали, жгли, подавляли сопротивление аборигенов, потом сажали свою марионетку и начинали мощную пропагандистскую промывку мозгов.
В самом начале ХХ века вашингтонским режимом был осуществлен, пожалуй, самый циничный и самый удачный акт захвата чужой территории, принесший им наиболее весомые прибыли и выгоды. Речь идет об оккупации Панамы, которой предшествовало отторжение панамской территории от Колумбии (тогда называвшейся Новой Гранадой, затем Великой Колумбией), на чьей земле еще с 1879 года велись работы по сооружению трансокеанского канала, за который взялись французские инженеры. И хотя среди них был и знаменитый Эйфель, первый опыт сооружения канала оказался не очень удачным (была допущена роковая ошибка, заключавшаяся в том, что канал хотели построить на уровне моря, вернее, на уровне океана, а это было технически невозможно в тех условиях), ну и много других ошибок и промахов допустили французы, наломали немало дров, сами не желая того, угробили тысячи человеческих жизней.
Пока французы набивали себе шишки и на своем горьком опыте обнаруживали правильные и неправильные пути подхода к строительству канала, американцы стояли в стороне, но в какой-то момент, дождавшись, пока французская компания обанкротится, они скупили за гроши ее имущество и принялись за новый амбициозный проект, который должен был стать более успешным, чем французский, ведь снимал сливки с чужой работы, использовал чужой опыт.
Однако еще перед строительством канала американцы вознамерились полностью подчинить себе территорию его прохождения, строить канал хотели они для того, чтоб по максимуму выжать из него все, что можно. К тому же этот новый рубеж, по замыслу вашингтонских стратегов, верных духу «Доктрины Монро», должен был стать «южной морской границей США», ведь они не оставляли мысли о том, что рано или поздно, но сумеют поглотить все страны, лежавшие к югу от Рио-Гранде.
Проводя дипломатическую «артподготовку» перед началом аннексии Панамы, вашингтонские политики составили и предложили властям Колумбии проект договора о передаче ею всех прав на строительство и эксплуатацию будущего канала, но бумажка эта содержала такие неравноправные условия, что правительство Колумбии, разумеется, не могло согласиться. Однако его уже никто не собирался уговаривать, судьба его территорий решалась в Вашингтоне, который проводил последние приготовления, договариваясь с Англией, вернее, вступив с нею в препирательства, поскольку она тоже разевала рот на этот лакомый кусок Центральной Америки и даже постоянно сочиняла всевозможные бумаги, предлагала Вашингтону договора, должные закрепить влияние англичан в регионе. Но в 1901 году был подписан договор Хэя-Паунсфорта, который ставил точку на этих препирательствах, являлся победой США и, по сути, предрешал судьбу Панамы, отдавая ее на откуп Вашингтону. За спиной Колумбии была решена судьба ее южных территорий, большие хищники договорились между собой и звездно-полосатая ватага «приватиров» двинулась в очередной грабительский рейд, имея «патент на грабительство», как в старые добрые пиратские времена!
Девятого октября 1903 года американский президент Рузвельт принимал в Белом доме французского авантюриста Бюно-Варилья, который был основным акционером проекта по сооружению межокеанского канала, этот делец являлся горячим сторонником провоцирования в Панаме сепаратистских выступлений, потому легко спелся с хозяином Капитолийского дворца. «Я вышел из кабинета, – вспоминал впоследствии Бюно-Варилья, – с осознанием того, что располагаю всем необходимым, чтоб приступить к действиям». А на следующий день, 10 октября, Рузвельт пишет одному из своих друзей: «Неофициально могу вам откровенно сказать, что я был бы рад, если бы Панама была независимым государством или в данный момент становилась независимой…» [30]
Желание президента исполнилось ровно через две недели. В Панаме произошла «революция». По счастливому для сепаратистов «стечению обстоятельств» у входа в порт Колон именно в этот день оказалась небольшая, но хорошо вооруженная американская эскадра. Капитан крейсера «Нэшвил» дружески «посоветовал» колумбийским войскам, пытавшимся отправиться на подавление мятежа, не вмешиваться, ибо вмешательство это могло создать «угрозу американским интересам», чего Соединенные Штаты, естественно, допустить не могут [31].
Вашингтон мгновенно признал «Республику Панаму», и почти сразу был подписан договор о предоставлении Штатам всех прав на строительство и последующую эксплуатацию канала, причем с «панамской стороны» его подписал не кто иной, как Бюно-Варилья. Сей документ представляет собой удивительный в истории дипломатии, но очень органичный и естественный для вашингтонского американизма образчик мошенничества, ведь, согласно немудреной логике этого соглашения, США просто отбирали себе земли в самом центре молодой страны, получали их в полную собственность, не допускали возможности распространения законов панамского государства на эти земли, а также права панамской юрисдикции на любые земли и воды вне этой зоны, коль они будут признаны необходимыми для постройки канала. Но мало того, американцы запрещали Панаме даже на прочих территориях страны сооружать любую другую систему коммуникации и сообщений, которая, в принципе, могла бы конкурировать с каналом, как-то: железные, шоссейные или любые другие пути. Панаму лишали взимать налоги со всего того, что имело отношение к каналу.
Стоит ли удивляться, что такое отношение американцев не могло не вызвать острого неприятия со стороны местных жителей, и пока длилась американская оккупация (а она продолжалась без малого целый век), в стране то и дело вспыхивали восстания, которые были жестоко подавлены вашингтонским режимом. На каждое выступление народа следовала новая волна террора, американцы будто сатанели, они унижали, насиловали с еще более вызывающей безнаказанностью.
Нужно отметить, что, «признав независимость» Панамы, американцы так и не позволили ей обзавестись своей собственной валютой, проведя долларизацию панамской экономики (страна не имеет своей валюты до сих пор; номинально денежной единицей Панамы является бальбоа, но чеканятся лишь мелкие монеты, да и их курс «привязан» к доллару).
Панамцам так дорого обошлись «американские интересы», что до сих пор приходится расхлебывать последствия вашингтонских вторжений, последнее из которых было совсем недавно (в конце 1989 года, началось, как обычно, с целью «защиты американских граждан», точно так же как Гитлер обосновывал свои претензии на Судеты «защитой судетских немцев»). Интервенция, как и водится, не обошлась без жертв и разрушений, искалечив судьбы огромного числа людей.
Раскручивание маховика экспансионистских устремлений породило нечто вроде эйфории в среде вашингтонской элиты, страны Карибского бассейна стали рассматриваться теперь лишь как расходный материал для осуществления планов продвижения «Доктрины Монро», которая была теперь преобразована в «политику большой дубинки» и «дипломатию канонерок», с помощью которых народам центральноамериканских стран просто выкручивали руки, заставляя их соглашаться на столь унизительные условия «протектората», что порой это доходило до анекдотичности. К примеру, подчинив себе Доминиканскую республику, США навязали ей договор, согласно которому под контроль Вашингтона переходят все доминиканские таможни, страна больше не могла распоряжаться своими финансами, ни снижать налоги, ни обращаться за займами, если на то не было согласия США. Вся финансовая жизнь страны перешла под контроль династии Рокфеллеров [32].
В Доминиканской республике, разумеется, то и дело вспыхивали волнения, недовольство американским произволом постоянно давало о себе знать, но всякий раз оно бывало жестоко подавлено, ведь вашингтонский режим несколько раз подряд осуществлял военную интервенцию для поддержания «власти законного правительства». Как видим, когда Вашингтону выгоден «тиранический режим», он горой стоит за сохранение его незыблемости и не горит желанием сместить его, как правительство Асада в нынешней Сирии, которому он предпочитает «представителей восставшего народа». Всякий раз, когда народ в странах Центральной Америки восставал против марионеточных «законных режимов», посаженных Вашингтоном, доблестная звездно-полосатая армия не жалела патронов и не считала объемы пролитой крови, подавляя мятежи.
В правительстве США открыто заявляли, что в тех случаях, когда страны Западного полушария «будут плохо себя вести», Соединенные Штаты станут выступать в роли «международной полицейской силы» [33].
Анекдотичность же американских вмешательств заключалась и в том, что они могли запретить кому-то заниматься привычным типом хозяйствования и по своей прихоти навязать иной тип. К примеру, в Вашингтоне решили, что Куба должна стать страной монокультуры и выращивать один лишь сахарный тростник, и ей уже скоро навязали эту форму экономики, запретили заключать какие-либо договора с иностранными державами, которые могли бы нарушить американские планы по превращению Кубы в «большую сахарницу». Размещенная на острове военная база зорко следила за тем, чтоб американские монополии становились здесь новыми рабовладельцами. Недовольных садистски уничтожали, ведь иного выхода не было, восстания на свободолюбивой Кубе вспыхивали так часто, что Вашингтон уж, наверное, и со счету сбился, подсчитывая, сколько раз ему пришлось высаживать морскую пехоту для расправы над кубинским населением, которое не могло смириться с американской оккупацией.
Превращение Центральной Америки и всего Западного полушария в полуколонию США было продиктовано, помимо мании доминировать, еще и «экономическими причинами», именно в начале ХХ века оформляется уже упомянутая выше так называемая «дипломатия доллара», которую провозглашает президент Тафт. В послании конгрессу о внешней политике в декабре 1912 года Тафт подчеркивал, что дипломатия его правительства такова, что «доллары выполняют роль штыков» [34].
Нужно заметить, что и до сих пор они все еще выполняют эту роль, причем острие каждого штыка отравлено и заражено той же инфекцией, которую стремились распространить «осваиватели Дикого Запада», уничтожавшие индейцев, стремившиеся отобрать имущество и землю законных хозяев, сделав ее своею.
В нынешние времена мы вынуждены были наблюдать однотипность «оранжевых революций» и понимать, что, провернув одну из таких смен режима в той или иной стране, американцы стремятся распространить «удачный опыт» и на другие страны, неся в них нестабильность, деградацию и полностью подчиняя их «американским интересам». Однако эта тактика и технология проявлялась и век назад, разве что методики были иными и политические декларации отличались чуть более откровенной риторикой (где словосочетание «американские интересы» было ключевым). Но провернув удачную смену власти в Доминиканской Республике, Вашингтон применил тот же самый опыт, вторгнувшись в Гондурас, навязав те же самые «договора», свою «опеку», взяв под контроль таможни этого еще недавно суверенного государства.
С Никарагуа пришлось немного попотеть, ведь население этой страны слишком хорошо помнило, чем обязано американцам и как дорого приходится платить за каждый случай «общения» с ними, но звездно-полосатая машина, как и прежде, не собиралась уважать ничьи интересы, а уж тем более принимать в расчет чьи-то чувства. Республика Никарагуа была объявлена «стратегически важной» для США страной, потому судьба никарагуанцев была предрешена, шанса отбиться от наглой англоязычной своры у них не было. Еще в 1901 году вашингтонские агенты спровоцировали волнения в стране, приведя к власти свою марионетку А. Диаса; когда же его проамериканские действия вконец разозлили население, которое вышло на улицы, на подавление мирных жителей, как и водится, были брошены американские войска, которые так и оставались в этой стране в течение следующих тринадцати лет, держа за горло никарагуанский народ.
Американская финансовая «элита», промышленники, магнаты, владельцы монополий пребывали в восторге от «грамотных действий» вашингтонских политиков, а взоры пиратской державы были устремлены в даль, их манили перспективы подчинения обширных территорий Дальнего Востока, и прежде всего Китая. В эту страну американцы наведывались уже не раз, в том числе для осуществления военных и карательных рейдов, когда отвечали на очередное «оскорбление» американских граждан или когда нужно было «поддержать американские интересы», но до начала ХХ века американцы в Китае плелись в русле политики Англии, которая здесь доминировала, вынуждены были сидеть у нее на хвосте.
Косясь на Китай, американцы очень хотели отхватить себе кусок его территории, создав здесь некое подобие колонии или хотя бы сеть обширных военных баз, откуда было бы сподручно осуществлять системные диверсии с целью дальнейшего подчинения всей территории Поднебесной империи своему влиянию. Но «традиционные игроки», давно влезшие в дела региона, не очень-то спешили допустить США в Китай в качестве одного из равноправных грабителей, американцы же очень хотели получить «грамоту приватира», то есть право грабить китайцев и навязывать им наркотики, имея на то исключительные и «законные основания».
И «гениальная дипломатия Вашингтона» придумала новый способ обойти существующие понятия, по которым действовали Англия, Германия, Нидерланды и Франция, проявлявшие особенно заметную активность на Дальнем Востоке в данный период. Американцы решили начать с навязывания так называемой «политики открытых дверей», которая заключалась в том, что каждая из держав может делать в Китае все что угодно, покуда ее интересы не очень сильно ущемляют интересы уже окопавшихся в Поднебесной «мировых игроков». Старые акулы (и прежде всего, разумеется, Англия) еще пытались что-то возразить, настаивая на том, что китайская вотчина – их дойная корова, но американцы были уже на пути к новой военной акции, они жаждали пролить кровь китайцев, а когда жажда крови начинает мучить англоязычную орду, отказывать себе она не считает нужным. И вот, покончив с подавлением Филиппин и не успев еще как следует отмыть руки от крови тамошних повстанцев, американский Тихоокеанский флот направляется в долину реки Янцзы. Девятнадцатитысячный экспедиционный корпус, переброшенный с Филиппинских островов, принимает участие в подавлении народного восстания ихэтуаней, которые требовали ослабления гнета иностранных монополий и уменьшения вмешательства заморских государств в политику страны. США попытались занять Циньхуандао и утвердиться в провинции Хэбей, навязав свою «опеку».
Однако решить «стратегические задачи» американцам в Китае все же не удалось, и хотя они добились главного, того, чего добивались всегда – принесли много горя людям, на земли которых вторгаются, пролили реки крови ради тупой и примитивной стратегии перманентного вмешательства в дела других государств, но полностью подчинить себе сколь-нибудь значительную территорию Поднебесной они не сумели, как не смогли в течение долгого времени подавить сопротивление, оказанное им на Гаити, куда американцы очень хотели попасть, навязывая и гаитянам свою гегемонию. Гаитянская республика, несмотря на свои небольшие размеры, оказалась крепким орешком. Уже с середины XIX века вашингтонский режим пытался заполучить морские базы на Гаити (чуть выше я упоминал о первом их агрессивном вторжении) и не менее двадцати раз направлял свои военные корабли в Порт-о-Пренс под предлогом борьбы с беспорядками, но контроль над этой независимой в ту пору республикой установить не смог. Лишь к 1915 году американцам удалось навязать ей кабальный договор, свое иго, переломив сопротивление народа Гаити. Мстя за долгую неуступчивость, вашингтонские политики сделали текст договора намеренно издевательским, потому мне в который раз приходится говорить об анекдотической степени цинизма американцев, ведь они оговорили себе право на вооруженное вмешательство в дела Гаитянской республики, если, к примеру, ее власти будут вести «бесперспективную» финансовую политику.
Не будь история США столь кровавой, насыщенной насилием и неуважением элементарных понятий о человеческом достоинстве, она напоминала бы один большой анекдот.
Нужно отметить, что поражения и проигрыши случались в истории войн США довольно часто, можно сказать, что американцы проигрывали всякий раз, когда их силы и техническое оснащение не превосходило возможности противника в несколько раз. Американцы, как у них и водится, беспричинно проявляли агрессию, убивали, грабили, насиловали, жгли селения, но если из глубин страны возникал партизанский отряд, полный решимости обломать рога бесцеремонному зверю, то зверек вдруг улепетывал, бросал все и, лишь проклиная «дикарей и варваров», отправлялся восвояси готовить новый, более подлый удар, от которого «противники свободы» уже не должны были оправиться, ведь это будет удар в спину. Из огромного числа захватнических войн Вашингтона есть лишь несколько примеров, когда ситуация развивалась иначе, и вояки США могли бы победить на равных, ведь по зубам они получали и от кубинцев, и от никарагуанцев, и от гаитян, хотя и стремились потом подвергнуть эти небольшие народы чудовищной мести, а когда не удавалось и это, норовили задушить не покорившуюся жертву, подвергнув изоляции, блокаде, перекрывая кислород и сношения страны с внешним миром. Простая мысль о том, что люди имеют право жить так, как им хочется, стремясь сохранить свою особую инаковость, непохожесть, нежелание подчиняться американскому стандарту, просто не приходила в головы звездно-полосатым выкормышам пиратского притона, возомнившего себя центром мироздания. Все более и более твердя о свободах и демократии, вашингтонские американцы так никогда и не признали право какого-либо народа жить по-другому, по-своему, не подчиняться диктату «большой дубинки», не принимать «американские ценности», оставаться самим собой, решать свою судьбу, согласуясь со своими нормами и ценностями, нести свои идеалы.
И потому американцы завели обыкновение устраивать в качестве некоей «артподготовки», в качестве предварительного этапа любой захватнической агрессии «революционную» провокацию в той или иной стране, засылая тайных «агентов влияния», используя возможности представителей своих монополий с тем, чтоб натравить одну часть общества страны, назначенной к захвату, на другую ее часть. В центральноамериканских странах нередко провоцировали резню индейцев (потому в некоторых из этих территорий коренного населения не осталось вообще), сотнями и тысячами убивали патриотов, социалистов, коммунистов. Вопроса о моральной стороне дела не стояло и стоять не могло, жертвы не принимались в расчет, хотя вашингтонские говоруны и источали словеса о цивилизаторской роли США. Но ни своих, ни чужих не жалели.
Отсутствие моральных норм воинствующего американизма проявлялось по отношению ко всем, поголовно, не только к дальним, но и к ближним, разве что в отношении к врагам режима и врагам «империи» оно было чудовищным, порой неправдоподобным, как те вещи, скажем, которые происходили в России в период интервенции. О них пойдет речь в одной из следующих глав.