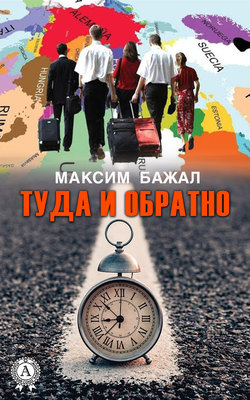Читать книгу Туда и обратно - Максим Бажал - Страница 5
Часть 1
Германия
Глава 1. Начало большого пути
1.1. Детство
ОглавлениеЯ родился и вырос, как тогда говорили, в семье служащих, т. е. мы были советской интеллигенцией: мама работала учителем английского языка в спецшколе, была несколько лет завучем, а отец был ученым, прошел путь от аспиранта до доктора технических наук, профессора, заведующего отделом технологии сахара и сахаристых веществ в одном из институтов Академии наук Украины. Причем он именно был ученым, а не «работал» им: наука была стилем и смыслом его жизни, образом его мышления. Мама же никогда и никем себя не видела, кроме как учительницей – и она ею стала. Так что у моих родителей не было проблем и шатаний с выбором профессии, они знали, кем хотят быть.
Мое рождение было не совсем обычным. Во-первых, беременность мамы имела резус-конфликт, который бывает при резус-отрицательной маме и резус-положительном отце. Из-за этого мама чуть не умерла при первых родах, когда появился мой старший брат. Теперь, во время второй беременности, ее направили на консультацию к знаменитому в то время врачу-гинекологу Пиоро. Во время обследования светило задумчиво сказало:
– Что-то я не пойму: у вас много лишних мелких частей.
– Каких еще частей? – испугалась мама.
– Не знаю, но они лишние. Баланс не сходится. А у вас в роду двойни были?
– Да, у моего отца есть сестры-близнецы, то есть это мои тетки.
– Ага, – обрадовался доктор, – тогда я понял: у вас двойня!
У знаменитого доктора сошелся баланс. Его честь была спасена неожиданной догадкой из разряда «мистер очевидность».
Из-за резус-конфликта мама хотела рожать в Охматдете, как самом нашем авторитетном заведении по родовым патологиям. Но тамошнее родильное отделение оказалось закрыто на санитарную обработку. А двойня ждать не хотела. Поэтому мы появились на свет в Октябрьской больнице 29 марта 1967 года – первым мой братик Димочка, а за ним и я через 15 минут. По воспоминаниям мамы, врачи все время говорили: «Второй хороший, а вот с первым плохо». Что плохо? Почему плохо? Тогда никто ведь ничего толком не знал, не было не только интернета, но и нормальной популярной литературы на эту тему. Считалось, что это удел врачей, а рядовому человеку много знать не положено. В общем, у Димочки на фоне резус-конфликта началась ядерная желтуха, ему сделали переливание крови. Хотя, как уже потом объясняли маме знающие люди, это необходимо было сделать сразу же после рождения при наличии такого риска. Возможно, в Охматдете так бы и поступили, кто знает. Но история не терпит сослагательного наклонения. Мой братишка так и не поправился. Ужасно промучившись 10 месяцев, он покинул нас в январе 1968 года.
Бытует мнение, что близнецы/двойняшки тоскуют при утрате пары. Ничего не могу сказать об этом, поскольку мы расстались в бессознательном возрасте. Я знаю только, что являюсь интровертом, люблю быть один, мне совершенно не нужны компании, но при этом я очень привязчив к какому-то одному-двум людям, очень ценю настоящую дружбу (не путать с понятием «друзья» в соцсетях) и очень тяжело переживаю расставание с такими людьми. Связано ли это с потерей брата-близнеца, не знаю. Вряд ли, я думаю.
Меня с самого раннего детства окружала интеллектуальная атмосфера: английские и французские словари (у мамы в университете вторым языком был французский), учебники, технические справочники, энциклопедии (это уже литература отца), ну и соответствующие разговоры. Кстати, я всегда просто обожал слушать взрослые разговоры. Отец очень любил компании, он был прекрасным тамадой, играл на гитаре и хорошо пел, друзья даже вручили ему шуточное удостоверение «Лучшему тамаде». Так вот, когда у нас дома собирались по какому-нибудь поводу друзья семьи и родственники, я сидел и внимательно слушал их разговоры: ну куда мы катимся?; мясо уже по 5 рублей!; сало уже по 4.50! Скоро сало будет как мясо! Когда такое было? Звучали, конечно, и другие темы, в зависимости от контингента гостей. Но всех людей обычно волновали простые житейские темы, понятно. Я жадно слушал все подряд, мне было все интересно, меня удивляло, как люди так ловко составляют фразы, рассуждают… У меня есть самая моя любимая детская фотография: я, 3-летний, сижу на коленях у отца и слушаю застолье. Думаю, отец пел в тот момент – у него был прекрасный слух, он играл на всех струнных инструментах (домра, гитара, балалайка) и хорошо пел. И даже руководил студенческим оркестром во время учебы в институте.
По семейному преданию, наша фамилия правильно произносится с ударением на первом слоге – Бáжал. Есть версия, что фамилия эта происходит от древнерусского дохристианского имени Бáжен, в котором акцент делается как раз на первом слоге. Эту версию изучал мой кузен, сын брата моего отца, дяди Коли. Мой отец очень строго следил за правильностью произношения нашей фамилии и всегда поправлял тех, кто ставил ударение не там, где надо. По данным сайта ridni.org, в Украине всего 35 носителей этой фамилии – она относится к разряду очень редких. Те несколько Бáжалов, которых я знаю в некоторых других странах, являются нашими родственниками, насколько нам удалось это выяснить.
Удивительно, но я четко помню себя с первого класса школы, т. е. с 7-летнего возраста. Я помню почти все события, встречи, разговоры, фразы, иногда даже вроде малозначимые. Отрывочно всплывают какие-то моменты из дошкольного периода. Родители отца никогда не жили в Киеве (они из города Ромны и села Левандовка рядом – это родовое гнездо Бáжалов). К моменту моего рождения в 1967 году деда Гаврилы уже не было в живых, а бабушка Марфа болела и редко приезжала. Но мне совершенно отчетливо запомнился один момент: рано утром я стоял в своей детской деревянной кроватке и держался за ограждение, когда надо мной склонилась бабушка Марфа. У меня до сих пор стоит перед глазами ее суровое лицо.
Мое детство было счастливым. У меня были родители, старший брат, а также дедушка Петя с бабушкой Катей (родители мамы) и сестра бабушки, мамина тетя Соня. Мы жили в своей квартире на ул. Ереванской, 24, а дедушка с бабушками жили отдельно, но совсем не далеко, в квартире по ул. Уманской. У нас в семье, как принято говорить, «детьми занимались», развивали. Я никогда не ходил в садик. Сколько себя помню, я всегда категорически не воспринимал все, что можно назвать словами «коллектив» и «коллективизм». Сейчас это называется махровый интроверт. Тогда таких слов не знали и говорили просто: он не садиковский.
Поскольку родители были целый день на работах (далеко от дома), то мной занималась бабушка Соня, т. е. сестра родной бабушки, которая к тому времени уже сильно болела. Обычно бабуля Соня приходила к нам с утра, мы завтракали, гуляли, приходил брат со школы, мы обедали. А потом наступал вечер, приходили родители, и бабуля уходила к себе домой через дорогу. Это в мой дошкольный период. А когда я пошел в школу, то после уроков я заходил на квартиру деда с бабушками (она была аккурат на полпути между моей школой № 164 и нашей квартирой) и ждал родителей до вечера. Когда в 3 и 4 классе я учился во вторую смену, то утром я шел к бабулям, делал там уроки, раз в месяц заполнял квитанции по оплате их квартиры (моя обязанность) и шел в школу. В общем, мы жили одной большой семьей на две квартиры.
У бабушки Сони была непростая судьба. Замуж она вышла перед самой войной. Ее муж пропал без вести, а сама она попала в облаву на Лукьяновке, где они тогда жили (ул. Дикая, сейчас Студенческая), и ее угнали в Германию. Как она рассказывала, сначала они работали на каком-то заводе, было очень тяжело, с ними обращались ужасно. Но примерно через полгода ее перераспределили на какую-то ферму, в немецкую семью. По ее словам, с ней обращались на равных. Вместе со всей семьей она выполняла разную тяжелую крестьянскую работу, обедала за одним столом со всеми и ела то, что и все. У нее была своя отдельная комната. Поскольку отопления в доме не было, а на дровах и угле экономили, то в обязанности остарбайтера Сони входило заполнить большие стеклянные бутыли горячей водой и разложить их каждому в постель, в том числе и себе. Спали они все на перинах. За годы, которые она провела в Германии, бабушка выучила немецкий язык и могла общаться на нем (говорить, а не читать и писать), хотя она была малограмотным человеком (1 или 2 класса церковно-приходской школы). Но жизнь, как говорится, учит.
Ферма, на которой находилась бабуля, попала в американскую зону оккупации. Ей предлагали на выбор остаться или же перейти в советскую зону и ехать домой. Там ходили советские агитаторы и говорили: товарищи, вас ждет Родина, Сталин понял, какой у него хороший и преданный народ, война показала это, он все осознал и дико извиняется, поэтому возвращайтесь, вас ждет новая жизнь, все будет по-другому. Но даже и без этих сказок бабуля не сомневалась: конечно, домой, там где-то муж, сестра, своя страна! Вернулась она. Ее муж так и нашелся. Хорошо, что хоть ее саму не тронули, как многих вернувшихся остарбайтеров. Стала она жить со своей сестрой и ее мужем – моими будущими бабушкой и дедушкой. Так она всю послевоенную жизнь и прожила с ними в одной квартире. Замуж она больше не вышла, своих детей у нее не было. В хрущевской двухкомнатной квартире, кто знает, в первой, проходной, комнате была ниша. Вот в этой нише и стояла бабушкина кровать. Ну, а все остальное общее. Так и прожили.
Понятно, что в такой ситуации я стал для бабушки Сони чем-то вроде сына и внука, наверное. Она меня очень любила и называла Чубчиком (он у меня действительно тогда был). И я именно ее воспринимаю как свою бабушку – в большей степени, чем родную бабушку Катю, ее сестру. Поразительно, но через много лет, в 2018 году, в один день с моей бабушкой Соней, 27 мая, в Канаде родилась моя внучка Майка. Вот бы обрадовалась бабуля! Удивительные бывают в жизни совпадения!
Бабушка Катя умерла рано, в 61 год (она много лет страдала сильной наследственной гипертонией). Через пару лет у бабушки Сони случился второй, последний инсульт. И дед Петя за ней преданно ухаживал, хотя это была сестра его жены. Тогда мне это казалось естественным, я не понимал, какая у деда большая душа и что он совершает подвиг. Есть трудовые подвиги, боевые и какие-то еще, но оказывается, что есть и незаметный житейский, бытовой героизм. Эти простые и малограмотные люди прожили очень трудную, но очень достойную жизнь. Когда я слышу, что не бывает народных интеллигентов, для этого надо большой ум, уровень культуры, образование, я отвечаю: чепуха! Мой дед вырос в селе, с 7 лет в поле, с 16 лет и всю жизнь проработал на стройке, имел 2 класса образования, участник трех войн (польской, финской и ВОВ), но это был самый настоящий интеллигент, я редко встречал в своей жизни что-то подобное. Самым его большим ругательством было: «Та ідіть під три собаки!». А когда мы сильно деда раздражали, он говорил: «От нічого вам нє інтєрєсно!». Любил смотреть программу Время. Когда мы ему говорили «Да что там смотреть, одна брехня, опять африканским революциям помогать!», он отвечал: «Та ідіть під три собаки! От нічого вам нє інтєрєсно! Что там помогать? Вот отработаем один субботник да Зыкина с концерта перечислит в Фонд мира – вот и помощь!». И смеялся. Добрым был очень человеком мой дедуля. Кстати, восстанавливал Киев, весь центр после войны. Прекрасным был мастером-строителем.
Кстати, вспомнил яркую черту бабушки Сони. Вскоре после того, как она стала приходить к нам – смотреть за мной – ее сестра, бабушка Катя вдруг сказала моей маме:
– Галя, почему Соня приходит от вас голодная? Вы хоть кормите ее, раз она смотрит за вашими детьми!
– Мама, ты что?! О чем ты?! Да я все выходные на кухне простояла, наготовила на неделю кастрюли еды! А я еще думаю, что это вроде многовато остается?
Оказалось, что раз бабушке Соне прямо не сказали, что она может брать еду, она к ней не прикасалась! Меня и брата кормила, а сама – нет. Высочайшая честность! Мама, конечно, была в шоке. Никто и подумать не мог, что об этом нужно специально говорить да еще кому, бабушке! У нас всегда были гостеприимные дома. Если кто-то заходил, даже случайно, его/их всегда усаживали, угощали. Мы никогда не экономили на еде и никого не ограничивали в ней. В общем, поразила нас бабуля. Подозреваю, что это у нее германская прививка такая осталась на всю жизнь. С тех пор мы с братом следили, чтобы она ела с нами.
Я не помню, чтобы я когда-то слышал в наших обеих семьях слово «любовь». Они жили, как умели, и все. И уж точно никогда никто не говорил и даже не думал, что хватит женщине быть кухаркой, пора искать себя. Обе бабули и моя мама всегда великолепно готовили и были счастливы этим. И успевали все остальное, неразвитыми или потерянными не остались. Никто моим предкам никогда ничего не должен был. А вот они должны были всегда: пережить трудности, пойти на войну, восстановить разрушенный город, помочь с ремонтом, и вообще помочь, раз люди просят, назвать гостей, наготовить кучу всего вкуснейшего и свежайшего. И никто никогда не искал виновных. Случилось и случилось – сам виноват. Я не слышал в разговорах слова «любовь», но я жил в ней, как я сейчас это хорошо понимаю. Она окружала меня все время. Думаю, что наша преданность семейным ценностям передалась от них моей маме, а от моих родителей мне. Ничто на Земле не проходит бесследно. Я не верю в переселение душ. Мне кажется, что бессмертие человека как раз и состоит в его делах – в том, что он оставляет в этом мире. Другого мира не существует, это миф. Все происходит здесь и сейчас. Поэтому думайте!
В детстве у меня были 2 сильных увлечения: детская железная дорога и коллекционирование моделей автомобилей в масштабе 1:43. Детская железная дорога была сделана в ГДР и продавалась в единственном месте в Киеве – в магазине «Юный техник» на бульваре Леси Украинки. Это было самое дорогостоящее мое хобби. Все эти рельсы, электровозы, вагончики, стрелки стоили недешево: например, двусторонний электровоз – 25 руб, вагоны были на уровне 6-10 руб, цена паровоза 12–15 руб и т. д. Когда мне дарили деньги на день рождения или Новый год, мы с отцом ехали в «Юный техник» и скупались. Бабушки дарили мне, например, по 10 руб или даже 25 руб (на юбилей) со словами: только ж ты купи себе что-то нужное – ботинки, например, или портфель, а не ерунду какую-то! Я приносил очередной вагончик или автоматическую стрелку и они вздыхали: ну вот, опять купил, конечно! Все это добродушно. Они понимали, что у нас разные системы ценностей. Мы с братом Костей соединяли все наши рельсы, раскладывая их на всю комнату, подключали блок питания, формировали составы и отправлялись по разным путям, переключая стрелки. Этой дорогой потом играл мой сын. Сейчас она лежит вся в целости и сохранности в большой коробке на чердаке и ждет внучат. А может и я еще тряхну стариной…
Мой отец купил свой первый автомобиль, Москвич-408 (в кузове 412), в 1974 году. Тогда это было огромное событие, ведь своя машина была редкостью. И естественно, мы с братом бредили автомобильной темой. Тем более, что советские машины не отличались качеством и надежностью – их нужно было постоянно ремонтировать. Чем мы и занимались, помогая отцу в гараже почти каждые выходные. Отец был очень ответственным человеком, к тому же ученым, у него все должно было работать, как положено, он никогда не доводил технику до поломки, делал все необходимые профилактики и чутко реагировал на всякие неправильные звуки, скрипы и свисты в машине. Так что работы нам хватало. В те времена в автосервис попасть было невозможно (блат в нашей семье очень не любили), поэтому абсолютное большинство автовладельцев ремонтировали своих железных коней сами. Гаражи в те времена были мужским клубом, где проводили много времени, общались, делились техническими хитростями.
Помню, у нас на кухне ползимы простояла коробка передач от нашего Москвича. Что-то с ней случилось. Отец ее полностью разобрал: все детальки, винтики, болтики, шестеренки и штифты заняли место в многочисленных выдвижных ящичках кухонного буфета (были тогда такие польские буфеты), в которых обычно хранились всякие сыпучие продукты типа перца, соли, горошка и т. д. Но машина – это святое, поэтому кухонный буфет «ушел» под детали коробки передач, чтобы не потерялись. Все это мы перебрали, промыли в бензине/керосине, износившиеся детали заменили новыми и собрали все назад. Поставили на Москвич и наступил день испытаний. Поскольку аккумулятор давно разрядился за время простоя из-за ремонта, то решили завести машину «с толкача». Толкали-толкали – не получается. Тогда попросили соседа, он взял нас на буксир и потянул. Москвич ползет как сани: колеса идут юзом и не вращаются. Что за ерунда? Оказалось, что мы в коробке передач, когда ее собирали, перепутали шестеренки и теперь у нас получилось 4 передачи назад и 1 вперед. Включили заднюю передачу, потянули машину вперед и она завелась! Гипотеза подтвердилась, но это же не дело, так не годится. Пришлось опять снимать коробку передач, нести ее на кухню и перебирать. Хорошо, что соль с перцем мама не успела назад в буфет засыпать. Благодаря этому Москвичу мы с братом разбирались в автомобилях лучше, чем в велосипедах.
Конечно, отец выписывал журнал «За рулем» и мы знали все правила дородного движения и сдавали все тесты по ПДД, которые печатались в номерах этого журнала. Когда мне было лет 12–13, отец разрешил мне сесть за руль и я научился водить машину. Потом, в 18 лет, я легко закончил автошколу и получил права. Инструктор по вождению отдыхал со мной.
Автомобильная тема в нашей семье пробудила также во мне еще одно сильное увлечение – коллекционирование масштабных машинок (1:43). Они тогда продавались в сувенирных отделах универмагов, а также в игрушечных магазинах/отделах. Ну, как продавались? Тогда ничего просто так не продавалось. То были времена сплошного дефицита, поэтому товары не продавали, а «выбрасывали». Вот появилось что-то где-то (говорили «выбросили») и надо было спешить купить. Конечно, масштабные машинки не были острым дефицитом, но поискать их надо было. В этом и состоял основной интерес коллекционирования – надо было «достать» модель. Если можно просто пойти и купить их, то в чем интерес? Стоили эти машинки в среднем 3.50 руб, были чуть дешевле и дороже (5–8 руб, редко 10–12). В основном я их покупал в Киеве, конечно, но иногда отец привозил модели из командировок в Москву, например. А однажды к нам в гости приезжала тетя Мария из Тбилиси (сетра отца), так она привезла в подарок очень интересную модель автомобиля Панхард 1927 года. Эта масштабная модель выпускалась на грузинском заводе игрушек Сихарули. У меня была картотека моей коллекции: в карточках я записывал название модели, основные технические характеристики автомобиля-оригинала, годы его выпуска. В общем, это было серьезное и полезное увлечение. Я собрал неплохую коллекцию. И она тоже лежит на чердаке (очень полезное помещение в доме). Когда времена дефицита прошли, мой интерес к коллекционированию постепенно угас.
Еще у меня был шикарный ГДР-овский механический конструктор, в котором были разные металлические детальки с дырочками, винты, гайки, отвертки, колеса, шкивы и оси. Конструктор был «двухэтажный»: большая коробка с двумя секциями – одна над другой. Из всего этого мы собирали различные конструкции: подъемные краны, лебедки, тачки, машины, мосты… Сказка, а не конструктор! Он очень долго нам служил, его хватило и моему сыну; остатки былой роскоши лежат до сих пор на том же чердаке. Внуки, где вы?
Я очень любил мастерить руками все подряд. Моей самой лучшей книгой в детстве был «Незнайка на Луне» Николая Носова. Я ее перечитал раз десять, наверное. Это была не книга, а кладезь технических штучек. Особенно меня поразил вездеход, который собрали Винтик и Шпунтик в своей мастерской. Одним из моих любимых занятий было рыться в кладовке с инструментами. Тем более, что их у нас было две: в нашей квартире и у деда Пети. Я до сих пор обожаю инструменты. Если хочу отдохнуть душой, то иду в Эпицентр и могу бродить там часа два среди полок, щупая все это богатство. Очень помогает!
Я всегда был весьма послушным, но любознательным ребенком. По сей день помню два ярких момента. Однажды (еще до школы, когда бабушка Соня возилась на кухне) я засунул пинцет в розетку. Пробки выбило и мы сидели без света, пока с работы не пришел отец. Больше всех переживала бабуля – не усмотрела! Но мама-педагог «отмазала» нас обоих: ребенок развивается! Примерно в тот же период мне стало интересно, как устроен вентиль воды в туалете (тогда все трубы и вентили с ржавыми подтеками были предметом интерьера советских санузлов и кухонь – все должно было быть на виду). Бабуля разогревала обед на кухне, а я взял в любимой кладовке трубный ключ (его называли «попка» за внешнюю схожесть с попугаем), пошел в туалет и крутанул вентиль… Бабуля помчалась в ЖЭК и воду перекрыли. На этот раз с работы пришел дед Петя с паклей и краской, и запаковал вентиль на место. И снова нам с бабулей ничего не было – списали на мое буйное развитие.
Также мой отец еще со студенческих лет увлекался фотографией и киносъемкой. Разумеется, у нас дома был бачок для проявления пленки, ванночки, пинцеты, проявители и закрепители, фотоувеличитель и красный фонарь. И опять же мы с братом и отцом (а потом я уже и самостоятельно) все это проявляли и закрепляли, печатали фотографии и составляли альбомы. Правда, только черно-белые пленки и фотографии. Цветные фото тогда как-то никто не делал, а вот цветные слайды делали. И если фотографией в те годы увлекались многие, этим было никого не удивить, то киносъемка была большой редкостью. Но не для нас! В семье была кинокамера и киноаппарат для любительских фильмов на пленке шириной 8 мм, без звука. Конечно, мы не снимали художественных фильмов. Была только документальная хроника из наших поездок во время отпусков, а также семейные события вроде 1 сентября и т. п. Даже сохранились фильмы времен аспирантуры отца. Сначала фильмы были черно-белые, а потом мы уже снимали цветные с конца 60-х. И фильмы, и цветные слайды мы относили проявлять в специализированное фотоателье на улице Ивана Кудри (сейчас Маккейна) – по-моему, оно было единственным в Киеве, где можно было проявлять кинопленку.
Кроме этого, мы с братом снимали мультфильмы на автомобильные темы: рисовали на бумаге дорогу, а на роль автомобилей и поездов брали масштабные модели из нашей же коллекции и нашу же детскую железную дорогу. Мы быстро освоили технологию съемок и сделали несколько мультиков. У нас даже была брошюра (она у меня есть до сих пор) о том, как снимать любительские кинофильмы.
Вообще, у отца была одна любопытная черта: он ко всему подходил основательно и если чем-то увлекался даже кратковременно, то неизменно покупал все необходимые для этого инструменты и справочную литературу (Гугла тогда не было, к сожалению). Думаю, будет лишним говорить, что у нас, конечно же, были справочники автомобилиста, фотографа, кинооператора и соответствующее оборудование. Эту черту полностью унаследовали я и мой сын. Очень хорошо, что сейчас есть интернет, который позволяет знать гораздо больше, но при этом ничего не надо хранить на полках. И все справочники отца на месте, конечно, хотя это уже скорее раритет, чем полезная вещь. Ну, а инструментарий… Да, его мы покупаем, повинуясь зову предков J. Всю семейную документалистику (фото и кино) я уже оцифровал. Хотя киноаппарат тоже есть и всегда можно посмотреть «живое» кино со стрекочущей пленкой. Правда, пленка часто рвется – время берет свое. Это уже вчерашний день, но такой дорогой и теплый – день детства.
Кроме этого всего, мы с братом клеили сборные пластиковые модели самолетов. Продавали тогда такие немецкие (ГДР) наборы. Клеил их, в основном брат, а я был на подхвате. Собирали мы ТУ-134, ИЛ-62, Союз-Аполлон и другие модели.
Из всего вышесказанного у читателя может возникнуть ощущение, что мне и в школу некогда было ходить из-за всех этих увлечений. Ничего подобного! На все хватало времени – и на школу, и на уроки, и на велосипед, и с ребятами погулять по улицам. А еще и самодельные игрушки мастерили: рогатки, танки из пластилина и троллейбусных угольных контактов (по Ереванской их полно валялось, где ходили маршруты 17 и 19), всякие кораблики с резиномотором и парусники… Ну и много книг читал (кроме школьной программы): Николай Носов, Николай Трублаини, Жюль Верн, Конан Дойл, Фенимор Купер, Луи Буссенар, Дюма. Книги Перельмана по занимательным наукам (Занимательная физика, Занимательная механика) были и остаются моими любимыми, все время их перечитывал. Еще мы читали журналы «Наука и жизнь» (очень интересный) и «Знание-сила» (скучноватый для детей, поскольку он предназначался для ученых), которые выписывал отец. А кинотеатр Спутник! Все фильмы того времени там пересмотрели (Фантомас, Зорро, Приключения неуловимых, Анжелика и масса других). Причем такой образ нашей жизни вовсе не был уникальным. В круг наших знакомых входили семьи ученых и преподавателей, где подобное (плюс-минус) насыщенное детство было нормой. Да и в так называемых «простых» семьях дети тоже много читали, ходили в кино, собирали конструкторы и клеили самолеты, не говоря уже про велосипеды, секции во дворцах пионеров и самоделки.
В общем, в детстве мы не скучали. Родители не жалели денег и времени на наше с братом развитие. И мы благодарны им за это. И вообще за прекрасное детство. Кстати, отец был строгим человеком, но очень любящим. Он не любил говорить о любви, а просто любил – своими делами, поступками, отношением. И весь мой личный жизненный опыт убедил меня в одном: кто много говорит, тому веры нет, там нет дел, это пустой человек.
Был у отца и один «пунктик» – он страшно хотел, чтобы я закончил школу с золотой медалью. Он сам закончил после войны школу с золотой медалью, у мамы была золотая медаль, у всех его друзей были медали, у их детей были медали, у моего брата была медаль – «все люди» закончили школу с золотой медалью, значит и я должен. Если я приносил из школы четверку (самую обычную, в дневнике в какую-нибудь среду появлялась 4 по математике, например), то все, это было нытье на целый вечер: «Ты что, хочешь в дворники пойти? Улицы подметать? Почему все могут, а ты не можешь?». Если четверка появлялась в табеле за четверть, это был скандал с теми же словами, но на два дня. Однажды в четвертом классе мне за вторую четверть по математике учитель поставила тройку… Не знаю, как так получилось, но вот так. Мама дорогая! Я пошел домой кружным путем. Сначала зашел к бабулям, рассказал им. Они накормили меня, налили рюмку пива для храбрости и стали ждать деда. Бабушка Катя вообще никогда не понимала, как можно переживать из-за какой-то учебы. Она всегда говорила моей маме: «Ну что ты сидишь за теми уроками? Оно тебе надо? Пятерка, четверка, какая разница? Иди погуляй лучше, как все дети!» Но мама училась. Она ничего не понимала в физике, но зубрила ее наизусть и рассказывала, как стихотворение. Медаль получила. Такое вот стремление. Да, ну вот, пришел дед. Мы сообща решили, что моя тройка – это ерунда. Но домой они меня не отпустили, стали ждать маму. Отец меня никогда не бил, этого как раз не боялись. Но все знали его отношение к вопросу учебы. Поэтому больше думали не обо мне, а о том, как отца успокоить. Пришла мама за мной. Еще посидели. Мама пошла домой сама. Поговорила с отцом (ребенок развивается) и вернулась потом за мной. Я пришел, отец ухмыляется. Мне было ужасно стыдно. Потом я уже подтянулся по математике, конечно.
Вообще, я учился всегда хорошо. Но никогда не понимал этого странного стремления к золотым медалям. Возможно, во времена школьной учебы родителей это было более честно и открыто. Но в мое время получение золотой медали превратилось в полную профанацию. Родители, классные руководители бегали к учителям и напоминали: это же «медалист», так вы уж не портите ему/ей оценки! Ребенка «заряжали» на медаль и он становился «священной коровой». Это был какой-то кошмар. Нет, это были умные, способные дети, они действительно заслуживали «золотую» медаль. Но система ее получения была чудовищно бюрократической. К тому времени, когда я учился в школе, серебряные медали отменили, оставив только золотые. Нужно было последние два года иметь в табеле за все четверти по всем предметам только пятерки, за предыдущие годы тоже должны были быть высокие оценки. Плюс образцовое поведение, участие в олимпиадах… Ну разве это мыслимо? Кто это придумал и зачем? Разве может ребенок, да еще в сложный подростковый период полового созревания, действительно вот так отлично везде успевать? Ведь обычно тот, кто хорошо знал языки или историю, не проявляли особых способностей в физике, например, и наоброт. Это нормально, но неправильно с точки зрения чиновников, придумавших нелепые требования для получения золотой медали. Поэтому оценки завышали, «тянули» тех «медалистов» на медаль. Я тем более хорошо все это знал, потому что мама ведь работала учителем в школе. И поэтому я искренне не понимал, зачем нужна та притянутая за уши медаль. Ну сдам в институте на один вступительный экзамен больше, зато не буду позориться из-за этого «золота». В чем проблема? Я всегда был очень чувствителен к фальши и не переносил ее на дух. А если мне что-то не нравилось, то я этим не мог заниматься. Поэтому за медаль я не боролся и не получил ее, хотя выпускной табель у меня был весь в пятерках (даже по пению), кроме физкультуры – там была твердая четверка.
Вот с таким «бэкграундом» я выходил из детства и вступал во взрослую жизнь.