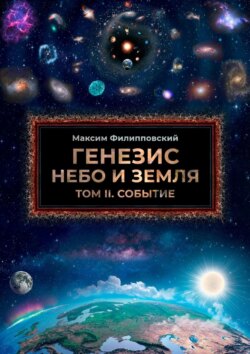Читать книгу Генезис. Небо и Земля. Том II. Событие - Максим Филипповский - Страница 4
Гипотезы
Гипотеза Творца
ОглавлениеВ начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Евангелие от Иоанна 1:1
§1. Воистину мудрецы оставили слово6 в науке, обосновав свои теоретические построения, предоставив нам возможность ясного взгляда на мир. Вместе с тем, подавляющее большинство наших ученых не смогли отделить происхождение от субъектного верховенствующего разума, соглашаясь с религиозным подтекстом устройства мира. Давайте вспомним какие религиозно-мировоззренческие позиции они разделяли.
§2. Галилео Галилей сказал: «Природа, без сомнения, есть Вторая Книга Бога, от которой мы не должны отказываться, но которую мы обязаны читать». Исаак Ньютон утверждал, что «Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены лишь тем, что космос был создан по плану Всеведущего и Всемогущего Существа». По словам Михаила Ломоносова, «Правда и вера суть две сестры родные, дочери одного всевышнего родителя, никогда в распрю между собой прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания собственного мудрствования на них вражду восклеплет». Андре Мари Ампер трактовал: «Самое убедительное доказательство бытия Бога – это гармония средств, при помощи которой поддерживается порядок в универсуме, благодаря этому порядку живые существа находят в своем организме все необходимое для развития и размножения своих физических и духовных способностей». Ганс Эрстед указал, что «Всякое основательное исследование природы кончается признанием существования Бога». Уильям Томсон направлял: «Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы помыслите глубоко, через науку вы обретете веру в Бога». Томас Эдисон восклицал: «Величайшее мое уважение и восхищение – всем инженерам, особенно же самому великому из них – Богу!». Чарльз Дарвин нашел, что «Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется главным доказательством существования Бога. Мир покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется как продукт разума – это указание на его Творца». Джеймс Джоуль рассуждал: «После того, как мы узнаем Волю Бога и подчиняемся ей, у нас есть еще одно важное дело: постичь Его Мудрость, Мощь и Милосердие из тех свидетельств, что явлены в Его делах. Познание законов природы – есть познание Бога». Джозеф Джон Томсон увидел, что «По мере того, как мы продвигаемся с вершины на вершину знания, внезапно обнаруживается, что каждую из них давным-давно освоили богословы, святые и праведники… Если вы мыслите достаточно сильно, то вы неизбежно будете приведены наукой к вере в Бога, которая есть основание религии. Вы увидите, что наука не враг, а помощница религии». Артур Комптон, восторгаясь разумным порядком сформулировал свой тезис: «Для меня Вера начинается со знанием того, что Высший Разум создал Вселенную и человека». Макс Планк отмечал, что «Религия и естествознание нуждаются в вере в Бога. При этом для религии Бог стоит в начале всякого размышления, а для естествознания – в конце. Для одних он означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов». Вернер Гейзенберг заметил, что «Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас атеистами, но на его дне нас ожидает Бог». Макс Борн обратил внимание, что «Многие учёные верят в Бога. Те, кто говорят, что изучение наук делает человека атеистом, какие-то смешные люди». Альберт Эйнштейн указал, что «Гармония естественного закона открывает столь превосходящий нас Разум, что по сравнению с ним любое систематическое мышление и действие человеческих существ оказывается в высшей мере незначительным подражанием». Поль Дирак подытожил, что «Природе присуща та фундаментальная особенность, что самые основные физические законы описываются математической теорией, аппарат которой обладает необыкновенной силой и красотой. Мы должны просто принять это как данное. Ситуацию, вероятно, можно было бы описать, сказав, что Бог является математиком очень высокого ранга, и что он при построении Вселенной использовал математику высшего уровня». Джеймс Джинс, оглядываясь в прошлое, заявил, что «Примитивные космогонии рисовали Творца работающим во времени, выковывающим Солнце и Луну, и звёзды из уже существующего сырого материала. Современная научная теория заставляет нас думать о Творце, работающем вне времени и пространства, которые являются частью Его творения, так же, как художник находится вне своего холста». Артур Эддингтон проанализировал развитие науки: «Идея о вселенском разуме или Логосе была бы, я думаю, довольно правдоподобным выводом из нынешнего состояния научных теорий». Вернер фон Браун высказал: «Мне так же трудно понять учёного, не признающего присутствие высшей разумности за кулисами существующей Вселенной, как и богослова, отрицающего достижения науки». Александр Поляков сделал вывод, что «Мы знаем, что природа описывается самой лучшей из возможных математик, потому что её сотворил Бог». Андрей Сахаров поделился своим соображением: «Я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле, я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные церкви. В то же самое время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысленного начала, без источника духовной „теплоты“, лежащего вне материи и её законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным». Стивен Хокинг предвещал: «Затем мы… сможем принять участие в обсуждении вопроса о том, почему же мы, да и вся Вселенная, существуем. Если мы найдём ответ на него, это будет окончательный триумф человеческого разума, ведь тогда мы познаем ум Божий». Роджер Пенроуз размышлял: «Я бы сказал, что у Вселенной есть разумное предназначение. Она возникла не просто как-то случайно». Джон О’Киф подметил, что «Если бы Вселенная не была создана с потрясающей точностью, мы никогда бы не возникли. По моему мнению, эти обстоятельства указывают, что Вселенная была сотворена для того, чтобы в ней жил человек». Фрэнк Типлер, отказавшись от атеизма, определил, что «С точки зрения последних физических теорий, христианство – это не просто религия, но и экспериментально проверяемая наука».
§3. Это лишь небольшая часть тех аргументов в пользу Верховного Творца, на чьи творения удалось взглянуть ученым умам. Все приведенные высказывания наших видных естествоиспытателей и исследователей, собственно, не связаны с предметом доказывания, а выражают их отвлеченные философские суждения относительно необъяснимого и необъясненного.
§4. Наука уже давно и значительно вышла за пределы чистой метафизики и схоластики, а строгий естественнонаучный и математический формализм фактически исключил отдельные абстрактные предметы из научного рассуждения, но в то же время заместив в теории иными компонентами, которые казались более рациональными. И тем не менее странно что, рассуждая о Творце, наши многие ученые принизили свой вклад в оборудование естества, полагая лишь выявление сущности отделенного от них Творения. Впрочем, не будем забывать вклад каждого из них и всех ученых вместе, ведь именно их теории двигали все человечество. Найденные основополагающие принципы и методы в понимании природы и её всевозможных сущностей стали решающим фактором научного сдвига и фундаментом обновления человеческого бытия.
§5. Теперь, следуя материалистическому пониманию нашего мира, с учетом гипотезы творения и единоначалия бытия, примем за основу что каждый человек является частью единого целого, наряду со всем что существует во Вселенной, только с возможностями и особенностями критического осмысления своего существования в окружении иных разных форм и условий жизни. Проблема наличия мифологического знания состоит в отсутствии строго формализованной теории начала всего, поскольку именно неопределенная точка отсчета создает мысленное пространство для мифологизации причины и следствия, как отдельных событий, так и естества в целом. Если физики идут по пути создания теории всего, а математики им предоставляют соответствующий инструментарий, то философы переносят полученные результаты на гуманитарный уровень, снабжая аргументом логический переход от абстрактного к конкретному, или обратно, приводя базис сознания в некую форму, которая вероятно может быть как общепринятая. При этом для религии такое положение вещей не является допустимым вследствие не требующей доказательств веры на основании незыблемых догматов. Религиозное представление, в особенности мировых монотеистических религий, отстаивает идею Творца, как всемогущего сверхъестественного существа, породившего всё и предоставившего нам право выбора.
§6. Но теперь-то очевидно, что сами люди, вернее те из них, кто стоит на пути понимания и формирования разумного бытия, участвуют в грандиозном созидательном действе, порой не придавая должного значения происходящему. А как во всем этом действе заметить смысл происходящего? И какова роль каждого из нас? Ответы на вопросы о смысле жизни и об индивидуальном предназначении лежат в плоскости религиозных и философских дискуссий. Ни те ни другие однозначного ответа не дают, формулируя выдвигаемые постулаты морально-этическими и нравственными категориями, предлагая идеалистическое взаимодействие с абстрактными богом, окружением и самого с собой. С точки зрения рационального прагматизма во главу угла при ответе на данные вопросы ставиться материальный и духовный баланс себя как личности, семьи и окружения в настоящем и будущем. Но зачастую духовное противостоит материальному.
§7. Так кто же Бог на самом деле? Во всяком случае, рассматривая историю естествознания, мы увидели роль Человека-Творца в созидании и эволюции научного знания, и как это знание впоследствии совершенствовалось, преобразовывалось и воплощалось. Так может Бог-Творец разместился в каждом из нас, воплотив свою жизнь? Ведь вследствие антропного принципа в отсутствие наблюдателя утрачивается смысл объекта наблюдения. Также и Творец без участия человека осмысленного и творящего не может быть. И если, поддерживая гипотезу творения, пространство-время с материей-энергией могли быть самосозданы в едином бесконечном цикле преобразования, то и Человек, как часть этого единого вселенского мироздания, также закономерно самосотворен и естественным образом является частью этого бесконечного целого.
§8. Можно ли всё привести к единому порядку? По нашему мнению, именно осознание единства в целом – есть путь к истине, а тварный и творящий характер этого пути – есть его основной принцип. Созидая и воплощая, человек приумножает Творение и сам становится Творцом. И такого Творца олицетворяют все люди. Плохо или хорошо данное творение – всё зависит от вклада каждого. Тщательный и скрупулёзный анализ такого качества в пределах одного взгляда невозможен, и одной теоремой строгие доказательства вряд ли получить, тем более в контексте текущей парадигмы. Но мы лишь попробуем экстраполировать полученное значение вступившего в реакцию эфира, разложив массу на творцов и необходимую для созидания материю, помноженную на осмысленную энергию действия в отношении к окружающему пространству. Конечно, вряд ли можно утверждать о достаточности переменных для подобной задачи. Но, с другой стороны, каждый частный случай может быть рассмотрен в рамках необходимого инструментария. Ведь в итоге любые такие отношения, их содержание и взаимное превращение выражены в информации. И, как показала наша история, даже ошибкам есть место в информации. Нам, созидая и включая новые свойства, необходимо такие ошибки исправлять, чтобы Творение обрело свою истинную форму и содержание.
6
Записанный первый стих Евангелия от Иоанна в раннем из известных оригиналов на греческом языке звучит следующим образом: [En archē̂i ē̂n lógos, kaì ho lógos ē̂n pròs tòn theòs, kaì theòs ē̂n ho lógos]. Канонический перевод на русский язык приведен здесь в эпиграфе. Вместе с тем, в результате семантического анализа текста выявлено несоответствие в переводе. В данном стихе трижды употребляется термин «[ho lógos]», который переведен на русский язык как «слово». Такой перевод, по всей видимости, осуществлен под влиянием герметической традиции (Гермес Трисмегист: Поймандр). При этом «[lógos]» является существительным мужского рода в именительном падеже и единственном числе. Данное понятие снабжено определённым артиклем «[ho]» мужского рода, также в именительном падеже и единственном числе. Древнегреческое слово «[lógos]» имеет следующие значения: слово, речь, мысль, смысл, разговор, изречение, высказывание, суждение, рассказ, повествование, предложение, предание, приказание, повеление, обещание, довод, положение, формулировка, учение, слава, слух, весть, известие, понятие, раздел сочинения, глава, книга, повод, предлог, причина, доказательство, намерение, разум, закон, основание, мера, значение, вес, отношение, соотношение, соответствие, счёт, исчисление, число, группа, категория, нравственная норма, первоначало, либо напрямую в русской транслитерации – логос. В русском языке понятие «слово» среднего рода. Слово – одна из основных структурных единиц языка, которая служит для именования предметов, их качеств и характеристик, их взаимодействий, а также именования мнимых и отвлечённых понятий, создаваемых человеческим воображением, и может быть сказанным или записанным. Используя значения перевода «логос» мужского рода, «смысл», как сущность явления в реальности, – наиболее подходящий конкретный и емкий термин, поскольку «разум» – субъективная способность мыслить, «разговор» – общение нескольких лиц, «довод» – аргумент в диалоге, изложении, «предлог» – побуждающий мотив, «повод» – обуславливающее событие, «вес» – удельное значение аргумента, «счёт» – определение количества или последовательное исчисление, «раздел сочинения» – часть некого произведения, а «закон» – записанное правило либо общепринятое утверждение. И Ветхий, и Новый Завет в синодальном переводе возводит «смысл» и в божественное, и в человеческое. Например: «Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит тебя над Израилем; и соблюди закон Господа, Бога твоего» (1Пар. 22:12); «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими» (2Пет. 3:1—2). В первом случае (1Пар.) «смысл» в значении оригинала на иврите «[sekhel]» подразумевает: образование, мозг/мозги, ум, здравый смысл, разум, рассудок, понимание, интеллект, благоразумие, интеллигентность, смекалка, смышлёность, сообразительность, соображение, мудрость, информация. Во втором случае (2Пет.) «смысл» в греческом оригинале «[dianoian]» имеет следующие значения: разум, разумение, сознание, мысль, мнение, взгляд, расположение, смысл, образ мыслей, помышление сердца, дух, замысел, намерение. Кроме того, слово «[theòs]» – Бог, дважды использованное в первом стихе Иоанна, в первом случае зафиксировано в винительном падеже вместе с определенным артиклем ([tòn]) как «[tòn theòs]». Перед ним имеется предлог « [pròs]», означающий «к», «по отношению к» (при обозначении направления; при обозначении лица или учреждения, к которому обращено действие, иногда без перевода; при обозначении отношения к кому-чему-либо); либо «для», «ради» (при обозначении действия, совершаемого в пользу или во вред кому-чему-либо). Здесь для винительного падежа слова « [theòs]» предлоги использовать затруднительно. Таким образом, может быть приобретено иное звучание: «В начале был Смысл, и Смысл был Бога, и Бог был Смысл».