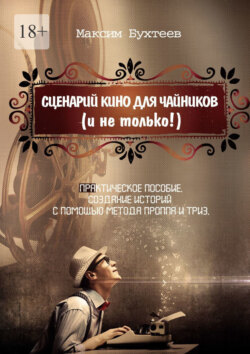Читать книгу Сценарий кино для чайников (и не только!) - Максим Николаевич Бухтеев - Страница 9
Принципы идей для кино
Человек
ОглавлениеСамое важное заключается в том, что первоначальная идея – искра, которая зажжет огонь вашего творчества.
Джеймс Н. Фрей. Как написать гениальный детектив,2005.
Я хочу начать с нескольких простых принципов, на которых строится любая хорошая история.
Первый из них – история должна быть про человека. Это кажется банальным, но слишком много хороших идей было загублено из-за такой ошибки, а потому я вынужден остановиться на этой проблеме подробно.
Люди, далёкие от кино, почти всегда путают тему фильма и саму историю.
Сценарист же, который и придумывает эту историю, так делать не должен, иначе ничего хорошего у него не выйдет.
То есть, нельзя написать сценарий «про войну», «о случае на рыбалке» или даже «про любовь». История всегда должна быть про человека, который «попал на войну», «пошёл на рыбалку» или «влюбился». Разница тут принципиальная. Ведь, по сути, первое – это лишь фон, тогда как второе – сюжет. И, как вы понимаете, фон не может быть важнее того, что стоит на первом плане.
Я пока не говорю о создании или глубокой проработке интересного персонажа – это мы обсудим позже. Речь сейчас идёт лишь о первом этапе обдумывания сценария. Важно начать это делать правильно. В сценарии пока нет ни единой строчки, нет даже самой идеи, но уже можно допустить фатальную ошибку.
Особенно часто она встречается в военных фильмах, где авторы стремятся как можно ярче изобразить эпохальные события, влияющие на весь мир. На фоне таких событий легко теряется судьба одного маленького человека. Однако именно она – самая важная для любого сценария.
Почему так? Разве может быть жизнь одного важней жизни миллионов? В сценарии – да! Потому что кино тоже будет смотреть человек. А он существо субъективное, то есть всё пропускает через себя, меряет всё по своей мерке, и лишь так в нём пробуждаются эмоции. В свою очередь, ради них и создаётся любая история.
Что бы при этом не хотел автор донести до зрителя (скажем, пусть мысль о героической борьбе всего народа), он всё равно должен это делать только через каждого конкретного человека. Иначе никак!
Конечно, можно фильм рассматривать как лекцию, где от слушателя требуются достаточно большие усилия. Но такой подход противоречит сути кино, которое есть развлечение, а не учёба. А в развлечении чем ярче зажглась эмоция, тем быстрей сообщение автора достигло адресата, тем эффективней автор достиг своей цели. А они при этом могут разными – не только коммерческими. Всё, что угодно, включая просвещение и политику, будет работать в кино только через эмоции.
Например, в начале своей карьеры я делал много документальных фильмов. Их темы были самыми разными и порой весьма сложными. Но, в любом случае, они всегда лучше раскрывались через историю какого-то конкретного героя. Этот приём всякий раз доказывал свою эффективность.
Если мы рассказываем про завод, то говорим, например, про его рабочего. Медицину в каком-то регионе можно рассматривать глазами врача и его пациентов. А какое-то эпохальное историческое событие всегда складывается из судеб его очевидцев и просто современников.
Почему человеку так важен другой человек? Дело в том, что люди, как и другие виды живых существ, связаны друг с другом самой природой. В мозгу человека есть специальные клетки, которые внимательно следят за тем, что делают другие люди и какие эмоции они при этом испытывают. Это часто происходит на подсознательном уровне. Так люди учатся чему-то, оценивают происходящее и совершают какие-то коллективные действия. Именно поэтому люди умеют сопереживать друг другу, перенося на себя эмоции окружающих. На таком механизме восприятия основано человеческое общество.
Подробней об этих процессах я говорю в своей книге «Монтаж для продюсеров и шоураннеров», но сейчас нам важно запомнить, что по богатству и глубине эмоций никакое грандиозное, но бездушное событие не сравнится с тем, что происходит, когда люди взаимодействуют друг с другом.
Взять хотя бы знаменитый фильм «Титаник» (Titanic, 1997) Джеймса Кэмерона. В нём множество эффектных сцен гибели корабля, что часто сбивает с толку начинающих авторов, которые не видят «мотора» истории. Действительно, на создание потрясающих сцен катастрофы была потрачена масса усилий и ресурсов, однако, с точки зрения истории, они второстепенны. Это лишь фон для основного сюжета.
Джеймс Кэмерон презентовал свой сценарий продюсерам студии как «Ромео и Джульетта на корабле». А позже он так говорил о своём фильме:
«Все мои фильмы – истории любви. Титаник – не фильм-катастрофа. Это любовная история на фоне исторического события. И когда любовь Джека и Роуз будет разрушена – зритель будет оплакивать её как реальную трагедию».
Кто-то сейчас может спросить меня: «Постойте! А как же масса хороших историй о каких-то животных, вещах или даже абстрактных понятиях?»
Но посмотрите на эти сюжеты внимательней и вы увидите, что хорошими они стали лишь тогда, когда их героев очеловечили, то есть, сделали похожими на человека и наделили качествами живых людей. Особенно хорошо это заметно в анимации. В «Истории игрушек» (Toy Story, 1995) игрушки ревнуют и дружат, а в мультфильме «Головоломка» (Inside Out, 2015) эмоции в виде маленьких человечков сначала ссорятся друг с другом, а потом мирятся и работают сообща.
Чтобы лучше понять и запомнить этот принцип, я сам для себя назвал его «принципом Андерсена». У меня в памяти ярко отпечатались сказки Ханса Кристиана Андерсена, которые я читал в детстве. Этот датский писатель часто писал о разных бытовых предметах, которые вели себя как люди.
Советские авангардисты в своё время проводили массу творческих экспериментов. Они пытались уйти от многих принципов «буржуазного кино», включая и тот, про который мы сейчас говорим.
Например, Сергей Эйзенштейн долгое время продвигал идею о том, что не отдельный человек должен быть героем нового кино, а некая «революционная масса». Дескать, только она достойна этой роли, так как лишь народ меняет ход истории, а вклад отдельного человека ничтожен. Эта идея хорошо заметна, например, в его фильмах «Октябрь» (1927) или «Броненосец Потёмкин» (1925). В них трудно выделить каких-то конкретных персонажей, они лишь ненадолго возникают на экране и тут же пропадают, не будучи удостоены самостоятельного сюжета. Так – эпизоды и не более.
И при всём уважении к творческому наследию авангардистов стоит признать, что они ошибались. По кассовым сборам тех лет новаторские киноленты проигрывали «старорежимным» фильмам, которые ещё долго были в прокате или просачивались нелегально из-за границы. Дело в том, что никто не будет искренне сочувствовать «революционным массам». Толпа скорее испугает, чем заставит сопереживать. Человек растворяется в ней и теряет свою суть, становясь частью чего-то большего и стихийного. И что хорошо, например, для массовых мероприятий типа рок-концертов, то совершенно не подходит для кино. Это понял ещё сам Эйзенштейн. Когда у него возникла нужда достучаться до массового зрителя, он отбросил свои новаторские приёмы и сделал, например, фильм «Александр Невский» (1938), в центре которого был отдельный человек, его личность и судьба.
Один из профессиональных методов всех сценаристов заключается в том, что человек делается не только главным героем, но и, например, главным злодеем. Логика здесь точно такая же – зрителю интересней и понятней конфликт между двумя людьми, нежели между героем и стихией, абстрактным понятием или каким-то загадочным монстром. Человек будет лучше сопереживать ситуации на экране, если все сюжетные факторы будут иметь свой образ в виде конкретных людей.
Распознавание лиц и эмоций на них настолько важно для всего человеческого вида, что в мозгу сформировалась отдельная область для этого процесса. Учёные проводили эксперименты, в ходе которых выяснили, что до определённого возраста дети умеют распознавать «лица» животных, но потом они утрачивают эту способность ради более точного определения лиц людей. Лица – это очень важно! Опытные сценаристы кино знают об этом, а потому стараются очеловечить вообще всё, что есть в их сценариях.
Возьмём, к примеру, фильм «Челюсти» (Jaws, 1975). Это история о противостоянии человека с акулой-людоедом. Казалось бы, всё просто – вот человек, а вот акула. Но кроме них в сценарии есть персонаж, который выступает как бы на стороне акулы. Мэр острова словно представляет её интересы. Он спорит с героем и отказывается закрыть пляжи, что приводит к новым жертвам.
В фильме «Поезд в Пусан» (Busanhaeng, 2016) люди противостоят зомби в движущемся поезде. Но что интересно: кроме живых мертвецов, главным героям мешают и другие пассажиры. По разным личным мотивам они невольно играют на стороне зомби и даже помогают им. Тем самым основной сюжет приобретает особую остроту.
С точки зрения эмоций, в поединке человека и чудовища всё довольно очевидно. Понятно, за кого и как будет болеть зритель. Эта предсказуемость – прямой путь к скуке. А вот противостояние человека с человеком – совсем другое дело. Тогда у противника героя появляются свои мысли, чувства и мотивы. Следить за ними гораздо интересней, чем за действиями бездушного монстра.
Ещё более яркий пример такого приёма можно найти в фильме «Матрица» (The Matrix, 1999). Основной злодей там – искусственный интеллект, поработивший сознание людей. По сути, главный герой борется с компьютером, который создаёт себе помощников – агентов. Строго говоря, в этой войне Агент Смит – совершенно лишний персонаж. С определённой точки зрения, всё его противодействие герою выглядит глупо и комично – мы все прекрасно знаем, что компьютерная программа не борется с вирусами в системе с помощью кунг-фу и пистолетов. Однако я ещё не встречал жалоб от зрителей на такой сценарный ход. Мало того, Агент Смит стал одним из главных украшений всей серии, а образ безжалостного агента Матрицы прочно прилип к актёру Хьюго Уивингу.
Мало кому бы понравилось смотреть на реальное состязание программистов, поэтому лучше представить его в виде классической рукопашной схватки!
Такой приём часто применяется даже в тех фильмах, где герой противостоит какой-то глобальной катастрофе. Казалось бы, кто из персонажей в здравом уме может быть за гибель всего человечества?
В таких случаях хитрые сценаристы вводят какую-то дополнительную сюжетную линию, где есть некто, кто может мешать герою. Генералы обычно предлагают сбросить атомную бомбу, политики скрывают от народа правду, а учёные изобретают лекарство, которое хуже самой болезни.
В фильме «Эпидемия» (Outbreak, 1995) рассказывается довольно длинная история о том, как смертельный вирус через ряд случайных событий попадает из Африки в США. Однако кульминацией сюжета является конфликт вирусолога с генералом. Военный сначала пытается скрыть информацию об эпидемии, а потом решает уничтожить заболевших с помощью бомбардировки.
В сериале «Чернобыль» (Chernobyl, 2019) авторы ставили себе задачу рассказать о реальной катастрофе на атомной станции. Они очень долго изучали разные источники и тщательно готовились к написанию сценария. Точность в деталях и фактах – одно из неоспоримых достоинств сериала. Вершина подобного подхода – сцена на суде, где рассказывается о цепочке физических процессов в реакторе, приведших к взрыву. Думаю, эта сцена войдёт в учебники как эталон историй такого типа.
Однако, по сути, сценарий драмы строится на человеческих историях, где всегда есть две стороны. Понятно, что никто из персонажей не хочет, чтобы произошёл взрыв и погибли люди. Никто прямо не выступает на стороне зла. Но вот один персонаж выгораживает себя, другой защищает честь мундира, третьему просто всё равно и так далее. Каждый раз в очередной сцене авторы находят почву для какого-то конфликта. Иногда он очевиден, а иногда нет. Иногда он успешно разрешается, а иногда хорошего варианта просто не существует. Сериал о техногенной катастрофе, но катастрофа имеет множество лиц, с каждым из которых ведут свою борьбу положительные персонажи.
Можно применить приём, когда второстепенная сюжетная линия иллюстрирует какую-то альтернативу для героя. Важно, чтобы эта альтернатива тоже имела своё воплощение в каком-то персонаже. Это эффектный ход, помогающий автору точнее донести свою мысль до зрителя. Скажем, герой спасает всех, а другой персонаж думает лишь о себе. Ну, или наоборот, герой – типичный неудачник, завидующий успешному другу.
Дескать, можно пойти налево, тогда всё будет, как с персонажем А, а можно пойти направо, тогда будет, как с персонажем Б.
Подобный метод хорошо виден в фильмах «Безумный Макс» (Mad Max: Fury Road, 2015) и «Белое солнце пустыни» (1969). В этих историях ситуация, вроде бы, однозначная – есть явный злодей, который творит несправедливость. Но на ситуацию можно посмотреть по-разному, что и выражается в противоположных точках зрения положительных персонажей. Все понимают, что Абдула – бандит – тут нет споров. Однако активная позиция красноармейца Сухова отличается от мнения бывшего царского офицера Верещагина. Один защищает чужих жён от бывшего мужа, а второй хочет сохранить нейтралитет.
Также и Фуриоса с Максом вместе сражаются против Несмертного Джо, однако Фуриоса хочет спасти женщин, тогда как Макс желает лишь сбежать от врагов.
Легко заметить, что в обоих фильмах сценаристы могли бы обойтись без этого противопоставления – основной сюжет работал бы и так. Однако понятно, что сценарий стал бы значительно хуже. Сложность морального выбора для героя лучше выражать через образ и позицию другого человека. Неопытные сценаристы, которые не умеют пользоваться таким приёмом, часто портят свои сценарии, заставляя героя просто проговаривать в кадре свои мысли.
Но к этой проблеме мы ещё потом не раз вернёмся.
Конечно, всё это работает не только в эпичных и дорогих боевиках.
Предположим, мы хотим рассказать историю о девушке Маше, которая ищет свою любовь. И вот она думает насчёт секса на первом свидании – быть ли не быть? Теоретические размышления будут выглядеть слабо, если не иллюстрировать их человеком. Пусть у нашей героини будет подруга, которая поступит не так, как Маша. Тогда зритель увидит, что будет в обоих случаях, и сравнит результат. Это может быть интересно. Например, на подобных приёмах построен сериал «Секс в большом городе» (Sex and the City, 1998). Там четыре подруги в одних и тех же ситуациях ведут себя по-разному. Согласитесь, сериал стал бы намного хуже, если бы зритель видел подход к сексу и отношениям только с одной точки зрения!
Принцип «человечности» истории особенно верен сейчас, когда кино всё больше уходит из кинозала на малый экран. Эффект коллективного просмотра, который немного роднил киносеанс с массовым мероприятием, снижает свою эффективность. Чем меньше и мобильней экран, тем важней в нём история человека и тем больше теряет значение даже такой важный элемент кино, как его зрелищность. Когда зритель остаётся с экраном один на один, из всех компонентов фильма на первый план выходит именно сценарий.