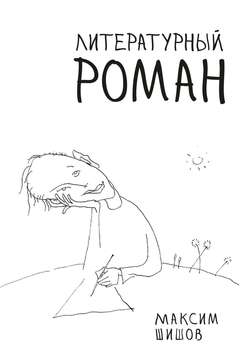Читать книгу Литературный роман - Максим Шишов - Страница 36
Глава 4
ОглавлениеМы шли к Дорошевичу, у которого собирался литературный народ.
Было пасмурно. Утром прошел дождь, и лужи, следуя неизменной привычке начинать с крыш, выставили на продажу дома с тем особенным безразличием, которое возникает от длительного коммерческого неуспеха. Мы шли не торопясь, заходя во все книжные магазины, нигде ничего не покупая. Мимо парка, где катали на лошадях. Мимо площади и фонтана в газовой юбке, со свешивающейся набок струей. Почему-то хотелось спать.
Может быть, я просто нервничал.
Проезжая мимо, машины оставляли на асфальте рифленые следы.
Мне кажется теперь, что всю дорогу мы прошли молча, но такого просто не могло быть, а значит, мы говорили, и я даже, может быть, больше, чем следовало.
Пантограф трамвая, с того места, откуда он был виден, напоминал скелет, сцепивший руки над проводом. Было душно. Пахло чебуреками и землей. От башни с золотисто-коричневой чешуей на куполе мы повернули вниз.
Спустя полгода по этой же улице будет возвращаться герой так и не написанного мной романа. Всякий раз фонарь будет раскладывать его тень надвое: заднюю – маленькую и плотную, которая, нырнув под ногами, будет выскакивать спереди, удлиняться и бледнеть, пока не сольется с первой, зыбкой, почти невидимой. Они будут вертеться вокруг него как часовые стрелки. Я напишу об этом через два месяца, когда растает снег, по которому он шел, а тот, что останется, не будет перламутровым.
В лифте мы поднялись на шестой этаж.
Дверь отошла нам навстречу, открывая полумрак и висевшую в нем фигуру.
– Гена дома? – спросил Андрей. Слова заходили волнами, чуть-чуть рассеяли полумрак. Женщина в белой ночной рубашке не ответила. Темнота проглотила ее ноги, бока, лицо – последним исчез белый нимб, словно кто-то задул одуванчик.
Мы остались одни. Стало слышно, как плачет ребенок. На стене висела клеенка с утятами, на клеенке велосипед с одним колесом. Стояла сбоку стиральная машина, вроде бы ржавая, тазик с пачкой стирального порошка и щипцами. На вешалке с крюками висели пальто и тулуп, несколько курток горой были свалены на тумбу. Пахло чем-то сладковато-соленым.
Мы двинулись по невероятно длинному, забитому мебелью коридору. Вдоль мешков. Комода. Компьютера. С шапкой на мониторе. Вдоль трюмо с нашими двойниками. Мимо комнаты, где скрылась женщина, где плакал ребенок. Дальше в совершеннейший мрак. Коридор изгибался, отсвечивал латунными ручками. Ковер кончился. Под ногой оказалось что-то склизкое и мокрое, наверное половая тряпка. От неожиданности я налетел на Андрея, он делал что-то с мягкой темнотой, постукивал, шуршал, бубнил…
Сквозь напечатанную скобку потек мутный свет. Желтая скобка стала толще, превратилась в проем.
Забубнило громче и затихло. Горело шесть свечей. Над ними лицо, под ними листы. По краям комнаты угадывались люди.
– Идите сюда, – раздался голос. Мы пошли. Метнулись чьи-то ноги.
– Извините, – глухо сказал Андрей.
– Садитесь, – рука подпрыгнула, указывая вниз. Пустота обернулась креслами.
В наступившей тишине беззвучно скатилась парафиновая капля – свеча откладывала икру.
– …И не было больше домов и улиц, мостов и вокзалов, – затянул новый голос. – Земля и небо исчезли. Не было ничего – огромное белое пространство растворило в себе Город. Оно пеленало его, оно заботилось о нем, оно пело ему песни – странные колыбельные, которые невозможно было отличить, в которых не повторялся ни один звук. И Город слушал.
Сто лет он отвоевывал себе место. Осушал болота. Уводил под землю реки. Он выедал лес, и на месте леса вырастали дома. На карте было видно, как спокойное зеленое поле режет ломаная линия – граница Города. На карте она была по-прежнему. А в действительности нет.
Окна почти ослепли от снега. Ветер гнал его волнами: бросал вверх, вниз, выгибал стеной – деревья стонали от этих жестоких выходок. В первый день машины сражались со снегом. Бульдозеры наворотили целые горы. Самосвалы не успевали их вывозить. Ночью еще можно было видеть, как расплываются шарами фары, как несется к ним и сгорает искрами снег. Днем еще ездили грузовики. Но к вечеру движение прекратилось.
Двери подъездов приходилось держать открытыми. Снежные горбы, как собаки, ложились на порог. Каждые два часа их прогоняли. Но каждый раз они возвращались. И Город стал отступать.
Закрывались маленькие магазины. Люди не могли добраться до работы. Снег поднялся сначала на тридцать, потом на сорок, а потом на восемьдесят сантиметров. По улицам невозможно стало ходить. Невозможно было копать траншеи, снег был как живой – колючая взвесь между землей и небом, текучий, как песок…
Голос читал дальше, а пламя волновалось, не зная, видимо, как поступить. Стараясь успокоиться, оно шевелило чтецу брови. Это не помогало, и оно устроило безмолвное совещание, где каждый звук был предметом спора и тени то склонялись друг к другу, то отшатывались и не могли никак прийти к согласию. Теперь, когда глаза привыкли к темноте, я мог разглядеть человека, обхватившего руками колено, почти невидимого. Девушку рядом с ним с волосами пронзительно-медного оттенка. Очки рядом с девушкой. Как стеклянные брови.
– Город стоял по колено в снегу. Но мог идти, куда хотел. Исчезли препятствия: реки, овраги, озера – все то, что не пускало его, сгинуло. Но, зачарованный, он стоял неподвижно, слушал странные песни, на которые только теперь обратил внимание. Они были похожи как две капли воды, они никогда не повторялись, их можно было слушать и слушать, но невозможно было запомнить. А услышав раз, хотелось, чтобы они звучали вечно.
Твердь исчезала – снег мело сверху, снег мело снизу. Город обращался в кокон, терял к окружающему всякий интерес. В редких окнах плавал слабый свет. Электричества не было. Там горели свечи. Там сбились люди. Там ходил по стенам страх. А в темных окнах не было страха. Там слушали песни. Глядели прозрачными глазами, в которых засел снежинкой Город. Не тот, который вырезал себя на карте, не тот, который зазывал туристов и торговал кока-колой под бело-красными зонтиками, теперь это был Город-призрак. С зыбкими домами, с неясными улицами – между тьмой и светом, между землей и небом, он был и не был, и был, и не был – пела вьюга.
Да пела ли? Или это только примерещилось? И никаких призраков не было?
Не было призраков, только ходили тени, только у девушки с медными волосами гнулась в глазах оранжевая проволока.
Мы шли обратно. Глухое августовское небо, казалось, предвещало метель. Мокрые дома – темнее обычного. Мокрые улицы, на которых не оставалось следов от колес.
Но как удалось этому человеку заколдовать целый город? Сидел себе дома, забросив ногу на ногу, покачивал дырявым тапком, лепил слово к слову. Одно за другим. Как машина сосисочную гирлянду. Надоедало. Выходил на балкон, закуривал сигарету. Сплевывал. Слепой ноготь припадал к тапочной дырке, слова брались за руки и бежали по страницам. Вот так, играясь, между сигареткой и чаем похоронил целый город.
Это был странный мир, мир хабаровской литературы, тоже ставший для меня призрачным. Иногда, впрочем, прогуливаясь недалеко от Амура, я чувствую тень его вторжения. Он словно сосуществует рядом с нашей действительностью, то и дело врываясь в нее…
…Невнятное мерцание на излете сетчатки или долетевший звук обнаруживают его неявное присутствие.
И еще воспоминания.
За правдоподобность которых уже нельзя поручиться.
Я помню летнее открытое кафе напротив Дома быта (сейчас дом перестроили и кафе того нет и в помине). Помню густеющий вечерний воздух, липы, грохочущие мимо трамваи и разношерстную компанию за столиками. С пивом, фисташками, сигаретами…
«Невское» пить как бордо,
Глотать фисташками устрицы…
Только оно западло —
Жить как герои Кустурицы.
И кажется, авторы этому – бессмертные основатели идфутуризма Женечка Савросин и Арт Телемшеев.
Здесь и произошло мое первое знакомство с миром хабаровской литературы, когда Андрей ввел меня в круг людей нервных и своеобразных. Слушая незнакомые имена, названия книг и эти кинжальные «вы читали? вы читали?», я испытал странное чувство, будто откуда-то с чердака достали пыльную шкатулку, открыли, а в ней миниатюрный Серебряный век – повернешь ключик, и Ахматова начнет читать стихи, и Гумилев схватится за игрушечную голову…
Да и было ли это все? Или это сон?
В «Гарцующем Пегасе», так называлось между своими кафе, всегда было шумно. Бренькала гитара, колыхался сигаретный дым и стихи, гам и хохот царили вокруг. Ольга Петровна благоволила этому хаосу. Рядом с кассой лежала пачка бумаги и карандаши. Подвыпившие художники рисовали шаржи, подвыпившие поэты писали стихи. Под утро Ольга Петровна собирала разбросанные рисунки, разглаживала и вывешивала на стойке. Выкраденные у времени лица со следами меню сопровождали наши веселые попойки.
Бутылки с пивом батареями выстраивались на столах. Полз и складывался сигаретный дым. Стойка горела как корабль в ночи. Огни сверху. Огни снизу. Вставив в рот карандаш, сидел совершенно пьяный Кац – в стеклянных глазах колыхалось огненное море.
«А вы знаете, ребята, что Малевича творенье
Провисело вверх ногами все двадцатое столетье?»
Но в затылок дышали «Любители шнапса» и «Бабы обе» – дуэт Алисы Ремар и Анны Трубецкой (реминисценция хлебниковского «Бобэоби»). Поднимал голову Котов, и никому неизвестный еще Евгений Кузнецов дописывал «Опереточные ноктюрны». Через год к неудовольствию своего уже известного мужа неспешно вступит на олимп Катерина Кузнецова. Ее аукающая поэзия будет долго полоскаться в альманахах:
«Замирала тоска.
Упокоиться где бы?
Оступилась слегка,
Расплескала полнеба».
Ей будут подражать, большей частью безуспешно.
Владимир Котеночкин – восторженный малый, всегда готовый читать стихи, свои ли, чужие – ему было неважно; и тех, и других у него было вдосталь. Был он хорош собой, с прекрасной вьющейся шевелюрой, перстнем на пальце и жизнерадостным, никогда не покидающим щек румянцем.
Котеночкин был знаменит тем, что сам оформлял свои книжки. Он все делал сам. Вырезал что-то из цветной бумаги и клеил. Рисовал картинки. Писал от руки стихи. Почерк, кстати, был у него прекрасный, и книжки получались очень милыми, своей сорочьей пестротой напоминая былые девичьи альбомы. Но человек он был милый, простодушный, искренне считал себя философом и поэтом, и без него немыслимы были наши гулянки.
Заглядывал под тент Хруль – таким же в точности он вышел на своей классической фотографии, открывающей знаменитый трехтомник. Меланхоличное лицо, клок шелковистых волос на лбу и неровный пароходный нос. Он появлялся в сумерках с одной из своих обожательниц. Никто не помнил их имен, да в этом не было необходимости, бессловесные весталки сменяли друг друга с ритуальной последовательностью. Они охраняли длиннокурого бога с золотым локоном, но смеркалось, бог обращался в тень – только кроссовки двумя сугробиками светились под столом. Автор строчки:
«Мне в жизни немного осталось:
спасение, смерть и причастье», —
не хотел выпускать славу, но она выкатилась из рук. Он хотел повеситься, но, написав об этом несколько стихотворений, тему исчерпал. Стал пить, называя почему-то водку абсентом. Это на него ходила эпиграмма:
«Водку путает с абсентом,
Бархат путает с брезентом».
Или что-то в этом роде.
И стоял до утра бедлам. Мелькал фартук Любочки – неутомимой помощницы Ольги Петровны.
«Ленточка в косе-е…
Кто не знает Любочку?
Любу знают все-е!»
У стойки, сбоку от кассы…
– Мне тут удобно, да и светлее, не беспокойтесь, ради бога…
Изогнувшись вопросительным знаком, сжался Анатолий Резик. Он писал, писал всю ночь напролет. Ручка петляла, неслась зигзагами, проваливались строчки, взвивались вверх, хаос, хаос, хаос… И при этом ровные громадные поля. На одном женское лицо с отвалившимися губами. На другом рак с человеческими глазами.
– Господи, что за пакость вы рисуете? – Ольга Петровна морщится.
– Вам не нравится? – и упавшим голосом: – Так ведь одиноко ему там, на дне, плохо… И плакать нельзя. Как в воде плакать?
– Кому плохо?
– Да вот же, Ракужнику.
Ракужник – странное слово.
И снова прерывистый шепот:
– А вы посмотрите, у него и хвостик как у ужа…
Взрыв хохота сминает фразу. Анатолий Васильевич втягивает голову в плечи:
– Ах, что это я. – Маленькая лапка царапает стойку.
Ракужник. Туман.
«А-я-яй, девчонка, где взяла такие ножки?»
Где? Ну где?
На полу шуршали пакеты из-под чипсов и орешков. Жестяные внутренности отражали свет. И под гитару простуженный голос уводил в ночь уже пьяные слова.
Люба сбрасывала со столов скорлупу. Неулыбающийся Стогов на листке блокнота набрасывал шарж на Катю Кузнецову – римский профиль, задумчивый взгляд. Алиса Ремар и Анна Трубецкая, укутавшись одной шалью, передавали друг другу сигарету. В углу спал Котов.
Когда ночь приподнималась над городом и серый воздух начинал сочиться сквозь ограду, выступали дома, трамвайные рельсы, груды мусора на столах. Ненужный свет раздражал глаза. Было холодно. Резвым аллюром летел я к Амурскому бульвару, и вслед неслись неуместные слова:
«На том и этом свете буду вспоминать я,
Как упоительны в России вечера…»
– Даже не знаю, почему я об этом заговорил… Все это так давно было. Не знаю. Просто парадоксальным образом этот мир меня не отпускает. То есть, нет-нет, а вспомню… Начинаю расспрашивать, знаешь, так, невзначай… интерес зрителя, не больше. Я бы не хотел снова там оказаться. Совсем не хотел. Да и зачем? Все эти люди очень странные – изломанное, манерное поведение. Смотреть на них интересно, как интересно ходить по кунсткамере, но жить среди них, – покачиваю головой и улыбаюсь.
Часы показывают без двадцати минут семь. Через десять минут наша встреча закончится.
– Не знаю, в чем тут дело, но мне кажется, – пристально вглядываюсь в шкаф, – мне кажется, пока я не разберусь с этими призраками, я не смогу писать. Понимаешь, во всем этом безумии было что-то настоящее… Как объяснить? Они могли быть очень странными, да, но при этом и очень настоящими. Эти люди на полном серьезе могли обсуждать, чьи стихи лучше: Котова или Бродского? Они спорили, приводили доводы, и это была не игра, совсем не игра! Они действительно чувствовали себя сопричастными бессмертной литературе. Они все как на подбор были гении, это могло раздражать, веселить, ты мог чувствовать себя среди них как в сумасшедшем доме, но в искренности им нельзя было отказать. В этом-то все дело, – довольный, я откидываюсь на спинку дивана.
– И какое отношение это все имеет к тебе? – спрашивает мой психотерапевт.
– Ко мне? – я вновь наклоняюсь вперед. – Ко мне… Наверное, именно это время кажется мне самым реальным. Кроме детства, конечно. Я плохо помню его, но оно наполнено смыслом. Все эти бестолковые разговоры и странные люди значат для меня больше, чем… ну, не знаю, сегодняшняя жизнь, что ли… Я хочу писать, я даже начал делать наброски… не знаю еще, насколько это все… Словом, я все время возвращаюсь к этой теме… Вспоминаю этих людей. Разговоры. Но, знаешь, так неясно. Какую-то тенистую улицу, какой-то кирпичный дом – я уже и не помню толком, что там было… Почему я к этому возвращаюсь?
Я замолкаю, молчит и замерший в ожидании психотерапевт.
– Хорошо, – наконец прерывает он молчание, – давай на сегодня закончим. Ты упомянул, что жизнь стала казаться менее настоящей, давай ты подумаешь на эту тему, хорошо?
Я киваю и тянусь за бумажником.
Он собирается и идет прогревать машину. Я прохожу по остальным помещениям, выключаю свет, компьютеры, закрываю офис.
Я здесь сейчас работаю.