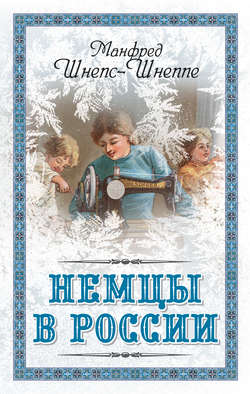Читать книгу Немцы в России. Мятежный род Баллодов между немцами, евреями и русскими - Манфред Шнепс-Шнеппе - Страница 4
Лекция 1
О культурном наследии Российской империи и текущих делах
1.2. Россия, по Гердеру, модель для человечества
ОглавлениеФилософ И. Г. Гердер
Иоганн Готфрид Гердер ((Johann Gottfried Herder, 1744–1803) – удивительная личность. Личность уникальная даже в богатейшей палитре немецкой культуры, выделяясь и в среде великих современников Гете и Канта. Долгое время Гердера связывала тесная дружба с Гете, и многие считают, что именно Гердер явился прообразом Фауста. Но к концу жизни дружба переросла в едва скрываемую вражду. С Кантом он сблизился, учась на богословском факультете Кенигсбергского университета, был его любимым студентом, но стал, в конечном счете, одним из самых радикальных критиков основателя «критической философии». И не дух противоречия двигал Гердером. Если вникнуть в суть тех споров, то видно, что их расхождения были принципиальными. Гердер боролся за свою основную идею – идею безусловной ценности самобытных национальных культур, и с Гете он разошелся тогда, когда тот стал подчеркивать исключительную ценность эллинской культуры. Еще интереснее первоисточник его разногласий с Кантом: великий немецкий философ утверждал, что решающее значение имеют различия расовые, а не национальные. Этот принципиальный тезис антропологии Канта, кстати, и до сих пор предпочитают замалчивать. Тем более что через полтора столетия расовое учение привело к гибели германское государство – Третий рейх.
Иоганн Гердер – крупнейший из представителей немецкой культуры, связанный с Ригой: его именем названа площадь в Старом городе, поставлен памятник рядом с Домским собором
Гердер родился в семье бедного школьного учителя в Восточной Пруссии и после учебы, дабы избежать рекрутчины, подался в Ригу, где занял место преподавателя в школе Домского собора. В Риге Гердер провел пять лет, затем многократно ее посещал. В Риге Гердер печатал свои основные философские сочинения: монументальный четырехтомный труд «Идеи к философии истории человечества» (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, Riga, 1784–1791), «Письма для споспешествования гуманности» (Briefe zur Beförderung der Humanität, Riga, 1793–1797).
Как развивалась европейская культура
По Гердеру, ключевую роль в формировании европейской культуры сыграли города, городские цеха (гильдии) и университеты. Эти рассуждения актуальны и сегодня – в условиях модернизации России. Приведем фрагменты из российского издания основной книги И. Г. Гердера[3]:
Русский перевод (Наука, 1977) книги Johann Gottfried Herder «Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit», в 4-х томах издана в Риге, 1784—1791
«Города Европы стали как бы военными лагерями культуры, горнилом трудолюбия, началом нового лучшего хозяйственного строя, без которого земля эта до сих пор оставалась бы невозделанной пустыней. Во всех городах бывших римских владений в той или иной степени сохранились римские искусства и ремесла; в тех краях, которыми Рим не владел, города стали бастионами, отразившими натиск варваров, – убежищем для людей, торговли, искусства, промыслов.
В городских стенах, на малом пространстве теснились все, что только могли пробудить, создать прилежание, находчивость, гражданская свобода, хозяйство, порядок, нравственность; законы некоторых городов – это подлинные образцы бюргерской мудрости. Города расположены были в Германии и в Нидерландах, в северных государствах, в Польше, Пруссии, России, Ливонии, над ними царил Любек; крупнейшие центры торговли в Англии, Франции, Португалии, Испании и Италии примкнули к союзу городов – самому деятельному, какой когда-либо существовал на свете. И этот союз превратил Европу в единую общность, скрепил ее сильнее всех крестовых походов и римских церемоний; ибо союз этот поднялся над религиозными и национальными различиями и основан был на взаимной пользе, соревновании в труде, на честности и порядке. Города совершили то, чего не хотели и не могли совершить государи, священники, дворяне, – они создали солидарно трудящуюся Европу.
Городские цеха были обузой для начальства, а нередко и для самого развивающегося искусства, однако в те времена такие маленькие общины, слитые в органическое единство тела, были совершенно необходимы; благодаря им честное ремесло могло существовать, умение росло, а художник ценился по достоинству. Благодаря им Европа стала перерабатывать материалы, поставляемые целым светом, и эта часть света, самая маленькая и бедная, взяла верх над всеми остальными частями света. Трудолюбию цехов обязана Европа тем, что из льна и шерсти, шелка и пеньки, щетины и кожи, из глины и клея, из камней, металлов, растений, соков и красок, из соли, пепла, тряпок, мусора и грязи стали получаться чудеса, и чудеса эти служили средством для создания других чудес – так будет всегда. История изобретений – это лучшая похвала человеческому духу; цехи и гильдии были школами, в которых воспитывался дух изобретательства: разделение труда между ремеслами, правильно построенное обучение, даже и конкуренция между цехами, и сама бедность производили на свет вещи, о которых не имели и представления правители и начальники, редко покровительствовавшие ремеслам, редко вознаграждавшие труд и почти никогда не пробуждавшие в людях рвение и прилежание.
Университеты были учеными городами и цехами, как городские коммуны они наделены были всеми правами цехов и городов и делили с ними все заслуги. Как политические организмы – не как школы – сбивали они спесь с дворян, поддерживали государей в борьбе с притязаниями пап, и не одному только клиру, как прежде, но целому особому ученому сословию открыт был путь к государственным должностям и рыцарским почестям. Верно, никогда ученых не уважали так, как во времена, когда только занималась заря знаний, – люди увидели всю несомненную ценность блага, которое презирали они столь долго, а если одна сторона боялась света, то другая с тем большей радостью встречала разгоравшуюся зарю. Университеты были крепостями, бастионами науки, они были направлены против воинствующего варварства – церковного деспотизма».
Философ с гордостью говорит о Германии: «Следует, прежде всего, почтить прах императора Фридриха II – за ним, помимо всех остальных его заслуг, числится еще и та заслуга, что он вдохнул жизнь в тогдашние университеты, которые с тех пор все развивались и развивались, по образцу Парижской школы. И эти учебные заведения превратили Германию в центр Европы; все арсеналы и склады наук обрели в Германии устойчивость, прочность, при величайшем внутреннем богатстве».
Восхищение Россией
Особый интерес представляют взгляды Гердера на Россию[4]. И восторженные слова о России он писал в зрелом возрасте, на исходе жизни. Правда, было это в условиях дряхления Священной римской империи германской нации, с одной стороны, и расширяющейся молодой Российской империи – с другой.
Гердер отмечал черты духовного декаданса на Западе задолго до своего великого ученика и последователя Гете. Во-первых, он отметил «особость» русских, их отличие от Запада как народа «восточного». Гердер характеризует русских чрезвычайно лестно (хотя речь идет о времени до появления на русской культурной сцене Державина, Жуковского, Пушкина), отмечая при этом русскую умственную подвижность, гениальную восприимчивость, широту охвата, талантливость, живость, отзывчивость, природное дружелюбие, твердость, упорство, а также несомненную внутреннюю противоречивость, излишнюю податливость внешним впечатлениям[5].
Во-вторых, Гердер увидел в России то необходимое дополнение Западу, которое, как он надеялся, совместит рационализм и сердечность, энергию и эмоциональность, твердость воли и отзывчивость души. Гердер увидел в русских носителей высокой гуманности, чуткой совести, самоотверженного человеколюбия. Он предупреждал русских от втягивания во внутренние дрязги Запада, призывал их сохранить свою особенность и оригинальность.
Прибалтийское пространство Гердер рассматривал как сферу культурного общения и тем стал предтечей германского и славянского национализма. В 1789 году в статье, которую он написал во время своего путешествия из Лифляндии в Нант, Гердер утверждал, что Европа стареет, идет к упадку, что она истощила свой потенциал. В противоположность Европе Россия имеет преимущества и возможности. По мнению Гердера, с Россией надо работать, чтобы сделать из нее модель развития для остального человечества.
Особенное восхищение Россией сквозит в эссе Гердера «Петр Великий». Эссе впервые было напечатано в журнале «Адрастея» (Adrastea, Bd. 3, 1802. № 1), который Гердер начал издавать в 1801 году, незадолго до смерти, последовавшей в 1803 году. Приведем выдержки из эссе Гердера[6]:
«Если какой-либо монарх и заслуживает имя Великого, то это Петр Алексеевич; и, однако, как мало говорит это имя! Само по себе оно относительно, ограничено нашим взглядом на то, что выше или ниже; а в конечном счете, оно теряется среди величин бесконечно больших и бесконечно малых. Характеристических свойств личности это имя не передает. Русские монархи называют себя самодержцами; Петр же был не только самодержцем, но также и самоустроителем и домо-держцем своего Царства. Он был везде и во всем деятельным гением, который предписывал и творил, направлял и побуждал, вознаграждал и наказывал – повсюду в неустанном порыве он сам; никогда через него не действовал кто-то другой. Этот порыв, эта сила гения обнаруживает себя в его самых малых и самых больших начинаниях – обнаруживает в сочетании с умом, решительностью, а также справедливостью и человечностью, которые быстро возвращались к нему после приступов дикого гнева.
Очень быстро, уже при осаде Азова, он понял, как недостает его царству людей, владеющих умениями и ремеслами, которые необходимы как на море, так и на суше; отныне и до конца жизни это составило его главную заботу… и не отвергал без испытания ни одну новую идею. Он сам взялся за учение и предпринял два путешествия через Германию в Голландию, Францию и Англию, примечал все полезное, что встречалось ему в самых маленьких и самых больших городах.
Не зная усталости, он вел записи и делал зарисовки, знакомился с различными ремеслами и искусствами, приглашал лучших умельцев в свою Россию, в свой Петербург, – и ко всему стремился приложить свои руки. При заключении Ништадтского мира он дал своим посланникам задания, связанные с искусствами, ремеслами, ведением хозяйства и т. д. О выполнении этих заданий они должны были докладывать ему, а о ходе самих переговоров сообщать лишь Сенату!
На смертном одре он напоминал своей преемнице, что создание Академии Наук входит в число его последних, особенно важных для империи желаний».
Особенно актуально и сегодня звучат слова Гердера о выборе Петром Первым места столицы. И сегодня ведутся разговоры о переносе столицы России – то ли в Екатеринбург, то ли во Владивосток. Вот рассуждения Гердера:
«Позволю себе высказать идею, которая может показаться странной: если бы Петр, захватив Азов, решил именно там создать оплот для исполнения своих замыслов, стал бы именно оттуда реализовывать свои планы преобразований на суше и на море – насколько иной облик приняла бы Россия! Резиденция в прекрасном климате, в устье Дона, в самой счастливой точке его царства, из которой этот монарх мог бы управлять своими европейскими и азиатскими провинциями, как правой и левой рукой, противодействовать турецкой империи, находиться в самом центре, где сходились старинные торговые пути трех частей света – да и четвертой части! Ведь еще с древнейших времен, сначала под властью греков, потом византийцев, генуэзцев – и даже под властью турок, татар и казаков эта область процветала благодаря торговле. Взгляд блуждает там, как в каком-то огромном саду, из которого и вправо и влево открываются ему провинции России. Берега Азова – это для России ключ ко всему миру, самая подходящая отправная точка. Отсюда гигантское русское царство могло бы извлекать всю необходимую пользу из Европы – не тяготясь ее близостью. И от каких усилий, от какого принуждения нации при строительстве Петербурга – не только после, но и посреди кровавых войн – избавил бы себя тогда Петр!
Но его первое европейское путешествие, в особенности голландский образ жизни, к которому Петр привык в Саардаме, направили его взор на Запад. Он хотел быть ближе к Европе, иметь гавань на Балтийском море и жить там по-соседски с голландцами и англичанами.
И Россия со всеми ее азиатскими провинциями устремилась к своей новой вершине на европейской оконечности государства. Санкт-Петербург, новый Амстердам, был основан».
Разрабатывая проекты для Восточной Европы и России, Гердер отводил особую роль прибалтийским государствам – в качестве пространства для общения между германской частью Европы и Россией. История подтвердила прозорливость мыслителя: его родина – Пруссия – стала (под началом Бисмарка) ядром объединенной Германии – Второго рейха, остзейские же немцы стали движущей силой Российской империи.
3
Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М.,1977. С. 603–606.
4
Р. Стойкерс. Место России в истории европейской дипломатии. – Взгляды Гердера на Россию. http://cultoboz.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=227%3A2011—03–27—14—31–49&catid=49%3Anp6&Itemid=85&limitstart=2
5
Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России. М.: Эксмо, 2005. 608 с.
6
http://www.hrono.ru/proekty/metafzik/fk307.php