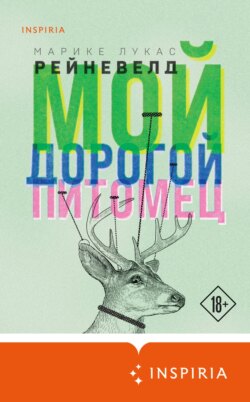Читать книгу Мой дорогой питомец - Марике Лукас Рейневелд - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Лето 2005
7
ОглавлениеТем летом ночи были адские. Словно плохой пехотинец, я передвигался перебежками между тобой и фермером, часто просыпаясь в поту и лихорадочно ощупывая прикроватную тумбочку в поисках выключателя радиобудильника; его яркий свет прорезал черноту, как я срезал пригоревшую корочку с бутерброда, если он слишком долго жарился в тостере, думая, что так у меня не будет шансов заболеть раком, хотя ладно, думал я за завтраком все чаще, пусть я заболею раком, все лучше, чем ночная боль, сжимающая мое сердце, от которой я корчился под простыней, изо всех сил стараясь не разбудить Камиллию – она бы заволновалась и принялась вытирать мне лоб мокрой тряпкой, и тогда, из-за рака, сжигающего мой разум, я бы бешено заорал, чтобы она отцепилась от меня с этой тряпкой; я уже пропал, я безнадежно потерян, потому что хотел только тебя, и от этого был потерян еще больше, болезнь быстрее пробиралась в слабое тело, все это знали, и Боже, как я был слаб, как несчастен, когда лежал там и кусал свою наволочку; словно раненый пехотинец, пораженный шрапнелью, я убежал в свою армию, чтобы там умереть, и я пытался представить, как ты меня обнимаешь, как успокаивающе шепчешь, что я всегда был твоим любимым зайчиком, твоим самым красивым победителем выставок, что ты носила меня, словно свой любимый диснеевский свитер; и я попытался вспомнить твой запах, но в носу по-прежнему стояла вонь от сгоревшего тоста, гнилостный запах кошмара, и иногда я тихонько выскальзывал из-под простыни и шлепал в ванную, закуривал сигарету на подоконнике, и дым вылетал через форточку с сеткой, чтобы Камилла не почувствовала запах, когда пойдет в ванную утром, ведь если бы я сказал ей, что больше не боюсь умереть, она бы ответила: «Подумай о детях». Но я не мог рассказать ей, что в моих мыслях царит только один ребенок, на самом деле я вообще ничего не мог ей рассказать, мы были как два упрямых сквоттера, которые по воле случая ночевали в одном доме, она не cмогла бы понять образы, которые приходили мне в голову: в них фермер свисал не с лестницы, а с башни для силоса, он был синим, как чертополох, и из его рта вырывался последний смертельный вздох, и когда я зажимал уши руками, этот звук эхом разносился в моей голове, а на заднем плане я слышал рев коров, загнанных стрелками в угол и порой падавших лишь после нескольких выстрелов; я видел, как из-за силосной башни появляются краны, подцепившие за ноги туши полумертвых овец, я видел пасторов, которых я порой привлекал, если хозяин животного от горя не знал, куда податься, но я опоздал к тому фермеру, я на мгновение потерял его из виду, и если бы мой голод пришел раньше, если бы я раньше задался вопросом, где фермер, я мог бы натолкнуться на него в холле, мог бы взять его за руку, чтобы показать, что его ферма сейчас выглядит пустой, но однажды он услышит на ней мычание нового стада, лязг поилок, звук вращения щеток по спинам коров, гул молочной цистерны – конечно, он никогда не забудет то, что произошло, и в течение первых недель после появления новой жизни он будет видеть скелет смерти; возможно, он станет сомневаться в Боге, сомневаться во мне, но он будет становиться сильнее, и мало-помалу, утро за утром он будет входить в коровник с меньшей тяжестью в душе, будет смотреть на своих лимузинских и герефордских телок, и его глаза замерцают, обратится к ним снова, как пастор обращается к своей пастве в надежде, что они вернутся домой благочестивыми и успокоенными; но воображать все это было бессмысленно, потому что фермера уже нет, и в моем кошмаре он свисал на веревке, словно его сперва тоже пристрелили, как корову, а потом какие-то фермеры в знак протеста повесили его на силосной башне, как в тот раз, когда кто-то привязал к ветке у подъездной дорожки к своей ферме мертвого поросенка, и с него капала трупная жидкость, а мне нельзя было больше переступать порог некоторых ферм – я был одновременно и целителем, и убийцей: большинство пасторов проповедовали, что люди должны преклонить колени, что эта катастрофа обрушилась на Нидерланды по воле Божьей, но, несмотря на это, многие крестьяне решили обороняться и бросали камни в меня, в других ветеринаров, в сотрудников трупоперевозки; они брали пример с Давида, который бросал камни в великана Голиафа, и я не мог их винить, сначала люди выбирали самооборону и только потом опускались на колени, и я подумал о преподобном Хорремане, который был единственным, кто проповедовал физическое насилие, потому что сам держал лошадей; он провозгласил в своей проповеди, что мы должны что-то сделать со страданиями животных, с этим вопиющим нарушением этики, он считал приказ о забое первым признаком самоуничтожения, и в некоторых случаях он оказался прав, так и вышло с тем фермером, и я видел во сне, как он свисал с башни, а ты, ты стояла так ужасно высоко на ее краю, и я знал, что это безумие, все это время я знал, что твое желание летать – безумие, ты разобьешься о плитку во дворе, моя дорогая, ты просто разобьешься, и я слышал, как ты в шутку, но пугающе, вместо строчки «поймай меня, если сможешь» пела «пусти меня, если сможешь, ты все равно не посмеешь меня удержать», и я хотел закричать, что никогда тебя не отпущу, в то же время я знал, что это будет ложь, а ты в своей ветровке стояла и ждала, что я тебя успокою, но я не смог, а затем ты демонстративно развела руки, в знак последней надежды и в то же время – последней угрозы, но с моих губ по-прежнему не сорвалось ни звука, хотя я знал, что смогу тебя успокоить, хоть и всего лишь на мгновение; нет, я хорошо знал свои реплики, я чертовски хорошо их знал, и это было бы так легко, и я добавил бы в них несколько строк трехсотого гимна из «Сборника церковных песен», потому что ты бы его узнала: «Я не оставлю тебя, я останусь с тобой, пока не вострубят трубы, с высоты и со всех сторон окружат нас тысячи голосов, и будет сказано «аминь», и не останется ничего, кроме песни, Господь, спор улажен, я не оставлю тебя, пока не исполнится что начертано». И ты бы сбросила свои крылья и освободилась от желания летать, я бы стащил тебя краном с башни для силоса, но я ничего не сказал, я не мог ничего сказать, и когда я проснулся, то подумал о песне Леонарда Коэна Ain’t No Cure For Love[14], и насколько это правда. И когда ты взлетела, я все еще надеялся, что ты победишь гравитацию, оспоришь закон Ньютона, но ты упадешь, хотя это было не единственное, что меня беспокоило: с тех пор в моих снах появилась публика, она сидела на шатких садовых креслах на гравии, смотрела и аплодировала во всех отвратительных местах, в тех местах, где большинство людей выдохнуло бы или закрыло глаза; эта публика была моей матерью, у нее всегда был дар реагировать, когда не нужно, и молчать – когда нужно, но в моем кошмаре она превзошла саму себя: она была главной причиной, по которой я не мог тебе солгать – она не раз повторяла, что если заметит, что я вру, то отрежет мне язык картофелечисткой, как она срезала с клубней ростки, и я воображал свой язык в корзине для очисток, воображал, как снова и снова пробую на вкус сахарную пудру, жир с блинов, и у меня ничего не выходит; я не мог лгать, потому что знал, что причиню тебе боль, и она будет сильнее, чем тебе нанесет падение с башни, поэтому я позволил тебе упасть, я позволил тебе рухнуть, а ты кричала, что ты самолет, что ты долетишь до Нью-Йорка, в Город, который никогда не спит, и процитировала еще одну строчку из альбома Live in New York Лори Андерсон, партнерши Лу Рида, она записала его примерно через десять дней после теракта 11 сентября, песня была в основном об атаке, и фермер внезапно открыл глаза и начал рыдать; на самом деле он рыдал из-за моей дорогой питомицы, из-за моего разбившегося небесного создания, которое лежало в осколках на земле.
14
«Нет лекарства от любви» (англ.).