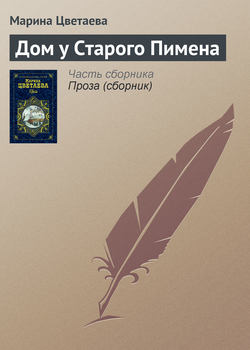Читать книгу Дом у Старого Пимена - Марина Цветаева - Страница 2
II
Дом у Старого Пимена
ОглавлениеЭто был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век… Всех детей зарыл, а сам… Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит…» Под этот шепот и даже ропот – жил.
Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»[7], я (прости меня Бог, ибо это – грех) не вспомнила, а глазами увидела Д.И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях – чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака… Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.
Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы – сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, – и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. Истории в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же – несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да – был ли?
Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос должен пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил – в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?
И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми – ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)
И так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей.
Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты…
Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну…
И – туман над Летой редеет – не альбом! не портрет! – Надя, живая, – каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!) пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, – о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто – с игрушкой…
(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)
Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты ничего не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой 1812 год! – с гравюры – из семейной хроники – точно вросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский…) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц Zénaide Fleuriot… А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой… Но эта река – Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.
Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу – в тени комнаты и матери, Надю – на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю – стережет. Вот они обе в ландо на bataille de fleurs[8]. Все цветы – ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины – матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку – розой, в дракона – дрянью. (Как это А.А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно – и невозвратно. С цветочного боя – в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда – измышлениями: как, например, солить репу… (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») – и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы…), на самом же деле – из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благонравный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда – на Нерви, оказалось – на жизнь.
7
«Живых людей» (фр.).
8
Битве цветов (фр.).