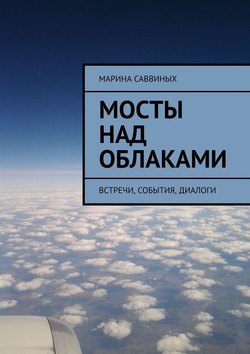Читать книгу Мосты над облаками. Встречи, события, диалоги - Марина Саввиных - Страница 17
III
«Волошинский сентябрь». Фестиваль и симпозиум
ОглавлениеКоктебель – особое место. Старожилы – к ним относятся и многочисленные сезонные жители, которые десятилетиями приезжают сюда весной и которых язык не поворачивается назвать «дачниками», – уверяют, что потухший вулкан Карадаг, поднимающийся над маленьким курортным посёлком из вод морских, заряжает камни и воду целительными вибрациями; что тончайший воздушный коктейль морской соли и степных трав лечит тело и душу, а бессмертные тени великих, некогда обитавших здесь, придают скромным коктебельским пенатам неизъяснимое обаяние.
Можно даже сказать, что здешние пенаты, «гении места», – те же аониды, музы, звонкоголосые, как цикады, и приветливые, как тонкие утренние облака.
Коктебель манит к себе «культурных туристов» всевозможными способами. Фестивали и праздники следуют один за другим. Только за первые две недели сентября здесь прошло несколько джазовых форумов, и атмосфера, в которую окунулись участники IX-го Международного научно-творческого симпозиума «Волошинский сентябрь», уже была определённым образом разогрета.
Андрей Коровин, сопредседатель Оргкомитета, ответил на мои вопросы об этом грандиозном событии.
Саввиных. Фестиваль-симпозиум «Волошинский сентябрь» проводится уже в девятый раз. Какова его история? Как развивались основные направления, структуры? Какие организации и персоны «приложили руку» к тому, что этот грандиозный праздник искусств не мельчает, а только набирает силу из года в год?
Коровин. «Волошинский сентябрь» был задуман в две тысячи втором году (вначале – поэтический конкурс, затем – литературный фестиваль и пленэр) с главной целью – возродить Коктебель как культурный центр, каким он был почти весь двадцатый век, начиная со времени Волошина.
В две тысячи третьем мы с директором Дома-музея М. А. Волошина Наталией Мирошниченко объявили первый конкурс с условием, что назовём победителей и вручим награды в Коктебеле. Так творческий люд потянулся «назад в Коктебель». Некоторые провели здесь детство и с тех пор не были по двадцать-тридцать лет, а некоторые приехали сюда впервые благодаря конкурсу и фестивалю. Наш проект восходит к духу волошинского Дома, и это во многом влияет на его развитие. Мы начинали фестиваль как поэтический, но скоро поняли, что без прозы нам не обойтись. На одном из фестивалей ярким событием стал турнир прозаиков. Затем в конкурсе добавились номинации критики и перевода, и фестиваль пополнился критиками и переводчиками. В две тысячи одиннадцатом году впервые учреждены две номинации – видеопоэзии и драматургии. И участниками фестиваля стали видеорежиссёры и драматурги.
С нами начали сотрудничать и театральные режиссёры. С детскими писателями сделали проект – Детские дни на Волошинском фестивале. С самого начала параллельно с нами, а затем всё более сближаясь, проходит пленэр художников «Коктебель». Сегодня «Волошинский сентябрь» – это уже глобальный форум искусств. И новыми жанрами и видами искусства он будет только прирастать.
Я могу перечислить тех, кто стоял у истоков: это, конечно же, руководитель Дома-музея М. А. Волошина Наталия Мирошниченко, ваш покорный слуга, затем – директор заповедника «Киммерия М. А. Волошина» Борис Полетавкин, старший научный сотрудник музея Игорь Левичев, поэт и тогда один из руководителей Союза писателей Украины, к сожалению, трагически погибший, Юрий Каплан, руководитель сайта Поэзия.ру Леонид Малкин, культуртрегеры Юрий Ракита и Андрей Новиков, поэты Юрий
Кублановский, Александр Кабанов, Алексей Остудин, Станислав Минаков, Ирина Евса, Андрей Грязов, Константин Прохоров, прозаик Этери Басария, прозаик и первый секретарь Правления Союза российских писателей Светлана Василенко, президент Благотворительного фонда поддержки современной русской поэзии «Реальный процесс» Анна Токарева.
Идея детской программы симпозиума принадлежит Елене Усачёвой и Анне Матасовой. Алла Басаргина, концертмейстер и женщина, радушно принимала нас в своём культурном центре «Вилла Basso». Несколько лет нашим незаменимым помощником был Лёша Ефимов. Каждый год кто-то отходит от этого фестивального водоворота, а кто-то напротив – втягивается. Активно включился в организационную работу московский поэт Евгений Чигрин. В прошлом году нашим гостем впервые был директор Института стран СНГ Константин Затулин. Он по достоинству оценил фестиваль и помог ему заручиться поддержкой премьер-министра Украины Николая Азарова. Неоценимую помощь оказал нам в этом году Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ. Содействие оказала Международная Ассоциация центров современной культуры «Живая классика». А стабильный состав учредителей симпозиума-фестиваля на сегодняшний день таков: Дом-музей М. А. Волошина, Коктебельский эколого-историко-культурный заповедник «Киммерия М. А. Волошина», Союз российских писателей и журнал культурного сопротивления «ШО». Постоянное содействие оказывают Министерство культуры Автономной Республики Крым и Коктебельский поселковый совет. Также хочется сказать отдельное спасибо конкретным людям, без которых нам было бы нелегко: Ирине Легоньковой, Александру Хачко, Дмитрию Коломенскому, Елене Усачёвой и Глебу Номерову, а также Анатолию Степаненко и Алексею Ушакову, которые вели фото- и видео-летопись симпозиума.
Саввиных. Что означает для организаторов и участников «волошинский дух» фестиваля? Соответствуют ли этому духу нерв, настроение и стиль поэзии и прозы, звучащих и обсуждаемых на мастер-классах, встречах и презентациях?
Коровин. Место и его дух создаются людьми. Здесь жил Волошин, и он был гением этого места, сюда тянулись лучшие и талантливейшие люди России. Затем был создан закрытый писательский Дом творчества, и здесь отдыхала советская творческая интеллигенция. Впрочем, и антисоветская тоже. Это был островок свободы – «интеллигентное» противостояние системе, недозволенные речи, стихийные нудистские пляжи, влюблённости, переходящие в нешуточные романы, в том числе – литературные, и, конечно, картины, книги, стихи. Например, свой знаменитый «Остров Крым» Василий Аксёнов написал здесь. Думаю, что количество произведений литературы и искусства, написанных в Коктебеле, просто не поддаётся статистике. Островок свободы здесь остался и по сей день. И замечательно, что в сентябре это место вновь становится культурным центром мирового значения, куда съезжаются творческие люди из разных стран мира, чтобы сотворять здесь общий проект под названием «Коктебель».
Вообще, «волошинский дух» – это в первую очередь дух творчества, высокого и серьёзного, но в том числе и озорства, розыгрышей, экспериментов. Поэтому, на мой взгляд, всё, что талантливо и не скучно, – близко Волошину.
Саввиных. Какую роль в организации и проведении конкурса и фестиваля играют литературные журналы?
Коровин. С самого начала мы ставили перед собой задачу – открывать новые имена и помогать талантливым авторам находить своих издателей. Поэтому в жюри Волошинского конкурса мы изначально старались приглашать редакторов литературных журналов. И эта традиция сохраняется, а участники конкурса действительно становятся авторами журналов, которые являются нашими партнёрами. Мы работаем со многими литературными журналами – это «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Дети Ра», «Урал», «Сибирские огни», «Крещатик», «Современная поэзия» и другие. В последнее время журналы часто объявляют тему, на которую нужно прислать произведения. Лучшие произведения и авторы, по выбору редакций журналов, публикуются на их страницах. Редакторов журналов мы приглашаем в Коктебель вести мастер-классы по поэзии, прозе, критике. И здесь происходит знакомство уже не только с произведениями, но и с их авторами, происходит живой диалог автора и редактора, ценность которого в литературном процессе является одной из первостепенных. Хочу добавить, что за девять лет нами было открыто немало имён, теперь известных в современной литературе. И всё это во многом благодаря нашим коллегам из литературных журналов. Так что их роль бесспорна и очевидна.
Саввиных. Как вы оцениваете динамику «качества» литературных произведений, предлагаемых авторами на Волошинский конкурс? Можно ли считать конкурс неким особым «зеркалом» современного всемирного русскоязычного литературного процесса (если только здесь уместно слово «всемирного»)?
Коровин. О всемирном говорить не готов, хотя в конкурсе действительно принимают участие авторы со всего мира – от Америки до Австралии. Всё-таки это определённый срез, а не доскональное изучение литературного процесса. Современная русскоязычная литература рассредоточена по всему миру и живёт своей, порой достаточно обособленной, жизнью. Лет семь-восемь назад в Москве не представляли, что происходит на Украине, например. Сейчас ситуация исправлена, во многом – благодаря Волошинскому конкурсу и таким фестивалям, как Волошинский и «Киевские Лавры». Белое пятно для нас пока – Беларусь, Казахстан, я уж не говорю о Киргизии или Таджикистане. Гораздо лучше мы знаем русскоязычный Израиль или Америку. Показатель динамики качества – публикации в литературных журналах. Произведения победителей и финалистов конкурса регулярно печатаются в «Октябре», «Дружбе народов» и других журналах, выходили специальные номера журналов «Дети Ра», «Урал», «Сибирские огни», посвящённые Волошинскому конкурсу. Я не знаю ни одного другого литературного конкурса сегодня, который был бы прямой дорогой в толстые журналы. Есть конкурсы, которые издают победителям книги или выдают денежные премии, но публикация в главной составляющей современного культурного процесса – известном литературном журнале – очень важна.
Что ещё важно – в конкурсе участвуют не только начинающие авторы. Участвовать в нём считают для себя престижным и авторы с именами, уже имеющие серьёзные публикации, и порой даже признанные литературные мэтры. Эта встреча поколений в Волошинском конкурсе сама по себе знаменательна и для нас очень важна. Вообще, на конкурс приходят интереснейшие вещи. Воспоминания потомка садовника Волошина. Мемуары мужа поэтессы, чей прах захоронен в горе Кучук-Енишар, немного ниже могилы Волошина. Это исторические документы, а не только литературные. Были и забавные случаи: одна дама пыталась себя выдать за наследницу Волошина, хотя детей у него, как известно, не было.
Саввиных. Четвёртый год существует Международная Волошинская премия. В чём её отличие от других премий?
Коровин. У неё несколько отличий, назову два главных. Первое – две постоянных номинации. Номинация «За вклад в культуру» отмечает деятельность людей не только в области литературы, а вообще в гуманитарной сфере, в том числе имеющих отношение к личности и творчеству Максимилиана Волошина. Скажем, в России деятельных людей очень много. В каждом городе и городишке можно найти энтузиастов и подвижников, на которых держится культура в данном конкретном месте. Можно сказать, только ими она и жива. Вообще, стоило бы учредить премию «Подвижник» для таких вот людей из маленьких российских городков. Но одно дело поддерживать родную культуру в своём доме, своём городе, и другое – поддерживать культуру другого народа в своей стране или в международном культурном поле. Яркий пример – лауреаты премии в этой номинации последних двух лет – испанка с мексиканскими корнями Сельма Ансира и француженка Мари-Од Альбер. Сельма переводит русскую классику – от Пушкина до Волошина – на испанский, а Мари-Од организовывает в Париже выставки, посвящённые русской культуре. Вот он – неоценимый вклад в русскую культуру! Вклад, который свои же соотечественники вряд ли по достоинству оценят. Или ещё два наших лауреата – организаторы ярких, знаковых современных фестивалей: Александр Кабанов – организатор Международного фестиваля поэзии «Киевские Лавры» – и Алла Басаргина – организатор фестиваля искусств «Куриный Бог» в Коктебеле. А самым первым нашим лауреатом посмертно стал один из создателей музея М. А. Волошина в Коктебеле, исследователь-литературовед Владимир Петрович Купченко. Эту номинацию поддерживает морально и материально банк ВТБ, за что ему огромное спасибо.
Второе отличие – особенность второй номинации нашей премии «Лучшая поэтическая книга такого-то года». Тут обращает на себя внимание возраст наших лауреатов. Ими были на сегодняшний день: Андрей Поляков, Александр Переверзин и Мария Ватутина. Это среднее литературное поколение – то, которому обычно не достаётся никаких наград, они как бы в безвременье: возраст «Дебюта» и Форума в Липках пройден, а возраст «выслуги лет» и премии «Поэт» ещё не наступил. Это критический возраст для любого человека, для творческого – тем более. Поэтому особенно важно поддержать уже состоявшегося, но часто – сомневающегося поэта, напомнить о нём литературным критикам и издателям. Мы рады, что Большое Жюри Волошинской премии присуждает победу, безусловно, значительным поэтам, и мы также благодарны тем, кто этих поэтов выдвигает на премию. Эту номинацию последние два года материально поддерживает журнал культурного сопротивления «ШО». Ещё один важный аспект премии: помимо Большого Жюри, в которое входят признанные мэтры и литературные критики, у нас есть ещё Студенческое Жюри. Это наш совместный проект с Центром новейшей русской литературы РГГУ. Это жюри присуждает свою Специальную студенческую премию. Нам кажется, что это очень важно – знать и фиксировать взгляд молодых филологов и читателей на современный литературный процесс. Эту идею поддержал ОТП Банк, придав ей денежное выражение.
Саввиных. Расскажите немного о научной составляющей Волошинского фестиваля. Ведь это не просто фест, но ещё и научный симпозиум.
Коровин. Главным отличием «Волошинского сентября» от других подобных фестивалей является то, что двигателем симпозиума является Дом-музей М. А. Волошина, в деятельности которого «Волошинский сентябрь» занимает очень важное место, и то, что симпозиум является комплексом нескольких культурологических проектов, в каждом из которых имеется научная составляющая. Миссия Дома-музея состоит, в том числе, и в «сохранении уникальной аутентичной коллекции, духовных и культурных ценностей Дома Максимилиана Волошина и интеграции их в современное общество». А разве не эту же цель преследует и наш фестиваль? Те же мастер-классы – это научно-просветительные мероприятия, говоря казённым языком. По результатам симпозиума в литературных и научных журналах публикуются статьи и исследования сотрудников музея и участников фестиваля. По результатам художественного пленэра создаются новые экспозиции, а это уже научно-экспозиционная работа. Широко презентуется издательская программа музея, включающая научные сборники. Наши круглые столы – это материал для исследования культурологов и социологов. Так что хотя основная часть симпозиума – творческая, но и научная деятельность является частью нашей общей работы.
Саввиных. В чём особенность (уникальность) нынешнего, девятого, фестиваля?
Коровин. Во-первых, благодаря поддержке симпозиума фондом МФГС мы смогли пригласить литераторов и художников из России, Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Молдовы. Были желанные гости из Польши, в том числе – художники, поддержанные Польским институтом в Киеве, а также – из Германии, Грузии, Финляндии, Франции и других стран. Расширение географических границ, новые интересные люди, знакомства, которые перерастают в творческие связи, – всё это очень важно для дальнейшего развития симпозиума.
Во-вторых, в этом году мы положили начало сотрудничеству с театрально-драматургической программой «Премьера-PRO». Драматургический конкурс «Премьера» существует уже десять лет, это конкурс с международным именем, уважаемый и интересный. И я очень рад, что арт-директор «Премьеры» Светлана Кочерина оказалась контактным, креативным и, главное, «крымским» человеком, и мы провели в этом году конкурс мини-пьес в рамках Волошинского конкурса. На конкурс прислали сто двадцать работ, среди них были очень интересные. По этим пьесам с драматургами в Коктебеле были проведены мастер-классы, а некоторые были показаны режиссёром Валерией Приходченко и самими драматургами в нашей программе. Читку пьес из шорт-листа мы будем делать и в Москве. И я уверен, что театрально-драматургический проект в рамках симпозиума будет развиваться.
Третье новшество – конкурс видеопоэзии и показ лучших поэтических фильмов в Коктебеле. Видеопоэзия – новый жанр, у него ещё толком не сформировались какие-то границы и законы, поэтому наблюдать его становление тем более интересно. В этом нам помогали литературный проект «Русский Гулливер» и портал видеопоэзии «Гвидеон».
Четвёртое – поэт Сергей Жадан предложил провести футбольный матч. Это предложение вызвало огромный энтузиазм у участников симпозиума. В футбольную команду записались даже четыре девушки. И матч был поистине захватывающим, с опасными моментами, неопасными травмами, а закончился вничью, что особенно приятно, если учесть, что поэты играли с профессионалами.
Были ещё поэтическое шествие и «Русалии» московского режиссёра Елены Пенкиной.
Впервые закрытие литературного фестиваля происходило в самом центре Коктебеля – на площади искусств перед Домом Максимилиана Волошина. Это была яркая акция-перформанс «Древо желаний», в создании которой принимали участие фестивальщики, гости и жители посёлка, дети из художественной школы. Во исполнение написанных на бумажных листьях древа пожеланий в ночное небо Киммерии взмывали огоньки на воздушных шарах.
Много было интересного за семь дней симпозиума, а это – более шестидесяти мероприятий. И это была настоящая напряжённая творческая работа с ненормированным рабочим днём. Программа начиналась в десять утра и заканчивалась за полночь. А уж разговоры и дискуссии порой длились до самого утра. Не знаю, успевали ли наши участники при этом ещё и окунуться в море. Организаторы точно не успевали. Но несмотря на это, многие уже выразили желание принять участие в следующем, юбилейном, десятом симпозиуме, посвящённом 135-летию Максимилиана Волошина. А это значит, что мы работаем не напрасно.
К сказанному Андреем мне бы хотелось добавить несколько своих соображений. Взгляд – как бы уже изнутри, но ещё и со стороны. Вне всякого сомнения, Волошинский фестиваль – один из самых представительных профессиональных съездов. «Вселенский собор» русской (и русскоязычной – приходится признать, что сегодня это разное) литературной элиты в самом позитивном значении этого слова. Профессионализм отличает Волошинский форум от ставших уже привычными многочисленных графоманских тусовок. И дело здесь даже не в присутствии «звёздных» персон… Уровень организации, общения, дискуссий, качество представленного творческого вещества – всё это если не на пределе возможного, то, по крайней мере, устремлённость к пределу ощущалась в каждой мелочи. И хотя избежать шероховатостей в таком многоплановом событии невозможно, в целом они не портили впечатления, за что снова и снова – великая признательность всем, кто к деянию сему руку приложил.
Многое из того, что здесь происходило, стало для меня подтверждением нарастающей поляризации литературного пространства. Молодая поэтесса, предложившая стихи в «День и ночь», на мой призыв подумать о читателе и быть, по возможности, проще – откликнулась так: «А я думала, сегодня нельзя без „подвывертов“». Завихрения всевозможных «подвывертов для подвывертов», почти совершенно поглотившие нашу словесность (по крайней мере, ту, что на виду), образуют в ней чудовищный мёртвый омут, затягивающий всё, что не способно сопротивляться. Унылые вереницы почти не отличимых друг от друга версификаций, воспроизводимых с импровизированных подмостков, – отличительная черта, увы, не одной фестивальной площадки.
Скука, вялые аплодисменты зевающей публики, потеря, в конце концов, этой публики… Всё это бурно обсуждалось потом «в кулуарах» – в кафешках, на пляже, на прогулках и «дружеских попойках» (как без них!). При этом очевидна была открытая манифестация чего-то иного, противоположного «мертвечине». Живая жизнь, подъём, жадный интерес к миру, меняющемуся на глазах, страсть познания и стремление к художественной правде – всё это образовывало на фестивале некие «точки кипения», которые постепенно притягивали к себе всё больше и больше участников.
Замечу, тяготение к тому или другому полюсу никак не связано со стилем или традицией, которой следует автор. Просто есть Поэзия и имитация оной на потребу конъюнктуре. Последняя, конечно, гораздо более социально адаптирована, избалована поощрениями и финансовыми вливаниями. Зато первая мощно выбивается из-под завалов и скоро-скоро (о, надежда, которая умирает последней!) будет бить ключом!
Одну из таких «точек кипения» я наблюдала вблизи. Это был мастер-класс двух поэтов: доктора культурологии, кандидата филологических наук, президента Академии Зауми Сергея Бирюкова и президента Союза писателей ХХI века, главного редактора журналов «Дети Ра» и «Футурум АРТ» (и прочая, и прочая) Евгения Степанова. О Степанове не стану долго говорить. О нём много сказано. Не хочу повторяться. Думаю, что в памяти благодарных потомков его имя сохранится так же, как мы храним имена Павла Третьякова, Саввы Морозова и Сергея Дягилева. Только Степанову труднее, так что и память о нём, наверное, будет светлее и драматичнее.
Бирюкова прежде я вблизи не видывала. По коротком же знакомстве он произвёл на меня ошеломляющее впечатление. Представьте себе профессора европейского университета, этакого raffiné: речь, манеры, мимика, жестикуляция – вся тончайшая механика общения, которая изобличает в наших глазах человека определённого воспитания и круга. И вдруг он выходит к микрофону, и начинается – шаманское камлание? Индейская ритуальная пляска? Кажется, горло поэта-декламатора способно воспроизвести любой звук – от гортанного крика горлицы до скрежета металла о металл. А потом откуда-то являются картонная дудка – пугающе громкая – и летающий диск, на глазах у зрителей запускаемый в небеса. Так президент Академии Зауми чествовал Владимира Алейникова, нового академика, лауреата Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка.
Сергей Бирюков – звучащий инструмент поэзии. Он один из немногих, кто знает о переднем крае поэтических поисков – всё. Или почти всё.
Евгений Степанов и Сергей Бирюков. Коктебель. У могилы Волошина.
Мастер-класс, который он вёл вместе со Степановым, был посвящён литературному авангарду. Но под конец в маленький холл пансионата «Камелия-Кафа», где разместился класс, слетелось всё, что почуяло энергию совершающегося здесь волшебства.
Живое русское слово вызвало из тектонических культурных пластов новое поколение литературоведов и критиков. На мастер-классе Бирюкова и Степанова тон обсуждениям задавали молодые филологи, бескомпромиссные, жёсткие, отважные, не оглядывающиеся на регалии и лица – и при этом высоко эрудированные и компетентные. Мне особенно запомнились Евгения Коробкова («Какой живой, говоря пушкински, раздробительный (в положительном смысле) ум!» – отозвался о ней Бирюков) из Челябинска и Мария Суворова из Вологды. Уверена, мы ещё не раз встретим на страницах литературных журналов эти имена.
А потом мэтр был настолько любезен, что согласился дать мне эксклюзивное интервью. Вот оно – слово в слово.