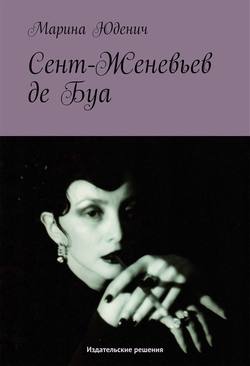Читать книгу Сент-Женевьев-де-Буа - Марина Юденич - Страница 2
Часть первая
События
ОглавлениеЛето в Париже – милая и уютная пора. Его не портят даже частые дожди и очень жаркие дни, когда плавится асфальт и душно под зонтиками уличных кафе.
Сегодняшний день выдался жарким.
Прочувствовать этого он еще не успел: кондиционер работал на полую мощность, и в номере было прохладно, настолько, что он проснулся озябшим.
Однако ж, достаточно было всего лишь выглянуть на улицу..
Окна его спальни выходили во двор американского посольства, и, отодвинув тяжелую вышитую гардину, он некоторое время наблюдал за темнокожими рабочими, грузившими контейнеры с дипломатическим мусором в маленький грузовичок. Им-то точно уже было жарко – с высоты шестого этажа были хорошо видны взмокшие фирменные рубашки и даже струйки пота, бегущие по шоколадной коже.
Да, жарким было уже и раннее утро.
Размышляя об этом, он с удовольствием принял прохладный душ, и как раз вовремя – мелодичный звонок оповестил о том, что доставлен завтрак. Закутавшись в белый махровый халат, украшенный гербом графа de Crillon – владевшего когда-то известным парижским дворцом, ставшим позже не менее известным отелем – и на ходу растирая полотенцем влажные волосы, он поспешил отворить дверь служащему, вкатившему столик с завтраком.
Они обменялись несколькими дежурными фразами, причем француз не преминул принести свои извинения по поводу несносной жары – он легко отмахнулся – в машине хорошо, как и в номере, работает кондиционер, француз почти искренне обрадовался и, получив приличные чаевые, почтительно удалился.
За завтраком он бегло просмотрел парижские утренние газеты, но больше внимания уделил телевизору, настроив его на российскую программу, впрочем, ничего нового оттуда не почерпнул: в Москве все было по-прежнему: падал рубль, ругались депутаты, кого-то взорвали в своем автомобиле – имя погибшего было ему незнакомо, и то слава Богу! А вот горячие круассоны в «De Crillon» были, как всегда, отменны. Он с удовольствием воздал им должное, щедро сдабривая маслом, медом, и испытал даже некоторое сожаление, когда с завтраком было покончено.
Он любил завтракать в отелях. Даже пору советской молодости, когда о роскошных пятизвездочных, не приходилось даже мечтать. Любил скромные многолюдные завтраки в небольших европейских гостиницах с неизменными горячими булочками, ароматным кофе, набором конфитюров и меда на столах, необыкновенно вкусными закусками на «шведском столе», сочными баварскими сардельками и английской глазуньей с беконом. Тогда он обязательно позволял себе еще и бутылку-другую холодного пива.
И это было верхом блаженства.
Теперь, допивая свежевыжатый грейпфрутовый сок, он только улыбнулся далеким «совковым» воспоминаниям и даже немного взгрустнул: прошлой первобытной радости теперь уже не ощутить, что бы приятного ни случилось в жизни. «За что боролись…» – философски подумал он и снова перешел в спальню – нужно было одеться: машина, видимо, уже ждала у подъезда.
Грядущий день был практически свободен – вчерашним ужином он поставил точку в деловой части визита, а возвращаться решил завтра, утренним рейсом «Air-France». И сегодня праздно оставался один на один с Парижем. Сознание этого настраивало его на легкий и беззаботный лад.
Вчера, возможно под воздействием двух рюмок «Кальвадоса» 1923 года, в баре отеля, куда заглянул уже глубокой ночью, он принял довольно неожиданное решение.
«Кальвадос» конечно же был ни при чем: он был вовсе не пьян, скорее дело заключалось в музыке. Пианист в баре оказался русским и, угадав соотечественника среди нескольких горланящих американцев, двух мрачных арабов, не сводящих с ярких заокеанских туристок похотливых масленых глаз, и юной парочки, невнятной национальной принадлежности, вдруг заиграл Вертинского
«Вы ангорская кошечка, статуэтка японская, вы капризная девочка с синевой у очей, вы такая вся хрупкая, как игрушка саксонская…».
Слова вспомнились ему сразу, сплелись с мелодией, он готов был поспорить, что может допеть до конца, ни разу не сбившись. Это было удивительно – с той поры, когда слышал этот мотив, прошло очень много лет. Правда, слушал его в ту далекую пору очень часто – почти каждый день. Бабушка, на воспитание которой он был отдан в возрасте трех лет, в компании тогдашних своих подруг музицировала ежедневно, и «Черные веера», «Ангорские кошечки» и «Лиловые негры в притонах Сан-Франциско» были ему известны куда лучше, чем «Золушка» и «Гадкий утенок».
Он выпил еще одну, возможно уже и лишнюю, рюмку «Кальвадоса», со смаком выкурил любимую «Монте-Кристо» и, покидая бар, оставил на рояле стодолларовую купюру.
Музыкант улыбнулся благодарно, немного грустно и заиграл «Подмосковные вечера».
«Вот это уже напрасно», – рассеянно подумал он, поднимаясь в лифте на свой шестой этаж, и вдруг решил, что завтра поедет на русское кладбище в предместье Парижа – Сент-Женевьев.
Решение, действительно, пришло вдруг.
Никогда прежде не бывал он на этом кладбище, и не был никоим образом связан с ним. Кроме разве того обстоятельства, что в той земле покоились люди, творившие некогда историю его страны.
Но он не был сентиментален.
Однако, поднявшись в номер, и уже отходя ко сну, он еще некоторое время размышлял о завтрашней поездке и окончательно утвердился в решении ехать.
Утром вечерние фантазии, как правило, не вызывают вчерашнего энтузиазма, если не кажутся вовсе нелепыми и абсурдными. Такое часто случалось и с ним.
Но сегодня было не так.
Он налил еще одну чашку остывшего кофе и, с удовольствием прихлебывая ароматный напиток, задумался. На кладбище ехать по-прежнему хотелось – это было вполне определенное ясное желание. Хотя до вчерашнего вечера он предполагал провести последний свободный день в Париже совсем иначе – как делал обычно – пробежаться по знакомым магазинам, пополнить гардероб, приобрести подарки.
Потом – если погода будет подходящей – безмятежно пошляться по улицам, оставив машину где-нибудь неподалеку, в тени, чтобы, устав, можно было скоро вернуться в прохладный уютный салон.
Потом долго и со вкусом отобедать в «La Grand Cascade» – знаменитом парижском ресторане, который любил с истовой страстью снобствующего туриста.
Планы на вечер варьировались широко. Хранилась, к примеру, в дальнем углу портмоне – не обошлось, без брезгливой неловкости – визитка мерзкого типа – Пети Бестермана, берущего на себя труд организации досуга состоятельных русских господ в ночном Париже. Случалось, он пускался в свободное плавание. Но всякий раз приключения были легки и необременительны.
Все это можно было легко организовать еще и сейчас, но, допивая кофе, он остался верен принятому ночью решению.
Это было странно.
Водителя-серба, носящего французское имя Манэ – с ним всегда работал в Париже – желание патрона, пожалуй, тоже слегка удивило, но, разумеется, виду тот не подал. Лишь коротко взглянул в зеркальце на пассажира чуть внимательнее и острее, нежели обычно.
Однако минута канула в вечность.
Солидный «мерседес» уже катил по запруженным парижским магистралям, пробиваясь к окраине столицы.
Бабушка его любила романсы Вертинского. Но это было, пожалуй, самое достойное из ее песенного репертуара, далее следовали всевозможные «Танго сильнее смерти» и «Шумит ночной Марсель в притоне «Трех бродяг». Под эту музыку прошли его ранние детские годы.
Еще бабушка тайком от родителей читала ему дневники Вырубовой, зачем-то изданные в первые годы советской власти, стихи Надсона, Зинаиды Гиппиус, еще каких-то авторов, имена которых он сейчас не помнил..
А еще – бабушка часто повторяла, что человек только тот, кто «com il faut», подчеркивая, что цитата принадлежит раннему Толстому, из чего следовало, что более поздние убеждения графа она не разделяла. При этом, запросто называла великого писателя графом Львом Николаевичем, а императрицу Александру Федоровну – если речь вдруг заходила о доме Романовых, – несчастной Аликс. Из чего – с неизбежностью – следовало, что бабушка, о если не принадлежала к царствующей династии, то непременно провела молодость в высшем петербургском свете, будучи представленной ко двору и накоротке знавшей его обитателей.
Все это было категорически не так – она родилась в маленьком провинциальном южнорусском городишке и никогда – до замужества – а оно состоялось уже в ту пору, когда ни Романовых, ни двора, ни петербургского высшего общества, ни самого Санкт-Петербурга не было и в помине, его не покидала.
Правда, родилась она в семье местной технической интеллигенции, впрочем, тогда говорилось много проще: семейство принадлежало к мещанскому сословию – прадед был инженером-путейцем – и жило, видимо, неплохо. И бабушка, и пять ее сестер окончили местную гимназию, смиренно ожидали замужества, которое – ко всеобщему удовольствию – ни одну из них не миновало.
Истоком же бабушкиных светских замашек и даже некоторых претензий на великосветскость, была директриса местной гимназии, дама, действительно, некогда принадлежавшая к высшему обществу и даже настоящая княгиня, избравшая модный – когда-то – путь, хождения в народ. Следуя традиции, она начала карьеру простой учительницей, а завершала – в преклонном возрасте – главою небольшой женской гимназии в маленьком провинциальном городке. Народнические идеи, видимо, с годами выветрились из ее души и не владели более разумом. Зато воспоминания о прекрасной, сказочной – на фоне пыльной провинциальной скуки – петербургской юности, напротив, проступили ярко. Теперь она щедро делилась ими с воспитанницами, порождая в юных душах сонм фантазий, облеченных в конкретные образы и сцены, красочно живописуемые престарелой наставницей.
Настал февраль, а затем и октябрь семнадцатого, но в жизни скромной семьи инженера-путейца мало что изменилось – поезда ходили и при большевиках, и во время коротких налетов Добровольческой армии. Все шло своим чередом, включая замужества дочерей и рождение внуков. Той, которой суждено было стать его бабушкой, повезло более других – ею увлекся молодой чекист с забавной крохотной фигуркой мальчика-подростка и столь же смешной фамилией Тишкин. Увлекся серьезно, вскоре просил ее руки и получил согласие.
Смешными у деда-чекиста были только рост и фамилия – во всем остальном, это был человек крайне серьезный и крайне последовательный. В двадцать семь лет он возглавил ЧК маленького городка, в тридцать семь – был крупным чином НКВД и жил с семьей в Москве в огромной по тем временам квартире в доме на проспекте Мира. К пятидесяти маленький чекист Тишкин стал генералом госбезопасности и уже до самой своей смерти в шестьдесят седьмом году бессменно возглавлял одно из управлений на Лубянке, снискавшее довольно мрачную славу.
Много позже, изучая новейшую отечественную историю в школе, а затем и в институте, он тщетно силился понять, как умудрился дед пережить и даже благополучно пересидеть многочисленные лубянские чистки. Складывалось впечатление, что каждая новая сокрушительная волна разоблачений и массовых их репрессий его, напротив, подбрасывала вверх к новым должностям, званиям и кабинетам, с каждым разом все более и более величественным, поражавшим всего своими размерами – маленький Тишкин, видимо, исподволь все же компенсировал свои комплексы и таким способом. Про другие – ходили особо мрачные слухи.
Однако ж, спросить об этом деда он не посмел бы никогда, будь тот и жив, когда подобные вопросы впервые возникли у внука. Впрочем, надо сказать откровенно, особо они его никогда не занимали.
Дед умер, когда ему исполнилось восемь лет, и маленькому Диме показалось, что в этот момент вся семья дружно опустилась с цыпочек, на которых передвигалась предыдущее время. Впервые став на полную стопу.
Впрочем, пока был жив дед, это – опять же – никого особенно не тяготило.
Бабушка умудрялась украшать суровый большевистский быт, диктуемый мужем, при помощи прислуги – горничной и кухарки, заливной осетриной, кулебякой с визигой, и запеченным боком барана. В доме была мебель, карельской березы, вывезенная в сорок пятом из оккупированной Германии, кружевное постельное белье и скатерти того же происхождения, вкупе с картинами известных – как выяснилось позже – мастеров, фарфором и прочей домашней утварью, отлитой преимущественно из благородных металлов.
В отсутствие деда – а он бывал дома редко, предпочитая последние годы, большую дачу в Валентиновке – бабуля не оставляла и своих музыкальных и литературных экзерсисов, охотно посвящая оставленного на попечение внука в тайны петербургского света, известные от русской княгини-народницы, расстрелянной, к слову, в двадцатом, за связь с белоофицерским подпольем. Вероятно – кстати – не без ведома чекиста Тишкина.
Но об этом бабушка вспоминать не любила.
– Все дело в бабушке, именно в ней, – так решил он, рассеянно обозревая окрестности Парижа, мелькавшие за окнами машины. – Загадочные столичные графья, князья были ее неутоленной страстью, ничего удивительного, что ее же любимый Вертинский навеял кладбищенские мотивы. Удивительно другое – как это все ее аристократические заморочки не стоили деду карьеры, а то и головы. Но с дедом вообще много чего удивительного.
Кладбище, – сказал Манэ, сделав ударение на втором слоге. Прозвучало торжественно и немного таинственно. Манэ уже аккуратно парковал машину возле неброских кладбищенских ворот, осененных тенью пышных крон. – Там внутри есть русская церковь. Вас проводить? – Видно было, что ему совсем не хочется бродить по кладбищу, пусть и овеянному славой. К тому же на улице было жарко.
– Нет, спасибо. Я поброжу недолго, оставайтесь здесь. – Ему действительно не нужны были провожатые, он был абсолютно уверен, что прогулка не займет много времени. В конце концов, это был всего лишь каприз, навеянный минутными воспоминаниями детства. Так размышляя, он покинул машину.
Стояло лето одна тысяча девятьсот девяносто восьмого года.
Его звали Дмитрием Поляковым, от роду было ему тридцать девять лет.
В недавнем прошлом был он женат, но теперь состоял в разводе, весьма успешно занимался бизнесом и жил постоянно в Москве.
Двадцатый, страшный век пришел на планету, и шквал немыслимых испытаний обрушился на головы людей. Словно кто-то, впуская в дом новое тысячелетие, неплотно притворил дверь, в оставленную щель – сначала тонкой струйкой, а после полноводным потоком – хлынули страдания и беды.
Еще не грянули залпы на подступах к Зимнему дворцу морозным январским днем 1905-го, не свистели в воздухе нагайки казаков, а вздыбленные кони не казались ожившими творениями Анненкова.
Еще не стреляли в Сараево, и жив был несчастный эрцгерцог Фердинанд
Но уже в холодном и сыром, «чахоточном» воздухе Питера, под серым небом, низко лежащим на крышах домов, была разлита тревога и ожидание грядущих страшных перемен.
Лихорадочное сумасшедшее, замешанное на крови, веселье бушевало в городе.
В известных светских салонах, сияющих хрусталем и бриллиантами, в пристанищах богемы, пронизанных кокаиновым туманом, сумасшедшими спорами и безумными виршами, в грязных трактирах на темных рабочих окраинах – всюду веселились одинаково:, так, словно нынешняя ночь окаянная и последняя не только в жизни, но и на всей планете. А далее – темень, хаос, небытие окутают мир, и в нем ничего: ни вечной жизни, ни расплаты, ни Страшного Суда. И нет над ними более Великого Судии и ничего нет, кроме темных, холодных, пронизанных страхом и пороком ночей.
Смутные, страшные, одни отвратительнее другого, слухи, грязными тяжелыми волнами несла по городу молва, как безразличная ко всему темная холодная река катила волны в гранитных коридорах набережных. Но и они уже не потрясали умы, не заставляли трепетать сердца, ибо нечеловеческое, дьявольское веселье прочно поселилось в городе, рука об руку с тупой апатией узника, приговоренного к скорой смерти.
Так и жили с начала века.
А слякотной и промозглой декабрьской ночью встречали год 1917-й.
Был уже четвертый час пополуночи.
Сильно шумела молодежь в гостиной. Громче других разносился пьяный голос Стивы – младшего сына, Степушки, звавшего всех ехать в какой-то кабак на Васильевском. Он спешил быстрее покинуть дом, чтобы там, без родительских глаз, разгуляться уж так, как привык последние годы.
Пусть едет – ей и вправду было все равно – сын давно стал далеким, чужим молодым мужчиной, из той породы, что всегда вызывала гадливое отторжение.. Но с этим теперь ничего поделать было нельзя. В душе она желала, чтобы он поскорее покинул дом, женившись или поступив на военную службу.
Плохо было то, что они непременно утащат с собой Ирину – семнадцатилетнюю красавицу – младшую, последнюю, дочь, но даже и с этим бороться не было сил.
К тому же страшное подозрение вот уже несколько месяцев снедало душу. Глаза Ирины – и без того огромные – последнее время казались неестественно расширенными, словно безумными. Блестели фарфорово, как у дорогой, искусно исполненной куклы. Речи были туманны и невнятны. Она бывала лихорадочно активна, все порывалась что-то делать – писать стихи, сочинять музыку, немедленно ехать в госпиталь, и там ухаживать за самыми тяжелыми ранеными. Потом вдруг начинала бранить государя, правительство, доказывала неизбежность срочных революционных перемен.
Потом – надолго впадала в апатию, похожу на транс. Часами сидела, не меняя позы, не отводя невидящих глаз от какой-то одной случайно избранной точки.
Она все более утверждалась в мысли, что дочь сражена порочным недугом наркомании, и не знала способов, с этим бороться.
Все чаще ей доносили, что Ирина сопровождает брата во всех его похождениях, и теперь они оба возвращались домой под утро, почти не таясь, лишь слегка приглушая голоса, проходя мимо комнаты матери. А после, до самых сумерек оставались в постелях и выходили к чаю, когда зажигались под окнами газовые фонари, измотанные, помятые, будто и не спали вовсе.
Она почти не говорила с ними, если не считать обыденных фраз, без которых невозможно обойтись, живя под одной крышей, и совершенно не имела представления, как станут жить дальше.
В будущем мерещилось ей что-то ужасное настолько, что даже не могла себе представить этого более или менее определенно, и сердце в груди почти переставало биться, замирало, предчувствуя страшную кончину.
Ужасным было и то, что некому было рассказать о постигшем несчастии. Несколько лет назад она овдовела, и, кроме двоих детей, рядом не было ни одной близкой души. Делиться подобным с приятельницами не принято было в их кругу. И память о покойном муже не позволяла вынести позор из стен прославленного дома.
В молодости она была душевно близка с сестрой – Ольгой. Но та каким-то непостижимым образом, – потому что и увлечения, и верования и представления о жизни у них – казалось – были безумно схожи, – вдруг решительно отреклась от мирской жизни, со страшным скандалом покинула родительский дом и приняла постриг в небольшом монастыре на юге России. Они переписывались изредка, но все реже и реже, потому что каждой – жизнь другой казалась далекой и неинтересной – писать, стало быть, было не о чем. Сейчас ей было лишь известно, что сестра жива, по-прежнему монашествует далеко на юге. Но мысли, написать ей о теперешней беде не приходило в голову – Ольга стала совершенно чужим человеком. Д даже облик в памяти был размыт и переменчив. Иногда сестра вспоминалась ей одной, а иногда совершенно иначе. Перебирая в минуты особой тоски старые семейные фотографии, она с удивлением смотрела на молодую девушку с глубокими, тогда уже строгим, задумчивым взглядом и тяжелой косой, переброшенной через плечо.
Громко хлопнула дверь парадной – дети покинули дом. Ей не хотелось даже думать о том, куда они направились теперь.
Стараясь не шуметь, прислуга убирала посуду в гостиной, боясь потревожить сон хозяйки.
Была половина четвертого утра.
Наступил год одна тысяча девятьсот семнадцатый.
В девичестве ее звали княжной Ниной Долгорукой.
Теперь же ей шел пятьдесят третий год и она звалась баронессой фон Паллен.
День и впрямь выдался жарким.
Он ощутил это сполна, едва покинув прохладный салон автомобиля и ступив на раскаленный асфальт мостовой.
Однако уже через несколько минут зной перестал быть нестерпимым и даже просто раздражать – он шагнул за кладбищенские ворота, а там под сенью деревьев в тиши и покое дышалось иначе. Воздух был пропитан ароматом цветущих кустарников, молодой травы и свежей земли, особенно сильным в жарком мареве дня, но именно это и скрадывало жару.
Чем-то еще был насыщен этот воздух, и он не знал тому названия, но именно так всегда пахнет на кладбищах, причем именно на юге.
Много лет назад, когда живы были еще родственники в маленьком южном городке, бабушка наезжала к ним каждое лето. И непременно тащила его с собой. Там они обязательно ходили на кладбище, посещая многочисленные могилы умершей родни. На это уходил, как правило, целый день. Он хорошо помнил маленькое ухоженное кладбище с аккуратными дорожками, посыпанными гравием, и строгими скорбными пирамидальными тополями, обрамляющими главную аллею, и даже название его помнил до сих пор – кладбище называлось «Госпитальным». Сейчас знаменитое на весь мир русское кладбище в предместье французской столицы каким-то образом напомнило ему то, далекое, провинциальное, теперь, возможно, уже и стертое с лица земли какими-нибудь новостройками.
Еще он вспомнил, что однажды спросил у бабушки, почему кладбище называется госпитальным, и она объяснила: сначала здесь хоронили солдат, скончавшихся от ран в госпитале во время войны.
– Какой войны? С фашистами? – он пребывал в том возрасте, когда мальчишек весьма интересуют военные истории и войны вообще.
– Господи, конечно же нет, глупенький, – ответила бабушка, – Гражданской войны, с белыми. Пойдем, я покажу тебе монумент красным солдатам.
Они довольно долго пробирались в дальний конец кладбища, к самой ограде, здесь дорожки были запущены, кустарники и высокая трава отвоевывали себе куда больше пространства. Но бабушка была женщиной целенаправленной – в конце концов они выбрались на маленький пятачок, в центре которого высился небольшой обелиск из белого камня, увенчанный красной звездой. «Героическим бойцам Красной гвардии, павшим в борьбе с белогвардейскими мятежниками. Октябрь 1921 года» – такие слова были высечены на обелиске, а три белые мраморные плиты под ним испещрены именами солдат революции. Бронзовое тиснение кое-где облупилось, слова читались с трудом, но дежурные венки – правда, весьма пожухлые, оплетенные выцветшими в желтизну, некогда алыми лентами, подпирали обелиск со всех сторон. Из чего следовало, что память красных бойцов по-прежнему чтят.
Бабушка, однако, осталась недовольна и, осуждающе покачивая кружевным старорежимным зонтиком, грустно заметила:
– А ведь здесь похоронены и дедушкины товарищи: чекисты, убитые мятежниками.
Он – однако ж – почти не расслышал, потому что внимательно изучал какие-то странные бугорки, прилепившиеся к щербатой кладбищенской стене, густо поросшие высоким бурьяном, из-под которого проглядывалась гниющая листва.
Там что, мусор складывают?
Проблема мусора взволновала его не случайно, бабушка была великой аккуратисткой: засохшие цветы и черепки разбитой вазочки, собранные с могилы родственников, не выбросила за ограду, а педантично сложила в пластиковый пакетик, который поручила ему донести до помойки возле кладбищенских ворот. Пакетик сильно обременял, и сейчас он обрадовался возможности от него избавиться, но ошибся.
Более того, бабушка отчего-то рассердилась.
– Нет, не мусор. Что ты везде суешь свой нос! Там зарыты преступники. – Она схватила его за руку и почти поволокла назад, но он не обратил на это внимания – так был потрясен услышанным.
– Как зарыты? Без гробов? – Почему-то он именно так представил себе значение слова «зарыты». В другом случае она, наверное, сказала бы – похоронены.
– Господи Боже мой! Что ты несешь? Откуда я знаю, как они зарыты? – Они почти бежали по заросшей тропинке, пробираясь к центральной аллее, но он не унимался.
– Какие преступники, бандиты?
– Белогвардейцы, мятежники. Они убили дедушкиных друзей, я же говорила тебе, ты ничего не слушаешь. – Бабушка почти плакала, но в него словно вселился бес.
– А кто их зарыл?
– Да замолчи ты, прости, Господи, душу мою грешную! Это не ребенок, а наказание Господне! Откуда я знаю, кто их зарыл? Солдаты, наверное, или заключенные… Все, немедленно закрой свой рот, и чтобы я тебя больше не слышала! Мне сейчас будет плохо с сердцем!
Этого он боялся. Когда бабушке становилось плохо с сердцем, пугался даже дедушка. Говорили, что у нее стенокардия или грудная жаба. От одного этого названия хотелось плакать. Теперь он немедленно замолчал, и тема была закрыта.
А потом он просто все это забыл, чтобы тридцать с лишним лет спустя, вдруг вспомнить отчетливо и ярко, ступив на тенистые аллеи русского кладбища Сент Женевьев-де Буа под Парижем.
«Странная все же штука, наша память», – подумал он, но долго предаваться размышлениям пришлось, внимание оказалось приковано к могильным плитам и надписям на них. Он медленно читал их, шагая вдоль безлюдных аллей, и едва ли не слышал, как тихо шелестят страницы истории. Или вдруг оживали в памяти поэтические строчки, отзываясь на имя, высеченное на мраморе.. Душа же пребывала в состоянии удивительного покоя и умиротворения, которое редко испытывал в своей суетной жизни.
И не было ни печали, ни тоски.
Не скорбью веяло от старых плит, а тихой светлой грустью.
И это редкое состояние души, вместе с удивительным, ни на что не похожим ароматом, растворенным в горячем воздухе, было так приятно и даже восхитительно (хотя в обыденной жизни он был чужд какому бы то ни было пафосу и уж тем более чувствительной восторженности), что хотелось, чтобы это длилось вечно.
Он не замечал времени и все шел и шел вдоль величавых надгробий, не чувствуя усталости и не намереваясь возвращаться в машину, по крайней мере в ближайшие часы.
Был рабочий день, аллеи кладбища совершенно безлюдны, поэтому он сразу заметил на женщину, неподвижно стоящую возле одной из могил в самой старой части кладбища.
Он как раз направлялся туда и несколько замедлил шаг, размышляя, прилично ли будет пройти мимо.
Очевидно было, что это не праздная – как он – посетительница знаменитого кладбища – пришла поклониться какой-то родной могиле. Однако ж, путь его лежал как раз по этой аллее, и он решился, пройти рядом, стараясь, не потревожить ее своим присутствием.
Надо сказать, что в обычной жизни он не был столь щепетилен, напротив, многие – возможно и справедливо – упрекали его, как раз в отсутствии деликатности, излишней жесткости, и полном пренебрежении чужими интересами. Таковы, впрочем, были нравы его круга.
Но сейчас, под сенью старого кладбища, с ним творилось действительно нечто не совсем обычное, по крайней мере, состояние, которое он испытывал, было настолько непривычно и наполняло душу таким трепетным, незнакомым чувством, что он действительно, и совершенно искренне притом, боялся потревожить незнакомую женщину у чужой, неизвестной могилы. Потому старался ступать как можно аккуратнее, но, исподволь все же разглядывал хрупкую фигуру, к которой медленно приближался.
Он сразу про себя назвал ее хрупкой, и первое впечатление было как нельзя более верным – женщина была небольшого тоненькой и небольшого роста. Держалась она очень прямо, отчего напоминала балерину. Тому способствовали, наверное, еще и руки, по-балетному скрещенные на груди. Лица ее он не видел, но хорошо разглядел тяжелые темные волосы, низко собранные на затылке в большой пучок, который, казалось, тянул маленькую голову назад, отчего и голову она держала очень прямо, высоко подняв подбородок. Виделось в ее облике что-то ужасно несовременное, хотя строгий черный костюм, был вполне современного покроя, и узкая юбка высоко открывала стройные ноги, обутые в черные лодочки на очень высоком каблуке. К тому же он абсолютно был уверен, что женщина молода, хотя внешность француженок, даже при самом ближайшем рассмотрении зачастую оказывается обманчивой: такой фигурой вполне могла обладать его ровесница, и дама значительно старше. Но эта была молодой – лет двадцати – двадцати двух, не более, он готов был спорить на что угодно.
Он двигался по аллее как зачарованный, не смея отвести от незнакомки глаз, и это было еще одной странностью сегодняшнего состояния.
Дело в том, что женщина была совершенно не в его стиле: ему никогда не нравились субтильные, мелкие брюнетки – в своих пристрастиях был более проще и ближе принятым теперь традициям.
Он поравнялся с ней, ступая едва ли не на цыпочках, боясь перевести дух, но обостренное – как прочие чувства – обоняние различило тонкий запах духов, конечно, совершенно незнакомый и тоже какой-то несовременный. Терпкий и слегка горьковатый запах влажной листвы, какого-то экзотического растения.
Глаза – между тем – через плечо незнакомки, стремительно и словно воровато читали в надпись на скромном памятнике черного гранита: «Барон Степан Аркадьевич фон Паллен. 1896 – 1959. Упокой, Господи, душу раба твоего».
«Фон Паллен», – повторил он про себя, не замечая, почти остановился за спиной незнакомки.
Это имя ничего не говорило ему.
Но подумать об этом он не успел.
Женщина медленно повернулась к нему, и первое, что он увидел, почему-то была шляпка. Соломенная черная шляпка с широкими полями, отороченными паутинкой вуали, – именно потому она так необычно держала руки на груди – прижимала к себе шляпу.
Потом он взглянул ей в лицо и был поражен, хотя никак нельзя было сказать, что оно безупречно красиво.
Поражали глаза – огромные, совершенно немыслимого и не виданного никогда фиалкового цвета, они казались особенно яркими под густыми черными ресницами и гордыми, красиво очерченными бровями. К тому же она была довольно смуглой, и это еще больше подчеркивало фантастический эффект глаз.
– Вы русский? – обратилась она к нему низким хрипловатым голосом. Говорила без малейшего акцента, но то, как произнесла эти два слова, было так же необычно и странно, как ее глаза.
Ехать они решили на авто, которое недавно приобрел Стива, хотя это было и неразумно и рискованно.
Во-первых, их было много – и трудно было себе представить, что все смогут поместиться в небольшой салоне. а во-вторых, Стива еще очень плохо управлялся с новой игрушкой и дважды уже чуть не задавил пешеходов на мостовой, едва не столкнулся с извозчиком, к тому же был ь сильно пьян и даже идти мог с трудом.
Но в этом-то как раз и было все дело – пьяны в той или иной степени были все – и всем, как раз, хотелось неразумного и рискованного.
Каким-то невероятным образом они поместились на обитых блестящей малиновой кожей сиденьях автомобиля, Стива взгромоздился за руль, и машина помчалась по темным промозглым улицам.
Даже намека не было этой ночью на новогодний мороз, зима стороной обходила столицу империи, словно боясь замарать свои белые одежды.
Они поехали в «Самарканд», к цыганам, намереваясь по-настоящему начать праздновать там. Дома было ужасно скучно, невыносимо жаль maman, с ее грустными, как у лошади, глазами, и вечной потугой, сохранить хорошую мину при плохой игре. Их гости были ей ужасны, но она через силу улыбалась, стараясь быть любезной. Пьяный Стива пугал ее, и она смотрела на него с ужасом уездной гимназистки, но с любовью и таким страданием, что у Ирэн сжималось сердце. О себе ей думать и вовсе не хотелось, maman конечно же обо всем давно догадалась, но заговорить об этом не смела, именно не смела, словно это она была младшей дочерью Ирэн, а не наоборот.
Вообще отношение к maman у Ирэн было крайне противоречивым – она и любила, и жалела ее, рано увядшую, одинокую, безнадежно отставшую от жизни, но эти чувства терзали ее душу – причем иногда до слез – только когда maman не было рядом. Но стоило ей взглянуть в большие, добрые и безмерно глупые глаза maman, услышать ее тихий глуховатый «голос, которым она сбивчиво, невнятно и всегда совершенно некстати говорила что-то скучное – в груди Ирэн немедленно поднималась волна холодного бешенства. И если, сдержавшись, она не грубила откровенно, то демонстративно поступала так, чтобы больнее задеть maman.
Конечно, она могла быть куда более изобретательной и сделать так, что maman никогда не догадалась бы о ее модном пороке, но дело именно и заключалось в том, что она этого хотела. И, видя отчаяние матери, испытывала нечто похожее на мстительную радость.
При всем, при том Ирэн фон Паллен не была ни жестоким, ни даже просто злым существом.
Напротив, порой она казалась себе излишне сентиментальной, могла ночами напролет рыдать, представляя какую-нибудь душещипательную историю со своим участием. К примеру, трагический роман со скоротечной чахоткой в итоге. Или героическое подвижничество где-нибудь, на самом кровавом участке фронта. Или свой уход в революцию с неизбежной виселицей в финале.
Она обладала богатой фантазией, что было, видимо, все-таки следствием воспитания maman, могла часами придумывать новые истории про себя, проживая их, как если бы они происходили на самом деле.
В этих фантазиях она всегда была отважна и благородна, часто знаменита и обязательно кем-нибудь безумно любима.
В реальной жизни все было скучно, пошло и уже к восемнадцати годам изрядно ей надоело.
Баронесса Ирина фон Паллен была девушкой ослепительно красивой, хотя черты ее лица мало соответствовали представлениям об абсолютной красоте. Она была смугла, скуласта, нос был несколько крупноват, хотя и отмечен красивой горбинкой, к тому же с подростковых лет сохранила она какую-то болезненную худобу и некоторую истерическую резкость движений. Однако все недостатки меркли, когда распахивала она свои нечеловечески красивые глаза – огромные, густого фиолетового цвета, какой в природе встречается только у некоторых редких сортов цветов. Их иногда называли фиалковыми, но ошибались – листья фиалок были куда более бледны. Кроме того, глаза ее как бы переливались под густыми темными бровями, то сияли ярко, словно подсвеченные изнутри, то наливались чернотой. Тогда фиолет только угадывался в них, как в черных сапфирах угадывается яркая синева собратьев.
К тому же Ирэн фон Паллен была девушкой баснословно богатой.
Ее отец – барон фон Паллен, удачливый фабрикант и банкир, наследовавший в ранней молодости финансовую империю европейского масштаба, фамильное добро умножил многократно. И к моменту своей скоропостижной смерти оставил огромное состояние, заключенное в акциях процветающих предприятий, золотых приисков, крупных банков, недвижимости и земельных владений в России и серьезных банковских вложениях за ее пределами. О нескольких доходных домах в Санкт-Петербурге, собственном особняке на Литейном, имении в Крыму, конном заводе на Кубани и огромной коллекции живописи и драгоценностей говорить уже не приходилось. Наследовали все эти несметные богатства трое: вдова фон Паллена – баронесса Нина Дмитриевна, урожденная княжна Долгорукая, и двое их детей – сын Степан Аркадьевич и дочь Ирина Аркадьевна фон Паллены.
Надо ли говорить, Ирина Аркадьевна с раннего девичества отбоя от поклонников не знала, десятком из них – по крайней мере – была искренне и преданно любима. И более того: юнкер, принадлежащий к древней, славной фамилии, стрелялся из-за ее холодности, к счастью – не до смерти.
Однако все это было Ирине Аркадьевне скучно и не имело ничего общего с теми фантазиями, которыми она грезила по ночам.
В то же время о скверном характере молодой баронессы в столице империи ходили легенды.
Она была взбалмошна, капризна, истерична – и часто устраивала совершенно непотребные публичные сцены, либо надолго впадала в черную меланхолию, часами молчала, не реагируя на обращенные к ней слова, и вдруг начинала бурно рыдать или говорила что-то странное, невнятное, напоминающее мистический бред медиумов, глядя перед собой огромными невидящими глазами.
Единственный человек, не вызывающий в ней – причем в первые же минуты знакомства – смертельной скуки и желания беспрестанно дерзить и говорить холодные унизительные гадости, был старший брат Стива, репутация которого в свете была, к слову, многим хуже, нежели ее собственная.
В ранней юности, едва начав осознавать себя женщиной, – а это случилось с ней рано – на тринадцатом году жизни, – она отчаянно влюбилась в брата, и, подкарауливая его, пьяного, когда под утро – таясь живого еще папеньки – тот пробирался к себе, с упоением первой страсти подглядывала за ним везде, куда могла незаметно пробраться.
Однажды он поймал ее за этим занятием, и после этого происходило между ними много такого, что наверняка свело бы добродетельную маменьку в могилу, узнай она о том ненароком.
Однако Стива был изрядным трусом и не позволил им зайти слишком далеко, хотя, с детским восторгом предаваясь новым ощущениям, она все время требовала большего. Он изрядно просветил ее в искусстве плотской любви, сумел разбудить в детском теле женщину. Но и только. Тогда – Ирэн перестала искать его ласк, и со свойственной решительностью отдалась, по сути, первому встречному – учителю латыни, приглашенному в крымское имение на лето. К тому времени ей едва исполнилось четырнадцать лет.
С той поры брат перестал существовать для Ирэн, как мужчина Она без труда находила себе новых партнеров, потрясая тех неожиданным темпераментом и отменным владением приемами сексуального наслаждения, при полном отсутствии каких-либо чувств и яростном нежелании вести разговоры о любви. Она занималась любовью с упоением и более не желала ничего об этом знать и думать.
Брата же – теперь любила настоящей сестринской любовью, прощая ему многочисленные пороки, грубость, подлость, зачастую, адресованную сестре.
Ей всегда были интересны его затеи, как дурны они ни были, и, надо сказать, что, будучи личностью довольно ограниченной и исключительно самовлюбленной, Стива честно признавал: лучшего советчика и сообщника в его начинаниях, не посылала ему судьба.
В ресторане было шумно, пьяно, весело и страшно накурено – хрустальные люстры, как целомудренные палантины – дамские плечи, плотно окутывали сизые клубы дыма, а плечи и декольте дам, напротив, были открыты сверх меры, облиты потоками бриллиантов, сапфиров, жемчуга и прочих драгоценностей, мерцавших ярче хрустальных подвесок люстр.
Уже мало кто слушал надрывные перепевы цыган, все громко говорили, почти кричали, стараясь быть услышанными в сплошном гуле человеческих голосов, музыки, звона бокалов и посуды.
Было много знакомых лиц. Кто-то – так же, как они – приехал только что, встретив Новый год дома. Кто-то провел всю праздничную ночь в ресторане. Все были пьяны, лихорадочно – как и все последнее время – веселы. Все жаждали новых, острых ощущений и еще чего-то, что, сгустившись, висело в прокуренном пространстве, напоенном ароматом вин, еды и разгоряченных человеческих тел.
Возможно, имя всему этому было – порок, но сейчас никто об этом не думал.
Они не задержались в ресторане, а, соединившись с еще одной компанией, решили ехать на Васильевский, в гости к кому-нибудь из признанных кумиров богемы, там – в большинстве – проживающих.
К Ворону! – пьяно закричал кто-то и тут же осекся, словно сам испугался своей дерзости.
Но было поздно – призыв был услышан.
К Ворону!
Сердце Ирэн дрогнуло и сжалось. Такое случалось с ней редко – несмотря на все истерики и меланхолию, она была смелой и даже отчаянной женщиной.
Сейчас она испугалась, но это было не мудрено. Под псевдонимом Ворон скрывался странный поэт, ставший вдруг удивительно модным, Стихи его были дурны, дышали мрачной злобой и унынием, в них ничего нельзя было толком понять, но тогда многие писали так. Однако, между строк у этого жили какие-то особенно пугающие тени, призраки и видения, неловкие рифмы были как-то особенно жутки, и часто, откладывая книжку журнала, она ощущала приступ беспричинного ужаса, холодным туманом наплывавшего из темных углов.
Слухи о нем ходили еще более зловещие. Одни говорили – к примеру – что поэзия, лишь мимолетный каприз страшного человека – то ли разбойника, то ли боевика-революционера, руки которого по локоть обагрены человеческой кровью. Другие утверждали, что псевдоним скрывает уже очень пожилого человека, посвятившего себя изучению оккультных наук и немало в том преуспевшего. Говорили: он долго скитался по свету, достигнув самых отдаленных и загадочных мест – был с экспедицией на Тибете и в африканских джунглях, где обучился кровавым магическим ритуалам. Словом, говорили много разного, но непременно туманного и пугающего, как и сами стихи Ворона. В чем, впрочем, не было ничего из ряда во н выходящего. Имперская столица тогда кишела странными и страшными слухами и бурлила ими, как чаша, переполненная до края напитком опасным: пьянящим и обманчивым.
Слухов было много, но верить большинству – конечно же – было нельзя.
Но как бы там ни было, имя Ворона пугало и манило многих.
– К Ворону! – с энтузиазмом поддержал предложение и Стива. – Поедем, mon ange, честью клянусь, ты не пожалеешь.
– Разве вы знакомы? – спросила она брата, зябко переступая ногами, обутыми в тонкие атласные туфельки, расшитые бисером, по грязной снежной кашице, – с неба беспрестанно сыпала мелкая ледяная изморозь – нечто среднее между дождем и снегом и тротуар покрылся мокрой холодной грязью.
– О-о-о! Знакомы ли мы! Да мы приятели! Нет, что это я вру – он друг мне! Вот так именно – друг! И близкий! Удивительно даже, что ты ничего не знала об этом, mon ange. Право, странно слышать от тебя этот вопрос. Ха! Знакомы ли мы! – Пьяный Стива говорил громко и возбужденно.
Но Ирэн слишком хорошо знала брата, чтобы поверить ему. Совершенно определенно – Стива врал. Возможно, когда-нибудь, мельком, он и видел таинственного поэта, но уж точно не был приятелем и тем более другом. Однако то, что Стива так просто, в обычной своей развязной манере говорил об этом человеке, несколько успокоило Ирэн. Волнение улеглось, и ей теперь было просто любопытно взглянуть на того, о ком говорили так много и так странно.
Сейчас она была почти трезва – опьянение шампанским прошло вместе с лихорадочным радостным возбуждением, ее пеленала вязкая сонливость, голова становилась все более тяжелой, готова была вот-вот разболеться всерьез. Она хорошо знала, что выйти из этого состояния может только одним способом – вдохнув солидную порцию кокаина – тогда прояснится сознание, придут фантастические идеи, все как одна радужные и воздушные, как чистый снег, летящий из прозрачной синевы, тело станет легким, гибким, звонким – потребует неистовых ласк, которые она наверняка обретет этой сумасшедшей, пьяной новогодней ночью.
Но за кокой – уж точно – надо было ехать на Васильевский.
Мысли о Вороне отступили у нее на второй план. Авто, отчаянно сигналя звонким фальшивым клаксоном, рискованно виляя корпусом на поворотах, неслось по ночному городу, безмолвному и, казалось, безразличному ко всему, что происходило нынешней ночью в глухих каменных лабиринтах.
– Что, говоришь, здесь было?
– Сначала психушка, а до нее – монастырь, потом опять хотели монастырь, но денег не нашли. Теперь – пустует, уже года два, может, и больше. Хорошее место, Мага, дело говорю.
– Повтори еще раз, но так, чтобы понятно было всем. Кто из нас не русский, я что-то не пойму, ты, Граф, или я? Ты что-нибудь понял, Аха?
– Был монастырь, из-за горы и нынче видит пешеход столпы обрушенных ворот…
– Это что такое?
– Это не что, Мага, а кто. Это Лермонтов, великий русский поэт. Ты в школе учился?
– Учился, не умничай, литератор. Так что здесь было? Кто-нибудь из вас будет говорить?
– Только не бей, Мага, только не бей, я все скажу. – Тот, кого назвали Графом, изобразил крайний испуг, в панике замахал руками, и сам, первый, громко рассмеялся своей шутке.
Двое других ее не оценили.
Мага, высокий широкоплечий чеченец, смуглый, с яркими зелеными глазами, отмеченный какой-то свирепой красотой то ли истинного горца, из какой-нибудь исторической драмы, то ли героя второго плана из современного боевика. Он не был старшим среди них ни по возрасту, ни по рангу, но привычка принимать ответственные решения, выработанная и отшлифованная прошлой жизнью, давала себя знать. Он невольно переходил на командный тон, не встречая, впрочем, особого сопротивления со стороны компаньонов.
Тот, кого звали Графом, возражать бы просто не посмел. На самом деле он был мелким бандитом, каковым, впрочем, считал себя сам. Настоящие бандиты, вероятно, считали его жуликом, средне руки, всегда готовым подсобить, если дело казалось не слишком опасным, чреватым большим сроком или более серьезными последствиями.
Он имел за плечами несколько лет, проведенных в заключении за разные мелкие преступления, и сейчас промышлял тем же.
Громкая кличка прилипла к нему, как водится, из-за фамилии. И то – относительно недавно. Звали его Василием Орловым. Представляясь как-то заезжему столичному предпринимателю, Васька вдруг совершенно не похоже на себя, с достоинством коротко произнес: «Орлов!» Предприниматель, хоть и был к тому моменту в сильном подпитии, отреагировал адекватно: «Граф?» Принимающая сторона, имевшая в столичных инвестициях сильную нужду, с готовностью отозвалась дружным хохотом. Впрочем, шутка, похоже, действительно удалась. После – Ваську Орленка иначе, чем Графом, уже не звали.
Он был доволен.
Третий в группе, был, действительно, старшим, единственным – уполномоченным, принимать решения. Но он был человеком творческим. В прошлой, довоенной жизни – было дело – писал стихи и философские эссе, образование получил в престижном московском институте. Война сильно изменила его, но и теперь он мог позволить интеллигентскую роскошь, не следить за соблюдением формальностей и, легко уступив видимую часть руководства, отстраненно цитировать Лермонтова, которого, на самом деле, любил.
Никто из двоих чеченцев не засмеялся шутке Графа, хотя причина у каждого была своя.
Дня Маги это была несмешная шутка, ибо был убежден – бить человека дело вполне серьезное, чему ж тут смеяться?
Ахмет – предпочитал Графа просто не замечать. Презирал его трусость, которая постоянно и очевидно для всех боролась с жадностью, и наоборот.
Но Граф был местным – обоим до поры приходилось его терпеть.
Впрочем, требовалось от него, да и от них, сейчас немного – нужно было найти подходящее место для промежуточной базы основного отряда в непосредственной близости от границы Ичкерии, но на территории России. Готовилась крупная, серьезная операция с прорывом на российскую территорию, проведением мощных террористических актов и захватом заложников.
Джип Графа Орлова был настолько приметным, известным в округе каждому бандиту и милиционеру, что лучшей машины для передвижения было не найти, кроме того, он родился в этих краях, именно в этих – ныне приграничных – и знал их отменно.
Сейчас он привез их к непонятному строению, вернее целой системе ветхих построек, обнесенных сильно разрушенной стеной, совершенно одиноких в раскаленной, пыльной степи, раскинувшейся от края до края. Так – по крайней мере – казалось, стоило отъехать от околицы ближайшей станицы.
Причем, когда это самое «от края до края» возникало в голове, имелось в виду ни много ни мало: от края до края мира.
Мысль эта, естественно, посетила Ахмета, более – из всей троицы – такие умственные построения придти не могли ни к кому. Он же степь не любил. Она рождала в нем глухую, как ноющая зубная боль, тоску и ощущение собственного ничтожества в огромном чужом и чуждом, неприветливом мире. Он казался себе сухой травинкой, выдернутой с корнем из земли, крохотной частицей раскаленной почвы, которую горячие порывы ветра гонят прочь, как чуждое, инородное тело.
То же ощущение захлестывало его в больших городах, особенно в Москве, куда приехал он семнадцатилетним мальчиком, любимцем своей семьи, своего рода и своего маленького горного селения. Там он был самым умным, всем на удивление, образованным и романтичным, и никто не посмел бы смеяться над последним. В нем как-то сразу и все: от патриархов рода до сверстников, превыше всего почитающих физическую силу, жесткость и умение постоять за себя, признали талант художника, которым вскоре все будут непременно гордится. С тем и приехал он в Москву, чтобы впервые отхлебнуть из горькой чаши неприятия, непонимания и безразличия к человеку вообще, и к человеческой жизни, в прямом понимании этого слова, в частности.
Он был уверен: случись ему вдруг распластаться на рельсах метро под колесами смертоносного состава– толпа на платформе лишь всколыхнулась бы на несколько минут. Ровно настолько, сколько потребовалось сноровистым рабочим, чтобы убрать растерзанное тело с ее глаз, и снова увлеченно уткнется в свое неизменное чтиво. В ту пору – кстати – это мог быть и Борхес, и Кастанеда. Тогда он впервые почувствовал себя мелкой частицей чего-то малозначительного, недостойного даже внимания людей. Чего-то, что гонит ветер по серому, асфальту московских улиц. Однако ж, с Москвой все было намного серьезнее и страшнее – ее он любил. Безумно, безоглядно. И это была настоящая неразделенная любовь со всеми полагающимися муками – страстью, ревностью, желанием владеть безраздельно, жгучим стремлением сломить, поставить на колени и одновременно вознести до небес. Эта рана не заживала никогда.
Здесь было легче – степь не вызывала в нем ничего, кроме тупой тяжелой тоски.
Итак, это был заброшенный монастырь.
Графу Орлову пришлось объяснять все еще раз, пока не понял Мага: монастырь, причем женский, существовал на этом месте до революции. Впрочем, тогда это были отнюдь не развалины, вокруг, вдалеке рассыпались богатые казачьи станицы – монахини ни в чем не знали нужды. Правда, и сами трудились не покладая рук, во многих домах по сей день берегут удивительной красоты кружевные монастырские скатерти, салфетки, покрывала, искусно вышитые шелком занавески и сорочки, крохотные сумочки, кисеты для табака и целые картины-панно из бисера – все творения рук монашеских.
С приходом большевиков все закончилось разом.
Причем именно этот монастырь разоряли как-то особенно жестоко и кроваво. Не многие сестры уцелели, после страшного большевистского погрома. Большинство нашли свою смерть тут же на монастырском дворе, порубанные лихими чекистами. Некоторые – как гласит молва – сгорели заживо, потому что, закончив кровавое дело, воины революции монастырские строения подожгли. Долго бушевал адский огонь, раздуваемый горячими степными ветрами, пока не выжег все дотла, оставив только обугленные кирпичные стены да каменную ограду, никому не нужную.
Долгое время к сожженному монастырю не смели даже приблизиться. Обугленные руины одиноко чернели в степи, пугая редких проезжих.
Жутким стало некогда святое место.
Однако после войны кто-то из тогдашних хозяев края решил восстановить монастырские строения, чтобы разместить в них психиатрическую лечебницу, нужда в которой в ту пору была большая. Старинная, царской еще постройки областная психбольница была совсем мала, требовала серьезного ремонта и располагалась – что было главным неудобством – в самом центре города, рядом с новеньким зданием областного комитета партии. Ситуация складывалась не только неловкая, но и почти политическая, поскольку выходило так, что отлитый в бронзе вождь трудового народа, вознесенный на монумент у здания обкома, как полагалось, руку простирал вперед, увлекая народ в светлое будущее. Каким-то загадочным образом – однако ж – получалось так, что указующая длань вождя нацелена была – как раз – на покосившееся крыльцо городской психушки. Терпеть такое безобразие под окнами собственных кабинетов партийные начальники не хотели, да и не могли – решение отселить городских сумасшедших, принято незамедлительно. Кому-то вспомнился степной монастырь. Собственно, в таком повороте событий, была и некоторая логика, и некоторый даже гуманизм: разместить на том окаянном месте нормальных людей значило бы в скором времени обречь их на умопомешательство. Пациентам психушки это – по крайней мере – уже не грозило. Что же до медперсонала, он в ту пору, как правило, состоял из людей с крепкими нервами.
Дело сделалось быстро. В те годы – было бы решение – строили без проволочек.
Областная психиатрическая больница поселилась в глухой, продуваемой шальными ветрами степи на долгие годы. Правда, пользовалась очень дурной славой, и даже самые жестокосердные станичники не спешили отдавать в эти стены захворавших родичей.
Потому – а может, в силу, какой другой причины – свободных коек в больнице всегда оставалось предостаточно. Тогда рачительное медицинское начальство стало направлять сюда пациентов определенного сорта: заключенных, отбывших положенный срок в спецбольницах, бездомных, бродяг, одиноких умалишенных. Их везли отовсюду: со всех концов огромной империи, и скромная степная больница приобрела статус всесоюзной.
Позже, уже в зрелые брежневские времена, когда последние ростки хрущевской оттепели прочно заковали панцирем нового «застойного» порядка, расшумевшуюся, было, передовую интеллигенцию окончательно вытеснили на грязные малогабаритные кухни, где она, несчастная, сочла – в большинстве – за лучше «стучать, чем перестукиваться», степную больницу полюбили спецслужбы. Их в ту пору – на анатомический лад – звали органами.
Тогда-то в мрачных стенах стали появляться совсем уж странные, непонятные пациенты. Появлялись и часто исчезали – не замеченными, не учтенными даже скупой канцелярией «желтого дома».
Совсем черным стало это место.
Случись здесь проезжать – вдобавок, ночью – казаку из местных, хоть верхом, хоть за рулем юркого уазика или тяжелого ГАЗа, завидев в непроглядной тьме тусклые огни над больничной оградой, припозднившийся странник, непременно поминал Господа, пусть и мысленно, скороговоркой. И отчаянно прибавлял ходу.
Пришли иные времена.
Терзаемые неугасаемой страстью предшественников, крушить «до основания» – младодемократы проклятую больницу немедленно закрыли.
Правда, торжественного освобождения из стен коммунистической неволи узников совести не получилось, в силу того обстоятельства, что последние лет пять, таковых здесь не было.
Громить апологетов карающей советской психиатрии тоже было не с руки: в момент торжественного закрытия больницы, в штате числились пять медицинских сестер, столько же нянечек и всего два врача. Все пребывали в глубоком пенсионном возрасте и – откровенно – на первый взгляд, больше походили на своих несчастных пациентов. Больные же, в большинстве своем, были люди тихие и безобидные.
После торжественного закрытия лечебницы, которое все же состоялось, они как-то незаметно разбрелись по миру, и странная степная обитель вновь – во второй уже раз – опустела.
Теперь у ее стен стояли трое.
Стояли не таясь – со всех сторон их окружала только горячая безлюдная степь, и солнце одно все видело сверху, опрокидывая на головы пришельцев потоки жары.
Таких женщин Поляков определенно не любил.
Логично было предположить: он их боялся. Такие, обычно, бывают колючими, а случается – очень жестокими.
И – следуя дальше – можно было представить: нарвавшись однажды, в далеком прошлом, на такую вот, с острыми, опасно ранящими углами, он – даже начисто забыв реальную – другую, похожую внешне, близко к себе не подпустит, а то и – походя – мстительно пнет побольнее. Сознание человеческое, не склонное к мазохизму, воспоминания о пережитой боли пытается, как правило, вытеснить прочь, если, конечно, сам пострадавший отчаянно не сопротивляется тому, засушивая розы последнего букета, обильно орошенного слезами. С ним, однако, ничего подобного никогда не происходило. Просто – не любил ничего эдакого, «с подвыпендертом» – как говаривала бабушка. И с детства, без разъяснений очень хорошо понимал, что означает это странное труднопроизносимое слово.
Он любил то, что было понятно, мило глазу и душе, распахнуто навстречу, давалось сердцу и уму без особых нравственных затрат. И это касалось абсолютно всего, с чем – так или иначе – имел дело: литературных произведений, музыки, поэзии, живописи, художественных фильмов и театральных постановок, знакомых людей и добрых приятелей, фасонов одежды, которую носил, мебели в квартире и офисе, отелей, в которых останавливался, парфюмов, которыми пользовался, часов на запястье и, конечно же, женщин, на которых обращал внимание. При том, он был и снобом, и сибаритом, поскольку мог себе это позволить. Обожал комфорт и роскошь, имел собственные, а не навязанные мнением других – именуемым зачастую модой – представления о том, что есть прекрасно, а что просто хорошо.
Таких женщин Поляков никогда не понимал.
В сложных и, возможно, красивых лабиринтах изломанных душ и тел таилось столько непонятного, неожиданного, пугающего, что он взял за правило, попросту обходить их стороной, как картины абстракционистов и книги Карлоса Кастанеды
Она – без сомнения – была именно такой женщиной.
Но именно ее неожиданный вопрос не только остановил его – заставил стать, как вкопанного, и даже будто виноватого, застигнутого за каким-то постыдным занятием. На доли минуты он ощутил абсолютную, неожиданно восторженную растерянность, как если бы лично и персонально к истошному фанату обратился вдруг со сцены его кумир.
Русский. Простите, я потревожил вас. – Он не узнал своего голоса и тех интонаций, которые отчетливо прозвучали. Во рту вдруг пересохло, шершавый язык поворачивался с трудом.
Пустое. Я уже собиралась идти отсюда. – Она, не таясь и нисколько не смущаясь этим, разглядывала его в упор своими неземными фиолетовыми глазами и, несмотря на сказанное, уходить, похоже, не собиралась. По крайней мере, стояла неподвижно и так же прямо, по-балетному, как показалось, сначала. Спиной к могиле и лицом к нему. И также – обеими руками – придерживала на груди черную соломенную шляпу с вуалью. Произнеся это своим низким хрипловатым голосом с тем же странным, необъяснимым акцентом, она замолчала. Но молчание это было каким-то требовательным – она молчала так, будто приказывала ему отвечать немедленно, продолжая их странную беседу, и он подчинился.
– Могу я задать вам вопрос?
– Чья это могила? Разумеется, вопрос естественный. Степан Аркадьевич фон Паллен мой… дедушка. – Она замялась буквально на секунду. Словно подыскивая слово. «Странно, – подумал он почему-то, – так хорошо говорит по-русски и забыла такое простое слово. Совсем не редкое». Она же, словно прочитав его мысли, повторила еще раз: – Да, именно дедушка. Я, знаете, вдруг усомнилась, так ли это звучит. Дома мы, разумеется, всегда говорим по-русски, но дедушка умер так давно, maman еще не была и замужем.
– В тысяча девятьсот пятьдесят девятом году. Я как раз родился.
– О! Ну для мужчины возраст имеет мало значения, вы согласны?
– Не знаю, я никогда особенно не задумывался над этим.
– Так именно и значит, что я права, – вы не задумывались над этим. Любая женщина подумала бы уже тысячу раз, нет, много больше – сколько дней в ваших сорока годах? – столько раз бы и подумала. А вы и родились в России?
– Да, и родился, и вырос, и сейчас живу, и умереть надеюсь в России.
– О! Ну зачем такая меланхолия – вам еще не годится умирать, слишком рано. А что, вы и вправду так любите вашу Россию?
– Очень люблю. – Он постепенно обретал привычный свой тон и манеру держаться, но еще нельзя было утверждать, что окончательно рассеялось наваждение странного знакомства. Они по-прежнему стояли возле могилы, но она не двигалась с места и он, словно привороженный, не делал ни шага, не пытался увлечь ее прочь. Словно говорить они могли только здесь, у могильной плиты неведомого барона фон Паллена, покинувшего этот мир в год, когда он, Дмитрий Поляков, в нем появился.
– Так много пишут теперь о ней, все словно сошли с ума, и что же вы – «новый русский»?
– Видимо, да. Но что вы понимаете под «новым русским»?
– О, я ровно ничего в этом не понимаю. Так просто, забавные такие слова – «новый русский». Однако как долго мы стоим здесь. Едемте куда-нибудь. Уже, наверное, время обедать. Который теперь час? – Она произнесла все это не то чтобы быстро, но враз, на одном дыхании и оттого даже слегка задохнулась. Вообще же она говорила медленно, даже слишком, порой растягивая слова. Возможно, потому такой странной казалось речь, в принципе, правильная и даже, пожалуй, хрестоматийная, а может – академическая – он никогда не был силен в таких определениях.
К тому же – не это было главным.
Его почти потрясла, ее откровенная манера, преподносить собственные предложения, как о дело, совершенно решенное и подлежащее немедленному, неукоснительному исполнению. Ему знакома была эта манера, свойственная обычно женщинам очень красивым, избалованным и оттого капризным. Она владела ею абсолютно.
С женщинами такого сорта Дмитрий Поляков, как правило, не общался, поскольку терпеть их не мог. Но если вдруг случалось – приходил в тихое холодное бешенство – и откровенно хамил. Обычно прием удавался – нахальное, самоуверенное существо, оказывалось скользкой, неуклюжей, напуганной улиткой, внезапно лишенной надежного, красиво мерцающего домика.
Ему нравились девочки милые, тихие, домашние, кокетливые – наивно, трогательно, почти по-детски – таких он не обижал никогда, каким бы образом не поворачивалась жизнь. И даже – напротив – думал порой, что, расправляясь с холодными, капризными хищницами, защищает милых красавиц, подчеркивая и возвеличивая их легкую светлую прелесть.
Сейчас, однако, все было по-другому.
Глаза его были широко открыты и не утратили способности видеть, слух не обманывал, а мозг работал четко и ясно. И все они вместе, дружно взывали к рассудку, предупреждая: «Остановись! Она из тех, из хищных, со всеми – ярко выраженными и худшими, притом – их ужимками и гримасами!»
Но он лишь послушно взглянул на часы:
– Половина первого.
– «Constantin Vacheron», – как бы про себя заметила она марку его часов, – вы богатый человек, господин?.. Бог мой, да вы до сих пор не представились! Фи, как скверно.
– Простите. – Он – вернее, одна его часть – и вправду готова была согласиться с тем, что поступил ужасно скверно, другая же искренне возмутилась: «Какого черта, голубушка, ты не британская королева…», но первое «я» оказалось проворнее. – Дмитрий Поляков, русский, как вы уже знаете, предприниматель. – Он даже изобразил что-то вроде легкого полупоклона, но руки не протянул – первое «я» сделать это запретило.
– Прекрасно, господин Поляков. Я – баронесса фон Паллен, но вам, пожалуй, позволю называть меня Ирэн или Ириною, по-русски, как вам будет угодно. Что ж, будем считать, теперь мы знакомы, вы можете отвезти меня куда-нибудь пообедать. Машина ждет, полагаю?
– Конечно. – Он отступил назад, давая ей отойти от ограды, и почему-то приготовился ждать. Но на могилу, возле которой долго и скорбно – как показалось со стороны – она стояла, Ирэн фон Паллен даже не взглянула. Медленно вскинув руки, отточенным жестом водрузила на голову широкополую черную шляпу, опоясанную узкой полоской вуали, не спеша достала из маленькой черной сумочки, переброшенной через плечо, большие темные очки, надела их, спрятав от мира свои немыслимые глаза. Затем – приблизившись к нему почти вплотную, резким жестом взяла под руку и повлекла за собой вдаль по тенистой аллее, ведущей к кладбищенским воротам. Рука была неожиданно сильной, походка стремительной – он не сразу приноровился к ритму ее шагов. Поля шляпы касались его щеки, и свежие кладбищенские ароматы, так поразившие его вначале, напрочь вытеснил горьковатый запах ее духов: запах мокрой листвы какого-то экзотического растения.
Я неплохо знаю Париж, но, думаю, будет лучше, если вы сами скажете, где бы хотели пообедать, – откровенно заискивающе поинтересовалось его новое, второе «я». Первое – привычное, с которым в ладу и согласии прожил, без малого, сорок лет, угрюмо молчало.
Могло показаться, что оно просто покинуло его, решив вдруг навеки поселиться в тенистых аллеях старинного кладбища Сент Женевьев-де Буа.
Огромный дом на Васильевском был мрачным и серым.
Они долго и шумно поднимались по лестнице, вспоминая, на каком этаже квартира знаменитого поэта. Путались, дважды звонили в какие-то не те, чужие двери. Им никто не открыл, возможно, хозяева где-то встречали Новый год, а прислуга была отпущена.
Возможно, обитатели квартиры просто не стали открывать дверь, заслышав снаружи чужие пьяные голоса – время было неспокойное.
Возможно, квартиры вообще пустовали – сейчас это было отнюдь не редкость, многие съезжали из столицы.
Наконец добрались до шестого, а быть может, седьмого, этажа – но как бы там ни было, это был последний этаж, искать более было негде – начали долго, настойчиво звонить, барабанить в единственную на площадке массивную темную дверь без таблички, но с явными следами от нее.
Ирэн к тому времени чувствовала себя совсем уж скверно – голова все-таки разболелась и болела с каждой минутой все сильнее, угрожая обернуться тяжелым приступом мигрени, к которым была у нее склонность. Состояние было каким-то вялым и похожим на сонное, но она знала точно, что, если прямо сейчас поедет домой и ляжет в постель, заснуть не сможет. Наступит мерзкое состояние – все вокруг: мебель, пол, стены и потолок сначала медленно, а потом все быстрее закружатся вокруг, и будет страшно хотеться пить, но, сколько не станет, пить чая или холодного лимонада, жажда не утихнет. Так будет метаться в ненавистной постели, все отчаяннее, до истерики, раздражаясь, ненавидя себя и весь мир, желая смерти себе и всем вокруг, до самого рассвета, который просочится сквозь плотно задернутые тяжелые шторы, такой же унылый, больной и бессильный, как и она сама.
Теперь, пока случайная компания бесновалась и галдела на чужой лестнице, безразличная ко всему, Ирэн присела прямо на ступени, обессилено прислонясь хорошенькой головкой к холодному литью перил. Ей было холодно, безнадежно промокли ноги в тонких атласных туфельках, и легкий невесомый мех шубки совсем не грел. Однако она совершенно точно знала, что может вот так без движения, не издавая ни звука просидеть здесь, под чужой дверью, как угодно долго. Хоть всю жизнь Настолько все было безразлично теперь в этом мире, включая новый, только что наступивший одна тысяча девятьсот семнадцатый год.
Дверь, однако, открыли.
Компания испустила восторженный вопль, началась толкотня и шарканье ног, кто-то кого-то обнимал, поздравляя с Новым годом, кто-то пытался скорее протиснуться в квартиру, кто-то громогласно требовал шампанского. И тут же раздался громкий хлопок – пробка послушно вылетела из бутылки.
Вставай, Ирэн! Что ты, право, сидишь здесь как неживая. – Стива подхватил ее под руку, поднял почти насильно, потащил за собой, по дороге расталкивая каких-то людей
Было ужасно тесно. Она то и дело натыкалась лицом на чьи-то плечи, спины, груди – разгоряченные, потные, пропахшие табаком и каким-то кислым запахом, какой обычно прочно устанавливается в местах, где много и сильно пьют.
Стива почти грубо тащил ее за собой по длинному нескончаемому коридору, заполненному народом. Наконец ударом ноги он распахнул высокие двери, и они оказались в довольно большой комнате, казавшейся особенно просторной оттого, что в ней почти не было мебели – только овальной формы стол без скатерти, заставленный бутылками, грязными разномастными тарелками, фужерами и стаканами с остатками напитков, посудой с остатками еды. Все это стояло и лежало опрокинутое на столе в страшном беспорядке и отвратительно пахло.
Вокруг – в таком же беспорядке – стояли и валялись на полу стулья, тоже все какие-то разные, словно их покупали по одному в лавке у старьевщика, а то и просто собирали по знакомым. Скорее всего, это и было именно так.
Три высоких окна по трем стенам странной комнаты не прикрыты были ни шторами, ни даже занавесками. Темные окна смотрелись странно на светлых, грязных и выцветших обоях – казались чьими-то пустыми глазницами, огромными, неестественной прямоугольной формы.
Люди, сидевшие за столом, встали, приветствуя вновь пришедших, собрались было, то ли уступить им место, то ли потесниться, принимая новую компанию. Какие-то женщины, одетые ярко и вызывающе, пытались собрать со стола грязную посуду. Кто-то выставлял бутылки и выкладывал свертки с едой. И вся эта ужасающая картина была густо окутана пеленой сизого удушливого табачного дыма, от которого Ирэн немедленно раскашлялась и никак не могла остановиться. Табак, который здесь курили, был крепким, дешевым. А запах – как прочие запахи в этом доме – кислым.
Теперь Ирэн, действительно, была на грани обморока. Состояние, в котором она пребывала, не было вызвано обычным капризом, истерикой, ни даже простым недомоганием – ей и вправду было очень плохо. Единственное – чего хотелось на самом деле, чтобы все оставили ее в покое и дали сесть, лечь или даже просто стать, прислонившись к грязной стене, и забыться, уснуть, да хотя бы и умереть, – так тошно было сейчас душе и телу.
Но Стива решительно не желал оставлять ее в покое:
– Ирэн, голубушка, ну очнись, что с тобой такое, ты же хотела ехать? Сейчас я тебя с ним познакомлю. – Он встряхнул сестру за плечи и внимательно и как-то не пьяно вдруг взглянул в помертвевшее лицо. – Ну, конечно, деточка, сейчас будет кока. Я и позабыл совсем.
Он снова, но уже гораздо бережнее увлек ее за собой, они оказались в другой комнате. Эта – была несколько меньше первой, а быть может, так только казалось из-за полумрака, который царил повсюду, скрывая большую часть пространства. Неяркая, но раскидистая, в форме причудливого цветка, настольная лампа темно-рубинового стекла чудом поместилась на небольшом письменном столе, заваленном какими-то бумагами, газетами, книгами. Здесь же тускло поблескивали потемневшими боками несколько бронзовых статуэток, изображавших обнаженные женские фигуры, а поверх газет стояла огромная мраморная пепельница, полная окурков. В густом полумраке комнаты угадывались очертания еще какой-то мебели, но разглядеть, что там такое, было невозможно. Ноги ее – между тем ощутили сквозь тонкие, промокшие насквозь подметки, мягкий упругий ворс ковра, ноздри вдохнули запах пыльной бумаги, застарелый аромат табака, но не того дешевого, кислого, что витал в большой комнате и прихожей, – это был довольно приятный: пряный и горький одновременно. Похоже, что комната служила кабинетом хозяину квартиры.
Стива довольно уверенно двигался в густом полумраке и чувствовал себя вполне свойски.
– Вот, присядь сюда. – Он мягко подтолкнул ее к низкой оттоманке, покрытой чем-то жестким и даже колючим. Когда она, подчиняясь ему, опустилась на тахту, нашарил рукой и подложил под спину мягкий шелковый валик, – отдохни немного, я сейчас все организую. – Он довольно быстро направился к выходу, не боясь оступиться или натолкнуться во тьме на какой-нибудь предмет.
«Он действительно хорошо знает эту квартиру и, значит, не наврал про Ворона», – подумала Ирэн, с удовольствием вытягивая ноги на оттоманке, покрытой жестким ковром, с коротким колючим ворсом, тяжело стекающим откуда-то со стены и убегающим дальше – на пол, покрывая значительную часть комнаты.
Обещание брата раздобыть кокаин, вернуло Ирэн к жизни – она стала даже прислушиваться к громким голосам в соседней комнате, хотя никто из горланящих там людей ее особенно не интересовал. «Вот Ворон – это другое дело. Интересно, здесь ли он? Каков он внешне?» Она уже начинала жалеть, что в комнате так темно и нельзя достать из сумочки зеркальце, расческу, чтобы привести себя в порядок. «Выгляжу я, наверное, ужасно», – подумала она, пытаясь руками на ощупь поправить тяжелую копну волос, собранных в высокий пучок на затылке. Но в этот момент узкая полоска света на темной стене стремительно расширилась – в распахнутом проеме – темные на ослепительном фоне света – возникли две мужские фигуры, а потом вспыхнул матовый желтоватый, но довольно яркий свет – кто-то включил тяжелую бронзовую люстру под высоким потолком, с плафонами из муарового.
Испуганным зверем метнулся мягкий полумрак, затаился до поры в далеких темных углах.
Ирэн, дорогая. – Стива казался не таким уж пьяным – то ли держал себя в руках, то ли протрезвел в сыром тумане питерской ночи – Позволь представить тебе великого пиита и философа, дружбой с которым дорожу чрезвычайно, а ты знаешь – я на такие слова скуп. Андрей Валентинович Рысев. Известен и тебе, безусловно, но под псевдонимом «Ворон». Знаю, зачитываешься, как и все мы. Теперь изволь лицезреть. Полюби его, детка, как я. Друг мой, – теперь Стива обратился к мужчине, вошедшему вместе с ним, не проронившему пока ни слова, скрываясь за широкой спиной рослого барона, – друг мой, имею честь представить тебе: сестру моя – баронессу фон Паллен, Ирэн. Думаю, она сразу же позволит тебе без церемоний звать ее Ирэн, как все мы. Друг мой, говорить мне это, быть может, и не подобает, но ты и сам теперь видишь, сестра моя замечательная красавица: без всякого преувеличения первая в этом городе, черт бы его побрал со всеми нами – разве же это Новый год? – Стива вдруг разразился истерическим и совершенно глупым смехом, и стало ясно, что он все-таки смертельно пьян. Однако теперь она менее всего думала о брате и странных метаморфозах, с ним происходящих. С жадным вниманием, как могла себе позволить только она – не таясь и нимало не смущаясь откровенного любопытства, Ирэн разглядывала вошедшего с братом мужчину.
Первым ее чувством было разочарование.
Рысев имел внешность совершенно заурядную. Был он невысок, щупл, узок в плечах, волосы стриг ни коротко ни длинно, были они к тому же тонки и цвет имели какой-то неопределенный – скорее пепельно-русый, из тех, что чаще всего встречается у обыкновенных русских мужчин.
Лицо его было очень худым, с ввалившимися щеками, прорезанными двумя глубокими складками-морщинами, из тех, что бывают на лицах от рождения, а не приходят со старостью. Такие же две глубокие морщины очерчивали тонкий злой рот. Нос был большим, может быть, даже слишком большим для такого маленького худого лица, с сильно выраженной горбинкой.
Глаза, очень светлого серого цвета, почти белые, к тому же – изуродованы толстыми стеклами очков в тонкой металлической оправе – и потому казались неестественно большими и выпуклыми, как у какой-то диковинной и неприятной рыбы.
Одет он был просто и даже убого, в кургузый сюртук неопределенного цвета и такие же сиротские брюки.
Все это Ирэн увидела сразу, одним долгим немигающим взглядом исследовав неподвижную фигуру модного пиита с ног до головы, и ей стало невыносимо обидно. Почти до злых слез, как если бы вдруг не дали обещанного или обманули каким-нибудь еще совершенно несносным образом.
Однако Рысев заговорил, и голос его оказался неожиданно низок и глубок, к тому же он как будто не был смущен или раздосадован тем, как долго и пристально разглядывала его Ирэн. Напротив, молчанием и неподвижностью своей он снисходительно давал ей возможность довести начатое дело до конца.
– Я много слышал о вас, баронесса, и теперь рад тому, что в очередной раз убедился: все слухи – вздор.
– Как прикажете понимать вас?
– Зачем же вы спрашиваете, ведь хорошо поняли меня, потому что, в сущности, я сказал пошлость.
– О, это что-то новенькое, продолжайте, господин Рысев, или вам угодно, чтобы я звала вас господином Вороном?
– Это как вам будет угодно, мне любое мое имя так же мало ласкает слух, как имя любого другого человека – я людей не люблю и для себя исключения не делаю. Кстати, теперь я опять говорю пошлость, из тех, что приводят в восторг экзальтированных смольнянок. Вы же, милостивая государыня, к их числу принадлежать не изволите, посему не лукавьте, вам не идет. Ничего нового я вам не сказал, потому что я сказал вам вот что: «Слухи о вашей красоте будоражат город, но слухи – вздор, потому что на самом деле вы гораздо лучше». Так вот, эту пошлость вам, очевидно, говорит каждый, кто имеет честь быть представлен или, уж по крайней мере, каждый второй. Станете ли теперь утверждать, что я не прав?
– Не стану. Но зачем же вы говорите пошлости?
– Не обидитесь, если скажу честно?
– Нет, обещаю.
– От лени. Лень думать над серьезной фразой. Хотя вы ее заслужили.
– Что такое я заслужила, господин пиит?
– Чтобы о вашей красоте говорить серьезно без пошлых дифирамбов и жалкого рифмоплетства. Вы чертовски, именно чертовски красивы. Бог не стал бы творить женщину такой – слишком велик соблазн страсти, именно страсти – не любви, а страсть – грех по его, Божьему, разумению. Признайтесь, вас ведь не любит никто и вам любовь не ведома? А вот страсть к вам сжигает дьявольским огнем не одну смертную душу, увлекая ее в геенну безвозвратно, заметьте. И вам страсть известна давно и в разных ее проявлениях. Вы – и есть сама страсть, явленная несчастным перед страшным концом, вот что скажу я вам, бедный пиит. И это уже не пошлость. Видите ли теперь разницу?
– Да вы-то откуда про все то знаете, не из пошлых ли слухов обо мне?
– И снова лукавите вы, исчадие ада! Но вам и полагается быть лукавой, иначе вам и быть нельзя. Разве похож я на того, кто живет пошлыми городскими слухами, тем более касаемо женщин? Зачем мне слухи? Все, кто интересуют меня, приходят ко мне сами и сами рассказывают все то, о чем я знать хочу. А если умалчивают о чем-либо лукавят, как вы сейчас, я просто вижу то, что хочу увидеть. Однако полно об этом. Стива сказал, что вы просили достать кокаина, я сейчас принесу. Угодно ли?
Она лишь кивнула. Недолгая речь Рысева произвела на Ирэн сильнейшее впечатление. Она не замечала более его унылой внешности и уродливых рыбьих глаз за толстыми стеклами очков. Голос его проникал в нее и звучал там, переливаясь и вибрируя, как низкий звон тяжелого мелодичного колокола, отчего сладко сжималось сердце, холодели конечности, в преддверии чего-то неведомого, страшного, но и влекущего одновременно. Тело сводила томная властная судорога желания, какого-то странного, идущего не изнутри, как обычно, но откуда-то извне, не так как прежде. Неведомого ранее. Пугающего и манящего.
«Страсть – не любовь, совсем иное, не от Бога и божественного, славящего любовь, а напротив – от сатаны, из его дьявольских кипящих глубин» – сказал он, и она поразилась, как точно сказал он это.
Еще в ранней юности, предаваясь греховным играм с братом, и позже, с упоением плотской радости, отдаваясь учителю латыни и многим – потом – другим мужчинам, она нередко задавалась вопросом. Отчего это грех именуют порой любовью, как и божественное, доселе ей неизвестное чувство, освященное именем Христа и воспетое в молитвах.
Сейчас он удивительно точно и кратко – вскользь и как бы походя – сформулировал ее мучительные сомнения. Более того, едва лишь взглянув, уверенно заметил, что ей не дано любить. И этим коротким замечанием тоже подтвердил давние опасения. В водовороте плотских наслаждений, она, действительно не испытала еще ни разу той любви, которая была воспета во множестве романах и поэтических произведениях, которые читала жадно и со вниманием.
Когда же, предаваясь излюбленным фантазиям своим, она пыталась представить, что подобное чувство все же настигло ее: вот любит, испытывает к предмету все те описанные многократно сердечные порывы и влечения души, а не тела, но непременно финалом мечтаний всегда был акт плотской любви. Причем распаленное сознание рисовало его особенно ярким и необычным, как требовало жадное избалованное тело. И романтические фантазии блекли, отступали на второй план, словно не с них все начиналось в мечтах.
Теперь он сказал об этом просто и коротко: «Вам не дано любви» – и выходило так, что был прав.
Дверь снова отворилась, впустив волну шума и тех же отвратительных запахов еды, вина и дешевого табака, что витали в соседней комнате, но тут же ее плотно прикрыли, как бы желая оградить Ирэн от всего, что происходило там.
Рысев, мягко ступая по ковру, приблизился к тахте. В руках он держал маленькую серебряную табакерку, небольшое круглое зеркальце в серебряной оправе с причудливо изогнутой короткой ручкой.
– Здесь все, что вы просили, Ирина Аркадьевна, – обратился он к ней крайне почтительно.
И через несколько мгновений ее дрожащие ноздри уже вдыхали ровную, мастерски отмеренную белую рассыпчатую дорожку, туманя легким дыханием тускло поблескивающую поверхность зеркала, которое Рысев услужливо придерживал перед нею.
Благодарю вас. – Она действительно благодарна была ему и за тепло и относительный уют этой небольшой комнаты, и за кокаин, который уже через несколько минут принесет облегчение, наполнит больное и вялое тело свежей горячей силой, а голову – шальными звонкими мыслями. За то, что он освободил ее от общества чужих, отвратительных ей людей, которые шумели и буйствовали сейчас за дверью, и даже Стивы, с его пьяным смехом.
Ей снова хотелось слушать его, потому что сейчас начинало казаться: ему известно о ней, ее жизни, да и о жизни вообще, что была так скучна и несносна последнее время – что-то новое, неожиданное, захватывающее. Что заставит усталое и холодное сердце забиться иначе: тревожно и трепетно, в предчувствии неведомой радости, которая непременно должна быть. Как бывало в далеком детстве, когда, едва проснувшись, она испытывала приступ такого необъяснимого беспричинного счастья, что остатки сна стремительно отлетали вместе с одеялом, отброшенным сильными маленькими ножками одеялом, и звонкий смех маленькой Ирочки заставлял старую няньку, вздрогнув и уронив вязание, мчаться в детскую, улыбаясь и радуясь тоже неведомо чему.
Она была уверена, что сейчас он будет именно говорить с ней, а потом… Потом, когда начнет действовать наркотик, она уже совершенно точно знала, что почувствует и чего немедленно захочет и, конечно же, получит, как получала всегда. Но предчувствие и желание того, что непременно и скоро произойдет между ними, не так сильно занимало ее, как обычно. Сейчас она хотела слушать его завораживающий голос, и, поджав под себя ноги в промокших атласных туфельках (снимать их самой было лень – а он не предложил этого сделать), она поудобнее уселась на оттоманке, и прикрыла глаза, приготовившись слушать.
Рысев, однако хранил молчание.
Ирэн слышала его легкие шаги, он аккуратно перемещался по комнате где-то рядом, что-то доставал из-за какой-то дверцы – раздался слабый скрип, потом легкий перезвон, похожий на тихое позвякивание бокалов.
«Господи, неужели он просто предложит вина и все произойдет как всегда и как обычно. Нет, я не хочу так… Он не должен вести себя как все», – капризно подумала она и открыла глаза.
Рысев стоял подле тахты, и в руках у него действительно было нечто похожее на бокал, но скорее это был все-таки кубок. Большой, старинный, на массивной бронзовой, а может, и золотой, ножке. Чаша выполнена была из очень темного прозрачного стекла, необычной огранки. В ярком свете массивной люстры грани чаши сияли и переливались глубоким темно-фиолетовым цветом, и видно было – сосуд до краев наполнен какой-то жидкостью.
Присмотревшись, Ирэн разглядела, что литая ножка кубка исполнена была как толстый витой ствол диковинного растения, ветви которого тянулись ввысь и оплетали стеклянную чашу причудливым узором, достающим почти до ее краев, как если бы она была плодом этого странного дерева. Вещь была завораживающе красива, Ирэн невольно залюбовалась ею, забыв о своем мимолетном раздражении.
Рысев же, словно угадывая ее мысли, заговорил:
– Кубок этот старинный достался мне по случаю, и уж потом я узнал, насколько древняя и ценная это вещь. Возможно, из него пили еще римляне и кто знает? – возможно, сама великая царица Клеопатра касалась его краев своими божественными губами. Кстати, заметили ли вы, стекло, из которого выполнена чаша, удивительного фиолетового цвета, почти как ваши глаза. Теперь мне кажется – это не просто так. Но как бы то ни было, какой бы знак ни посылала нам судьба – выпейте это. Вам сразу станет много легче, вы отдохнете, это необходимо теперь – я вижу. А позже, если будет угодно, мы еще поговорим. Я многое имею сказать вам, поверьте.
– Но я не хочу спать!
– О, это будет не сон, вы просто ненадолго перестанете ощущать все, что вас раздражает теперь. Прошу вас, выпейте это. Вы ведь не думаете, что я желаю вам зла?
– Зла? Нет, об этом я думала менее всего. Но что это? – Ирэн действительно совершенно не боялась предложенного ей напитка, ей было любопытно, но она испытывала некоторое раздражение оттого, что все между ними происходит не так, как задумала она несколькими минутами раньше. Однако он был настойчив, хотя и мягок и, как прежде, безупречно вежлив и почтителен по отношению к ней. В конце концов она решила, что согласится попробовать его напиток. Кто знает, возможно, это окажется забавно и подарит новые, доселе не ведомые ощущения? Ирэн слыхала что-то о травах, настоями которых потчует своих посетительниц придворный «Старец», после чего те впадают в гипнотическое состояние и делаются совершенно покорны его воле. Это Ирэн не пугало нисколько.
– Настой из разных трав, целебных в большинстве своем. Он приготовлен по рецепту очень древнему, почти такому же древнему, как этот кубок. Отведайте, Ирина Аркадьевна, вы не пожалеете.
– И вам он тоже стал известен по случаю?
– Вы напрасно изволите насмехаться, именно так – по случаю. Жизнь человеческая, Ирина Аркадьевна, вообще состоит сплошь из различных случаев, приметных и не очень. Проблема человека состоит-то как раз в том, что он очень часто проходит мимо случаев значительных для него, полезных, а то и фатальных, но уделяет слишком много внимания приключениям зряшным.
– Что ж, будь по-вашему, давайте сюда ваш случайный напиток. Но знайте: если случится со мной что-нибудь скверное, Стива непременно убьет вас – он меня любит безумно и бывает очень несдержан, про то весь город знает. – Она говорила это, легко смеясь, – наркотик уже подернул сознание радужной искрящейся дымкой, все вокруг начинало казаться ей забавным, сулящим сплошное веселое приключение.
Напиток к тому же был приятен на вкус, слегка горьковат и вроде отдавал легким запахом дыма, был освежающе прохладен и слегка вязал рот, но это тоже было в меру и довольно вкусно. Она осушила кубок до дна и, дурачась, опрокинула его над своим лицом, откинувшись на спину и улыбаясь Рысеву призывно, как умела она, порочно и наивно, по-детски одновременно. Он ласково улыбнулся ей в ответ, бережно вынул драгоценный кубок из слабеющей руки и, наклонившись, тихо дотронулся губами до ее гладкого, высокого, как на античной камее, лба.
«Это еще что такое?» – хотела шутливо возмутиться Ирэн, но голоса своего не услышала, ей показалось, что он стал легок и невесом, как все тело. Веки же, напротив, налились свинцовой тяжестью и медленно закрыли прекрасные фиалковые глаза, уже подернутые слепой дымкой бесчувствия.
Монастырские, а после – больничные строения были не столь ветхи, как показалось с первого взгляда, – забор, хоть и зиял несколькими проемами, был, тем не менее, высоким и сложен в свое время добротно – в три кирпича. Правда, не было ворот. Но два одноэтажных длинных дома-барака сохранились довольно неплохо. Разрушились только некоторые внутренние перегородки, торопливо возведенные из тонкой фанеры, опилок и плохой штукатурки в ту пору, когда монастырские клети спешно оборудовали для приема душевнобольных.
Теперь оба дома походи были на два просторных крепких сарая – и это вполне подходило.
В одном – где когда-то была монастырская кухня и трапезная, а позже – больничный блок питания, сохранилась большая закопченная печь, вполне пригодная – на первый взгляд – и сегодня.
Пока выходило, что два – как минимум – сооружения годились вполне. Так – про себя решил Ахмет. Однако, в монастырской ограде обнаружилось еще два заметных строения.
Небольшой крепкий домик, разделенный внутри на две половины – каждая с отдельным выходом. Здесь, видимо, жили врачи, а раньше какое-то монастырское начальство, название которого он так и не вспомнил, сколько не пытался. Возможно, священник, – подумал Ахмет, но тут же отдернул себя: монастырь-то был женский. Хотя христианство, а особенно православие, представлялось ему очень терпимой религией, в отличие от ислама и даже католичества. Здесь могло быть и такое.
Со вторым сооружением все было как раз наоборот – его уже почти не существовало. Когда-то это была церковь, совсем маленькая, возможно просто часовня. Но как бы там ни было, от нее практически ничего не осталось теперь – только каменный остов фундамента и каменные осколки разной величины, разбросанные вокруг. Некоторые – удивительным образом сохранили фрагменты росписи, украшавшей когда-то своды маленького храма. Теперь казалось, что вокруг развалин валяются окаменевшие человеческие останки – отсеченные головы, руки с тонкими запястьями и круглыми маленькими ладонями, фрагменты тел, облаченных в старинные одежды. Зрелище запрокинутого к небу темного продолговатого лица, с огромными белыми глазницами, устремленными прямо на того, кто имел неосторожность приглядеться к каменному обломку под ногами, могло повергнуть если в ужас – таким живым и грозным был взгляд. Однако ж, эти трое были привычны были и не к таким зрелищам.
Но – любопытство.
Ахмета некоторое время занимал вопрос, отчего именно церковь пострадала так сильно? Выходило – большевики рушили ее как-то иначе, по сравнению с прочими монастырскими сооружениями. Другим – более совершенным – а вернее, варварским – способом. Что было вряд ли.
Графа заинтересовали осколки камней, сохранившие фрагменты росписи, и он сосредоточенно поддевал носком ботинка каждый, пинал обломки часовни, как футбольные мячи, вертел их во все стороны, отыскивая следы живописи. «Свинья, – без особого раздражения подумал Мага, наблюдая за манипуляциями Графа, – изображает из себя верующего. Все русские так: вера для них – просто мода, как шестисотый «мерседес» или джинсы от «Версаче». Волосатую грудь Графа, действительно украшал массивный золотой крест, щедро усыпанный крупными бриллиантами. И всякий раз, проезжая мимо храма и даже маленькой деревенской часовенки – если не забывал, увлеченный беседой или забойной песней, гремевшей в динамиках – он истово троекратно крестился, бормоча что-то отдаленно напоминающее «Господи, помилуй».
Впрочем – так или иначе – осмотр монастырских развалин они завершили и остались довольны.
Это было вполне подходящее место для того, чтобы сделать привал перед последним броском за русскую границу – обратно, к себе. Здесь даже можно было принять короткий бой, и продержаться некоторое время – под обоими уцелевшими зданиями сохранились просторные подвалы, в них дышалось несколько легче, чем наверху, под палящим полуденным солнцем.
Проблемы возникло только две – вода и электричество.
Последнее не подавалось сюда с момента закрытия больницы, столбы, по которым тянулись некогда электрические провода, были повалены и частично сгнили, частично исчезли вовсе, растащенные, рачительными казаками. Но эту проблему легко решал маленький, мощный генератор, из тех, которыми пользовались российские военные, которые с удовольствием продавали за бесценок, а то и просто бросали в ходе боевых действий, посему нехитрые, но весьма практичные устройства имелись сейчас едва ли не в каждом чеченском дворе.
С водой было сложнее. Водопровод здесь тоже когда-то был, и ржавые обломки труб торчали в некоторых местах, погнутые, занесенные песком и заросшие колючим и пыльным степным бурьяном. Извлечь из них воду было совершенно невозможно, да и небезопасно. Вода – не генератор, достаточного количества с собой не привезти. В том, что вода потребуется в изобилии, было ясно.
– Воды пойдет много – все будут пить, а еще – раненые… и вообще, в жару хорошо облиться – все понимали это без слов, просто Мага делился вслух богатым боевым опытом – еще до их войны он воевал в Карабахе, в Абхазии – там везде было жарко. Он знал, что такое вода.
«Да, вода – фактор еще и психологический, люди легче смиряются с отсутствием еды, тем более в жару, но сознание того, что вода ограничена, может породить даже панику». – Ахмет не сказал этого вслух, мысль была слишком сложной, он хорошо знал: таковые лучше оставлять при себе – солдаты не любят умников, даже если уважают их за личную доблесть или в силу других обстоятельств. Он просто кивнул, соглашаясь с Магой.
– Ну, Граф Орлов, – не находя решения и начиная от этого заводиться, Мага переключился на Графа, зная, что тот стерпит все – какие будут ваши предложения? А то смотри, придется работать водовозом. – Мага даже засмеялся, представив, как придется вертеться Графу, если его и впрямь заставят доставлять воду через оцепление местного ОМОНа или какой-нибудь «Альфы», которую, возможно, пригонят из Москвы, в противовес засевшему в монастыре отряду боевиков.
У монахинь источник был или колодец – вода там, говорили, святая, – мрачно и не очень уверенно ответил Граф. Он-то хорошо понимал: Мага почти не шутит. Крутой нрав полевого командира Магомеда Хапсирокова, известного более как Мага Дербентский, потому что родом был из этого прикаспийского городка, был широко известен. Он не понимал слово «нет», ни на одном языке, а их, кроме русского, знал еще несколько, все – из наречий Северного Кавказа. Воевал отчаянно, но, как поговаривали, крови при этом пролил раза в три больше, чем требовали боевые задачи. Просто не терпел, когда кто-то перечил. А способ наказать виновного знал только один, как и аргумент в любом споре – так получалось. Теперь перспектива оказаться единственным виноватым в глазах Маги Графа почти парализовала. Рафинированный интеллигент, эстет и философ, Ахмет, которого за глаза авторитетные полевые командиры, звали Хайямом, вряд ли сможет, да и захочет, вступиться за него, если Мага осатанеет всерьез. Хайяма никто не посмел бы упрекнуть в трусости – он воевал честно и рисковал жизнью наравне с другими. К тому же с ним, а точнее с его изощренным умом и изобретательностью, молва связывала знаменитые операции на российском финансовом рынке, которые принесли Ичкерии необходимые перед войной миллионы, а возможно – миллиарды долларов. И все же то положение, которое он занимал теперь, проистекало не из этого. Хайям был другом и названным братом одного из самых серьезных и влиятельных молодых чеченских генералов. Тот, собственно, и разрабатывал сейчас ту самую операцию, ради которой они находились теперь в мрачных стенах старого монастыря, и которая – вдруг – оказалась под угрозой срыва, потому что вода в этих руинах вряд ли отыщется скоро. И это могло стоить ему, Графу Орлову, жизни (мелкий бандит Васька Орленок так полюбил ниспосланную как дар свыше новую кличку, что даже сам себя называл никак не иначе).
Колодец был или источник, бабка точно говорила, – более уверенно повторил он, и ленивая обычно память сейчас, испуганно встрепенувшись, действительно явила ему очень живо образ давно уж помершей бабки Веры, которая и впрямь рассказывала про святой колодец, вода в котором была целебной.
И где же он? – ехидно поинтересовался Мага. Россказням Графа он не верил, скорее полагал, что тот теперь будет врать безбожно, чтобы отсрочить возмездие. А наказать нахального русского прощелыгу Мага был настроен определенно. Должен же хоть кто-то ответить за три бесцельно потраченные дня и проваленное задание.
– Ну подумай сам, Мага, откуда же я могу это знать? Ведь это когда было? Ведь не моя даже бабка оттуда воду брала, а ее мать. Искать надо, может, найдем.
– Колодец действительно должен быть, – неожиданно подал голос Ахмет, – монастырь старый, водопровода тогда еще не было и в помине – где-то же они брали воду? Насчет того, что святой, сказки, конечно, но какой-то источник есть. Определенно.
– И как мы его будем искать, копать здесь все подряд? – Мага начинал злиться всерьез. Ахмет, конечно, был старшим, но и он не смел заставить его как, раба рыть эту иссушенную землю под раскаленным солнцем.
– Сначала надо внимательно осмотреть всю территорию. Над колодцем, если он был, должно быть возвышение, лучше бы, конечно, каменное, тогда больше вероятности, что оно сохранилось, но и от деревянного, может, что-то осталось. Надо искать. – Ахмет говорил без раздражения, спокойно, не стремясь подчеркнуть, что последнее слово будет за ним, и это несколько успокоило Магу, в конце концов, лучшего места им не найти. В этом он был уверен. Может, имеет смысл поискать этот чертов колодец.
Они разошлись в разные концы территории и медленно, шаг за шагом, начали заново осматривать ее, отыскивая следы мифического колодца. Солнце нещадно пекло, каждое движение давалось с трудом – даже тренированные тела теряли последние силы, они старались пить как можно меньше, хотя минеральной воды в холодильнике джипа было достаточно – жидкость тут же испарялась из организма, покрывая кожу противной липкой пленкой горячего пота.
Было еще только около трех часов пополудни, и одному Аллаху ведомо, сколько еще времени займут эти изнурительные поиски, завершатся ли они успехом.
Все произошло, однако, достаточно быстро – не прошло и часа, как радостный возглас Графа нарушил напоенное зноем безмолвие. Возможно, подстегнутый страхом, он усердствовал более прочих, возможно, ему просто повезло, но остов заброшенного колодца нашел именно он. Надо сказать, это было не просто: под грудой каменных обломков, образовавших подобие невысокой пирамиды, занесенных сухой горячей землей вперемешку с песком, заросших густым колючим бурьяном, разглядеть то, что много лет назад было каменным ограждением монастырского колодца.
Вооружившись двумя саперными лопатами, они довольно быстро разворошили заросли бурьяна, раскидали слой земли под ним, развалили некоторые не слишком крупные камни: отдельные кирпичи и целые куски кирпичной кладки, намертво сцепленные добротным старинным раствором, но далее работа не пошла.
Под верхним слоем шло плотное нагромождение огромных камней-валунов, что встречаются часто в степи, неведомо когда и кем занесенные на вольные песчаные просторы. И, видимо, только под ним скрывалась глубь колодца, хранящая живительную подземную влагу.
– Идиоты были эти большевики, – заметил Мага, тяжело опускаясь на землю и с отвращением сдирая с себя абсолютно мокрую футболку. Пот ручьями струился и по его загорелому телу, покрывал лицо, скатываясь с красиво очерченных бровей, едкой влагой заливал глаза, отчего Мага досадливо щурился и часто моргал. – Чем им так помешал этот колодец? Ну, подумаешь, святая вода. Объявили бы всем, под страхом расстрела: все, с сегодняшнего дня – не святая. Но пить можно. И все. Зачем было камни-то ворочать?
– Слушайте, а может, они клад зарыли – золотишко, камешки, прочее – у монашек вполне, и водилось, а? – Идея эта внезапно озарила Графа, и он тоже прекратил работу, присел на корточки рядом с развороченной пирамидкой и, забыв про усталость и даже страх, оживленно завертел головой, переводя круглые маслянистые глаза с одного из своих опасных спутников на другого.
Ахмет хранил молчание, но и он отложил в сторону лопату и тяжело опустился на землю, прислонившись спиной к горячим камням. Непривычное к физической работе тело начинало предательски ныть, и он знал: через несколько часов малейшее движение отзовется ноющей болью. Но, разумеется, думал не об этом. Злой вопрос, едва ли не вместе с песком, забившим рот, выплюнул Мага. Но Ахмет задумался над ним много раньше, едва лишь увидел поросший бурьяном странный холм, похожий на скифский курган в миниатюре. Совершенно очевидно было, что колодец – если, конечно, то, что уже более часа они пытались отрыть – был колодцем, кто-то ранее старательно заваливал тяжелыми камнями, собрав их предварительно в округе и притащив на монастырское подворье. Времени и сил эта операция, надо полагать, потребовала немало. И совершенно непонятно было, во имя чего? Версия корыстолюбивого – даже в глупых фантазиях – Графа не выдерживала критики. Если в монастыре и были какие ценности, их наверняка сразу же и изъяли победители в интересах молодой советской республики, трудового народа, диктатуры пролетариата или своих личных, это уж как вышло – теперь не узнать никогда. Да и незачем.
Забавно было, но вполне мог оказаться прав Мага – кто-то из комиссаров оказался настолько фанатичен, что велел уничтожить колодец только за то, что воду почитали святой. Что ж, в те времена вполне могло случиться и такое – фанатиков у красных хватало с избытком. Историю этой страны он знал неплохо. Но что-то мешало ему – в который уже раз удивившись темному хаосу русской души, который интеллигентные иностранцы и сами русские предпочитают красиво называть загадкой – принять примитивную, но, по сути, единственную версию и двигаться дальше.
Что-то – то ли смутная тревога, то ли ускользающая догадка, туманное, невнятное воспоминание о какой-то давней истории или легенде, связанной с колодцем.
Он мучительно напрягал память, призывая на помощь ассоциации: степь, песок, колодец… Что? Все было тщетно.
Он не вспомнил ничего.
И только тень тревоги и расплывчатое предостережение бередили душу. Но этого было недостаточно, чтобы отказаться от затеи, тем более что решение задачи не представлялось ему слишком сложным.
– Кто же разберет, что бродило в их атеистических мозгах, – сказал он, отвечая Маге и оставляя без ответа меркантильную гипотезу Графа. – Понятно, что сами мы этот курган не осилим. Поэтому сделаем так: ты, Граф, сейчас сгоняешь на станцию и привезешь сюда бомжей, они там постоянно околачиваются. Сколько будет, столько и привезешь, лимузин у тебя вместительный. Купи им водки и еды, но пить не давай. И пообещай, что хорошо заплатим. Кто мы, не говори. Скажешь, археологи из Москвы. Понятно? Все, действуй – и быстро. Я до темноты хочу увидеть воду или не увидеть ее.
– Но послушай, Ахмет, они же потом трепаться начнут – какие вы, к черту, археологи, особенно Мага?
– Не начнут, граф Орлов. И потом – это уже не твоя проблема
– Да-а? Побойся Бога, Ахмет, проблема не моя, а джип мой. И вся станция будет видеть, как я набиваю полный салон бомжей, а потом…
– А что потом? Ими что, кто-то очень интересоваться будет? А если и будет… Скажешь, попросили какие-то люди из Москвы, вроде археологи или геологи, ты в этом разбираться не обязан и документы проверять ни у кого не обязан…. Так вот, попросили помочь найти рабочую силу для раскопок. Все. Больше ты никого из них не видел.
– Ой, Ахмет, но это же явная туфта Сейчас все злые, все только про ваших рабов и говорят, меня ж порвут, когда узнают…
– Так это, когда узнают… – вмешался в разговор Мага, доселе хранивший непривычное молчание. Ему было интересно, как справится с заупрямившимся Графом, опасения которого бесспорно имели веские основания, главный человек здесь – Хайям. Он был уверен, что не справится, и, получив тому подтверждение, счел себя вполне удовлетворенным и даже обязанным немедленно вступиться и сломить жалкое сопротивление Графа. – Это когда они еще узнают… А я вот знаю уже сейчас, что ты начинаешь юлить, как паршивая собака, совсем не по-графски. И мне это очень не нравится. Ты понимаешь, что это значит, а, Граф?
– Ой, ну вот только не надо, пугать меня не надо, мы же в одной команде, Ахмет, я же не против, просто нужно легенду, хорошую легенду, чтобы не было сомнений потом…
– Лучшей легенды, чем я предложил, быть просто не может. Ты знаешь, как меня называют друзья, Граф? Не знаешь. Ну, так я тебе скажу по дружбе. Меня называют Хайям. Знаешь, кто такой был Хайям? Он был великий поэт, мыслитель и философ, и никто лучше него не слагал легенды. Поэтому езжай и гордись – твоя легенда от самого Хайяма. И хватит – пока мы с тобой рассуждаем о возвышенной поэзии, презренные бомжи могут расползтись по своим норам – наступает время послеобеденного отдыха, священное, между прочим, время. Или у вас не так?
Граф Орлов искренне хотел бы ответить на вопрос Ахмета: сейчас этот немногословный интеллигент казался ему в сто крат опаснее воинственного Маги, но он понятия не имел, что нужно отвечать. Поэтому, решив не испытывать далее судьбу, повернулся и быстро пошел к своей машине, механически отметив про себя, что внутри салона сейчас настоящая сауна – градусов девяносто, не меньше.
Так и оказалось.
Включив двигатель, он первым делом выставил кондиционер на максимальную отметку и только после этого со злостью вдавил в пол педаль газа.
Подняв столб раскаленной пыли, джип сорвался с места, и скоро только маленькая черная точка, стремительно перемещаясь к горизонту, нарушала покой и безмолвие горячей степи.
– Вызови мне такси!
Он молча поднялся и пошел к телефону в гостиной, хотя на тумбочке у кровати в спальне тоже был аппарат. Встать ему было сейчас необходимо. Встать, сделать несколько шагов, открыть дверь, поднять трубку телефона, услышать человеческий голос. Что-то сказать и быть услышанным. Все это было для него крайне важно. Важно было понять, что он существует. Как и прежде: самостоятельно и независимо от нее.
Причем сделать это следовало немедленно. Иначе… Он сам не знал, что может произойти – вернее, не мог вот так, с ходу этого осознать и сформулировать. Сейчас он вообще соображал очень плохо, и только чувствовал. Но чувства были остры. При том, ничего похожего за все свои сорок лет Дмитрий Поляков не испытывал никогда. Он просто и неожиданно, почти не заметив того поначалу, перестал быть самим собой. Утратил собственное «я», причем не только в переносном смысле. Физическом, материальном – пожалуй – тоже. Остро чувствовал, как странным – немыслимым – образом растворился, растаял, как кубик льда, в любимом scott’s – в чужом, постороннем и неприятном ему человеке. В этой женщине. В ней. В какой момент, как и почему произошла эта дикая метаморфоза, он не понимал. Но она произошла.
Теперь звериный инстинкт самосохранения гнал его прочь, пусть не так далеко, за неплотно прикрытую дверь, подчиняясь – к тому же – приказу этой женщины. Но – прочь.
Ели мог он сейчас, рассуждать здраво, то, наверное, счел бы это глупым, ибо было понятно – потеря себя, привычного, происходит на уровне нематериальном. Так при чем же здесь прикрытая дверь? Рассуждать, однако, Дмитрий был не в состоянии. Его гнал инстинкт, и он, не раздумывая, подчинялся.
Консьерж сообщил, что машины дежурят у входа в отель постоянно, надо просто спуститься в холл. И он обрадовался этому несказанно – важно было как можно скорее оторвать себя от нее.
Он не стал возвращаться в спальню – мысль об этом приводила в ужас и бешенство одновременно. Сидя возле телефона в гостиной, крикнул, что такси ждет, и замер, ожидая ответа. Она могла потребовать сначала ужин, шампанское, еще любви, сказать, что передумала, ехать и остается до утра, да что там до утра – до конца его жизни. Она могла выдумать все что угодно, и он подчинился бы любому ее решению. Ситуация складывалась ирреальной, невозможной, в принципе, но самое дикое заключалось именно в том, что она была, существовала на самом деле, в реальном времени и пространстве. С ним, Дмитрием Поляковым.
И заключалась в следующем.
Эта женщина по-прежнему так же не нравилась ему, как и в первые минуты знакомства на пустынной аллее старого кладбища. Его по-прежнему и даже сильнее, чем прежде, раздражало, пугало, бесило в ней все: яркая необычная внешность, неестественная, манерная речь, резкие перепады настроения. То она вдруг начинала говорить долго и туманно, касаясь тем малопонятных – философия, религия, мистика. То вдруг – приступ безудержного веселья – и тогда острые на грани пошлости и шутки, гримасы и телодвижения. Потом – и практически беспричинно – приступ меланхолии. Она замолкала, не замечая ничего вокруг, глаза наполнялись влагой. Потом – нежданный, непрошеный порыв нежности – холодный фиолет неземных глаз таял, расплавляясь как воск горящей свечи, теплел и мерцал такой бездонной любовью, что хотелось плакать и стоять на коленях. Была еще отвратительная манера держать себя так, будто всякое пустячно желание ее – для окружающих дело решенное и первостепенное.
И еще было ее тело, такое податливое и властное одновременно, что не воспринималось телом собственно человеческим. И даже в минуты, когда он испытывал наслаждение, никогда не изведанное им, сорокалетним здоровым, красивым и богатым мужчиной прежде, даже тогда какая-то малая частица души кричала, что не может дарить такое просто женщина. А если может, то, что же должна сама пройти и пережить ранее?
Но эта была лишь часть проблемы.
Другая заключалась в том, что с первых минут их странного знакомства, он ощутил над собой полную и абсолютную ее власть. А спустя еще некоторое время то самое мучительное чувство полного – без остатка – растворения собственного я в чужом и чуждом внутреннем мире. Так тают снежинки теплой зимой, слетая с небес в лужицы талого снега, – стремительно, покорно и бесследно.
Были еще два обстоятельства, наводящие на него, даже не страх – ужас.
Первым был фактор времени. Пережитое, осознанное, а более – прочувствованное подле нее – в нормальной жизни – должно бы растянуться на месяцы, если – не годы. Но все уложилось сегодня в какие-то несколько часов. Но было странное чувство, почти уверенность в том, что каждый этот час, вопреки законам природы, заключал в себе не минуты – числом, как известно, шестьдесят – а именно годы, возможно – десятки лет. При том, похищая их из будущей, отмеренной ему на этой земле жизни.
Вторым – было удивительное состояние его сознания, понятное – как ни странно – ему совершенно, в малейших деталях и скрытых обычно нюансах, во всей остроте ощущений и переживаний. Там, в лабиринтах души – без преувеличения – поселилось теперь два человека. Он знал это наверняка. Вернее, два его «я», первому из которых она была абсолютно нетерпима и отвратительна. Однако ж, оно, это «я», вдруг оказалось абсолютно безгласно и бессильно. Второе же «я», напротив, было полностью подчинено, растворено в ней, и как бы даже принадлежало уже не ему, Дмитрию Поляковы, а ей, женщине с фиолетовыми глазами. То – было в силе: рассудок, воля, тело – подчинялись ему беспрекословно. Еще более удивительным было то, что второе «я» с первым было полностью согласно, но действовало, тем не менее, с точностью до наоборот. Все это было так сложно и запутанно, что он, прежний никогда не осилил бы подобной коллизии, и даже пытаться не стал, не случись крайней нужды. Теперь же, нужда была и Дмитрий Поляков, как умная собака, все понял, и вроде даже постиг странные, умопомрачительные детали. Но выразить вербально – как подобает человеку, и даже взглядом – как умеют породистые псы, не смог бы.
От него, прошлого осталась теперь лишь отчаянная бешеная ярость, закипавшая рваной, белой пеной, но второе «я» прочно держало ее в узде.
Она не отозвалась никак, и он остался сидеть в неудобной позе, на самом кончике глубокого, мягкого кресла, обитого – как и стены гостиной – нежным золотистым шелком.
Раньше он любил этот небольшой двухкомнатный люкс в бывшем графском замке, и эту золотистую гостиную с огромным зеркалом в ампирной бронзе над белым мраморным камином, удобную дворцовую мебель, с продуманной небрежностью расставленную на дорогом ковре. Теперь было не до интерьерных изысков отеля «De Crillon», он напряженно прислушивался к тому, что происходит в спальне с большой – как и полагается – кроватью и множеством белых зеркальных шкафов вокруг нее.
Он помнил, как помогая ему впервые разместиться в этих апартаментах, служащий отеля интересовался, не кажется ли господину Полякову спальня, с ее обилием зеркал и позолоты, маленьким столиком с двумя легкими креслами, примостившимися в ногах кровати, слишком дамской? Быть может, он хочет посмотреть другой, более строгий номер? Но ему понравился именно этот, хотя недостатком мужественности Дмитрий Поляков никогда не страдал. Никто никогда не находил в нем намека на женственность, однако спальня почему-то понравилась.
Мог ли он знать тогда, сообщая предупредительному служащему, что номером доволен вполне, что наступит время – спустя столько приятных ночей, проведенных в бело-зеркальной спальне – будет напряженно прислушиваться к каждому звуку, долетающему оттуда, и мучительно желать одного: остаться, наконец, одному.
Сейчас ему казалось, что с ее уходом разрушится та странная власть, что за пару часов приобрела над ним эта женщина. Он сможет, наконец, спокойно разобраться во всем – а раньше, что бы ни случалось в жизни, ему всегда удавалось это: спокойно разобраться во всем – лечь спать и заснуть, а утром…
О, утром – он был почти уверен – наваждение рассеется окончательно!
Он будет пить крепкий кофе с горячими круассонами, которые наверняка предложит пассажирам своего утреннего рейса авиакомпания «Air France», с недоумением и легкой досадой вспоминая вчерашнее приключение.
Дверь в спальню отворилась – и он готов был вознести молитву, поскольку желание его, похоже, начало немедленно исполняться.
Она появилась на пороге, аккуратно причесанная, одетая в темный костюм, обливающий стройную худощавую фигуру, словно плотный поток густой, матовой жидкости. На ногах – классические лодочки на очень высоком и очень тонком каблуке. Такая, как если бы ничего не происходило с ними в эти несколько часов, да и не было никаких часов, а только что и – разумеется, ненадолго – прямо с тенистой аллеи старинного кладбища, она заглянула к нему в номер, с тем, чтобы немедленно покинуть его, вероятнее всего – навсегда. И только шляпку теперь держала иначе, чем тогда, – не трепетно, двумя руками прижимая к груди – небрежно, в опущенной левой руке, слегка помахивая, как если бы это была большая легкая сумка.
– Не провожай меня и, пожалуйста, не приближайся, я привела себя в порядок, а ты что-нибудь сомнешь непременно. – Сейчас она пребывала в веселом, игривом настроении, но не кокетничала вовсе, а действительно не хотела его прикосновений – его уже не было рядом: она так настроилась и не желала ничего другого.
Он неуклюже, торопливо поднялся из своего кресла и, остановленный ее репликой, топтался на месте, ощущая себя совершенно неловко оттого, что был одет в халат, довольно короткий для него. Босые ноги казались ему неприлично голыми, перед ней – чужой и изысканной.
– Я ведь, кажется, говорил тебе, что собирался лететь завтра утром, но если ты хочешь… – будь под рукой пистолет, первое «я», наверное, героическим усилием прорвалось наружу и приказало ему застрелиться или застрелить ее, что, с точки зрения второго «я», было почти одно и то же. Но первое было упрятано надежно и прочно, второе же продолжало жалко мямлить, пытаясь изобразить при этом легкую небрежность, – мы могли бы провести еще несколько дней здесь… Или поедем куда-нибудь? Может, в Ниццу? Или Довиль? В Нормандии сейчас прилично – тепло и не жарко, по-моему.
– Завтра? Ну завтра ведь и будет завтра, – она снова кокетливо помахала шляпкой на уровне худой щиколотки, – завтра – это еще очень не скоро. Хорошо, я позвоню тебе завтра, и тогда поговорим. Вообще, не люблю Ниццу, особенно летом. А Довиль?.. Я подумаю. Завтра. А теперь отвори мне дверь, но не смей меня трогать. Помнишь, что я сказала, да? Ну, прощай.
– Но ведь уже завтра, – он послушно сделал шаг в сторону двери и даже взялся рукой за витую тяжелую ручку, но остановился – осталось несколько часов – и рассветет. Самолет у меня утром, это, конечно, не проблема, но…
– Отвори мне дверь, – повторила она более монотонно. И он понял, что игривое настроение сейчас сменит холодная тупая апатия.
– Конечно, иди, если хочешь, но, по крайней мере, дай мне знать до отлета или оставь какие-нибудь свои координаты, чтобы я мог…
– Какое смешное слово – координаты, – медленно произнесла она без тени улыбки и повторила по слогам: – Ко-ор-ди-на-ты. Я позвоню тебе завтра, прощай.
Она прошла мимо, так невесомо, что он не ощутил даже легкого колебания воздуха на лице, хотя она едва не коснулась его, ступая за порог, и только запах ее духов едва уловил и, вдохнув глубоко-глубоко, удержал на долю секунды – терпкий запах мокрой листвы какого-то экзотического растения. «Цветы у него должны быть огромными и непременно темно-фиолетовыми» – мелькнула в голове странная и неожиданная мысль и, почти не замеченная, растворилась. Некоторое время он постоял у распахнутой двери, а потом медленно затворил ее и, словно не узнавая привычных предметов, с некоторым удивлением оглядел опустевшую наконец гостиную.
Похоже, этой ночью, вернее в последние предрассветные часы первой ночи нового одна тысяча девятьсот семнадцатого года, Ирэн фон Паллен приходила в себя дважды.
Напиток, предложенный Рысевым, оказал на нее действие немедленное и удивительное: она стремительно провалилась в забытье, которое не было сном, потому что спала она всегда очень чутко, просыпаясь от малейшего шума, и даже простого колебания воздуха, вызванного, легко порхнувшей у раскрытого окна занавеской. В этом сне она была отгороженной от внешнего мира, заполненного беспрестанным шумом: громкими криками и смехом, звоном посуды, музыкой и шумом падающих предметов – такой плотной и непроницаемой пеленой забвения, что, казалось, он перестал существовать для нее вовсе. Но и внутренний ее мир, оживающий более обычного как раз в часы тревожного сна, теперь был безмолвен и темен, скован вязкой паутиной странного зелья. Она не видела снов, душа не отозвалась на обычный призыв, не воспарила над миром, как случалось прежде, особенно – если забывалась под утро после долгих часов лихорадочного бодрствования в кокаиновом горячечном бреду.
Очнувшись первый раз, словно вынырнув из холодных глубин темного омута, Ирэн не сразу пришла в себя и, некоторое время лежала в прохладной тьме, постепенно осваивая собственное тело и, возвращая душу.
Она обнаружила себя совершенно обнаженной, лежащей на широкой прохладной постели, убранной мягким, струящимся шелком. Комната скрывалась во тьме, не было даже ночника у кровати, но почему-то она казалось, что она велика, не в пример той предыдущей, где приняла из рук Рысева древний кубок со странным питьем. Где-то здесь, к тому же, непременно было открыто окно, оттого воздух был свеж и наполнен сырой прохладой петербургской ночи.
Ирэн осторожно пошевелила руками, ногами, отчего прохладные шелка тут же пришли в движение, легко скользя, обласкали кожу. Тело подчинилось легко, но – в то же время – казалось каким-то чужим, пустым, остывшим и безумно усталым. Словно кто-то неведомый, скрыто владел им в то время, пока была в забытьи, пользовал нещадно по своему тайному усмотрению, и возвратил лишь теперь, перед самым пробуждением, надеясь, что она ничего не заметит.
«Он овладел мною конечно, но зачем же так?» – вяло, без возмущения и даже без особой обиды подумала Ирэн. Она была скорее раздосадована, потому что к близости Рысевым хотела, ждала от нее чего-то необычного и волнующего, вроде того, что было в словах, обращенных к ней накануне. Но и досада была какой-то вялой, апатичной, тусклой, как прочие ощущения и желания. Она пыталась встать, отыскать какой-нибудь светильник, чтобы оглядеться, но почему-то не сделала этого. Потом – хотела поразмыслить о случившемся, что-то вспомнить – но и на это не нашла сил. Легкая дымка, которой – как будто – все еще было подернуто ее сознание, сгустилась, и снова, незаметно для себя, погрузилась, в глубокое вязкое забытье.
На этот раз, однако, оно не было таким же темным и безмолвным, как поначалу. Теперь ей снился сон – возможно, впрочем, и не сон вовсе, а то, чему немой свидетельницей стала душа, получившая – как прежде – временную свободу.
Виделась битва, в которой сошлись сотни разгоряченных всадников, одетых в странные одежды, окрашенные в пурпурный цвет – у одних воинов и кипенно-белые – у других. Сражение шло в долине, пролегающей между двумя полукружьями горных хребтов, зеленых и голубых у основания, с вершинами, увенчанными сияющими снежными покровами. Солнце уже клонилось к закату, лучи наполненные ярким багрянцем, насквозь пронизывали долину, отчего белые одежды всадников казались алыми, а красные, наливаясь пурпуром, становились почти черными, как редкие темные рубины. Такие – видела Ирэн в старинной диадеме, хранившейся в доме фон Палленов, вместе с другими бесценными украшениями многие годы, возможно – века. Из поколения в поколение драгоценности передавались в семье по женской линии. Теперь – ожидали Ирэн в тяжелой серебряной шкатулке-ларце, упрятанной в тайнике в маменькиной спальне.
Сражением, между тем, продолжалось.
Слышался звон оружия, боевые призывы воинов, конское ржание, крики и стоны умирающих.
Их было уже великое множество, поверженных на землю, залитых кровью, сочащейся из ран. И невозможно было понять, какой армии воин убит или ранен – одежда была одинаково окрашена кровью.
Живые – однако – не оставляли ратного дела: битва продолжалась с неиссякаемой яростью. Лица воинов казались безумными, искаженные гримасой ненависти и смертельного азарта.
Во сне – Ирэн тоже была среди них, облаченная в белое, густо забрызганное кровью – и оттого почти алое платье – верхом на горячей сильной лошади с мечом в одной руке и легким золотым щитом – в другой. Волосы ее были распущены, украшала – почему-то – той самой диадемой из огромных темных рубинов, похожей – сейчас – корону. Впрочем, теперь она и была короной, потому что Ирэн в этой битве была не просто отважной воительницей, валькирией, но – королевой, которая – именно – вела за собой белое воинство.
Второй раз Ирэн пробудилась стремительно, вдруг, будто чья-то могучая рука властно выдернула ее из самого пекла кровавой битвы, вынула меч из натруженных рук, сорвала одежды, пропитанные кровью.
Она резко села на кровати, отшвырнув одеяло ногами, напряженными, сведенными судорогой, словно все еще нужно было держаться в седле, пробиваясь сквозь пламя битвы.
В комнате стояла – вроде бы – гулкая тишина, но в голове звенел, булат клинков, гремел шум сражения.
Некоторое время она сидела неподвижно, тяжело дыша, готовая в любую минуту снова вступить в борьбу. Но, ощутив вполне прохладный покой опочивальни, успокоилась и, постепенно пришла в себя. Поняла – наконец – что это был лишь сон. Выскользнула из душных объятий кошмара.
Однако что-то все равно было не так. Покой и тишина казались обманчивыми и пугающими – словно битва лишь отступила, затаилась, во мраке, принимает в эти минуты какие-то другие, неведомые пока формы, но продолжается. И не Ирэн фон Паллен проводит первую ночь наступившего года в случайной постели случайно знаменитого поэта – все та же валькирия, королева могучего воинства, затаясь до поры до ждет своего часа. Своего подвига? Какого? Думать об этом сейчас было нельзя, потому что нельзя было отвлекаться от того, что происходило вокруг – битва могла в любой момент возобновиться.
Странное состояние Ирэн, было для нее – теме не менее – совершенно реальным.
Даже тонкие руки во тьме, осторожно подняла к голове, чтобы поправить рубиновую корону, но диадемы не было. Ирэн, впрочем, нисколько не удивилась и уж тем более не испугалась утрате, ибо вдруг поняла: сейчас так и надо. Наступит время, пробьет час – корона увенчает ее царственную голову по праву.
Так все и будет, но несколько позже.
Ирэн она напряженно напряжено прислушалась, потому что различила вдруг какие-то голоса поблизости. Бесшумно выскользнула из постели. Ловко, как грациозное хищное животное, крадучись в кромешной тьме, двинулась на звук этих голосов, минуя препятствия на пути и не производя ни малейшего шума. Вскоре оказалась она у холодных, тяжелых больших дверей, ведущих в соседнюю комнату, и, приникнув к ним, обратилась в слух.
Говорили трое.
Одного говорившего узнала сразу – это был Стива фон Паллена. Он как раз говорил теперь, и голос был не пьян, но звучал необычно. Стива говорил странно и сбивчиво оттого, что чем-то был сильно напуган.
– Нет, это совершенно невозможно, и вовсе не оттого, что мне жаль ее или я испытываю какие-то сентиментальные чувства. Эта женщина давно чужда мне и безмерно далека. Да, собственно, никогда и не было иначе. Это, знаете ли, физиологическое родство, людьми высшего порядка никогда и не принимается всерьез. Но… Но это невозможно, именно теперь невозможно… И опасно, поверьте мне, опасно не только для меня, но и для всех нас…
– Да отчего же, друг мой?
Он и второй голос узнала сразу, без колебаний.
Глубокий и низкий, он принадлежал к той редкой породе голосов, уже самим тембром своим задевавших какие-то неведомые глубоко скрытые душевные струны, заставляя их звучать, наполняя слушателя небъяснимым трепетом: восторгом или ужасом, в зависимости от того, что именно говорил голос. Это был голос Ворона – которого она про себя и в лицо осмелилась, было, называть небрежно Рысевым. Но только до поры. Теперь, едва он заговорил, Ирэн испытала снова сильнейшее душевное волнение, сродни тому, какое испытала сначала.
– Отчего же вы думаете именно так, когда все обстоит как раз наоборот, – продолжал он между тем мягко, но властно. – Вы замечательно сформулировали это. Про физиологическое родство, право, лучше и не скажешь, и, стало быть, вас ничто не должно остановить в вашем решении. Что же до опасности, то она, конечно, есть, но именно сегодня сведена к нулю. Я никогда не ошибаюсь в своих расчетах. Действовать нужно теперь же. Немедленно. И довольно об этом. Споры нам сейчас ни к чему. Время торопит, скоро рассвет. – Бархат отдернули, как тяжелую мягкая портьеру, за ней оказалась кованая дверь, и, ударившись в нее, голос наполнился металлом.
«Господи, о чем это они? – еще не успев испугаться, а лишь удивленно подумала Ирэн. События, происходящие в реальном мире, на некоторое время так увлекли ее, что заслонили тревожное ожидание грандиозной битвы и великого подвига. – Что такое собираются совершить? И о какой женщине говорит Стива? Ведь это, наверное, обо мне? Физиологическое родство… Фу, какие гадкие слова! Но это ведь про нас с ним. Что же, они собираются убить меня, что ли? Но за что? И почему ему нужна моя смерть? – Испуг постепенно овладевал ею, а вместе с ним возвращалась туманная пелена, окутывая сознание, и оживала валькирия-королева. – Так вот как продолжится битва! Что же нужно ему? Моя жизнь или моя корона? Впрочем, разве это не одно и то же для меня и для него?»
Разговор между тем продолжился, раздался третий голос, который она никогда не слышала прежде.
– Прислуга ведь отпущена на сегодня, я правильно понял вас, господин барон?
– Да… То есть я так думаю… То есть я не знаю наверное. Господи, да не думаете же вы, господа, что я командую прислугой. Откуда мне знать, в конце концов…
– Конечно, не ваше это дело, поэтому я проверил – прислугу матушка ваша изволила отпустить. Другого такого раза долго теперь не представится.
– Нет, господа. Не сегодня. В конце концов, я решительно против, и все тут!
– А вот эдак вы изволите выражаться совершенно напрасно, друг мой. – Голос Ворона сейчас снова был мягок, но властен. – Вам было предоставлено достаточно времени решить вопрос другим, каким угодно, образом. Вы – также – сами изволили, определить срок. Итак, располагаете, по его истечение, суммой, которую задолжали мне и моим друзьям?
– Господи, да зачем же вы спрашиваете? Вам же прекрасно известно, что нет! И я же не против, исполнить ваш план, господа! Но не сегодня, Бога ради!..
– Не стоит упоминать всуе Иисуса из Назарета, он, как мне помнится, этого делать не велит. Да и что такое за день сегодня, что вы так противитесь?..
– День как нельзя более подходящий, и упрямство ваше, господин барон, я понимаю как трусость, но с этим никуда не денешься в любой день.
– Не смейте! Кто дал вам право обвинять меня в трусости?! Я должен вам, да, должен, но не смейте забываться! Я – барон фон Паллен!
– Сие обстоятельство нам известно. И если других объяснений вашему нежеланию сделать все дело сегодня, кроме тех, что так и не прозвучали, у вас, господин барон фон Паллен, нет, то извольте прекратить истерику и начинайте немедленно действовать, как мы договорились.
– Но Ирэн! Она же не может оставаться здесь одна. Она проснется наконец и потом все поймет.
– Ваша сестра и не останется здесь одна, потому что она теперь же поедет с нами.
– Нет! – Голос Стивы, и без того, срывался во время всего разговора на безобразный тонкий, совершенно женский крик, сейчас обернулся визгом. – Нет! Вы не смеете посвящать ее в это! Она не может…
– Она посвящена и ко всему готова куда более вас, друг мой.
– Это невозможно… Я вам не верю… Ирэн…. она не может с этим согласиться. Никогда! Никогда!
– Мы теряем время, и это жаль. Но извольте подождать еще минуту.
– Зачем это, Ворон? Зачем нам нужна эта истеричка там?
– Я так хочу. И в этом есть часть моего плана. Сейчас я приведу ее.
Тело Ирэн, замершее у двери и сжатое как пружина, стремительно распрямилось, безошибочно рванулось к постели, которую – ожил инстинкт грациозного и сильного хищника. Она метнулась сквозь прохладную темень, как и прежде не задев ни одного предмета и почти бесшумно. Когда тяжелые створки двери начали медленно отворяться, рассекая темноту пространства тонкой полоской яркого света, она уже лежала, закутавшись в холодный шелк покрывала, затаив дыхание, отчего ей казалось: сердце остановилось в груди, чтобы не выдать ее тому, кто мягко ступал сейчас в полумраке, уверенно и неотвратимо приближаясь.
Она слышала весь их жуткий разговор, но смысл его так и не стал ей понятен. Мысли ужасно, хаотично кружились в голове, путаясь все больше. Она – то постигала вдруг реальный смысл беседы, понимала, что речь о матушке, в отношении которой затевается нечто чудовищное, чего так боится, но не смеет противиться Стива. То, снова ощущая себя валькирией и королевой, принимала историю на свой и готовилась к новому кровавому сражению. Потом, ей вдруг – совершенно ясно – открылось, что за дверью совещались не враги ее, а соратники, которых предстоит возглавить и немедленно вести за собой.
Скрываться более не имело смысла, сказал кто-то внутри ее. Теперь, когда дверь в соседнюю комнату была открыта, в этой царил густой полумрак, но в нем хорошо была различима щуплая фигура Рысева, застывшая у кровати. В руках у него снова был давешний кубок, и он протянул его Ирэн, заговорив мягко и, как прежде, почтительно:
– Выпейте, Ирина Аркадьевна. Это освежит и взбодрит вас, теперь вы уже вполне отдохнули и, наверное, пожелаете встать и присоединиться к нам.
Она послушно приняла протянутый кубок, наполненный каким-то напитком, действительно иным, чем первый. Этот напоминал лимонад, был кисловат и вроде игрист, наподобие шампанского, но вкус был так же приятен. Она с удовольствием осушила кубок до дна, ощутив вдруг сильную – до сухости во рту – жажду.
Напиток подействовал мгновенно.
Ирэн еще жадно допивала последние капли, а мысли уже удивительным образом прояснились.
«Хорошо ли вы чувствуете себя теперь, ваше величество?» – из прохладного полумрака обратился к ней почтительный голос одного из ее воинов.
«Вполне», – отвечала она ему ровно и дружелюбно, как и подобает королеве.
«Готовы ли вы действовать?»
«Готова. Но все ли готово у вас?»
«Разумеется, иначе я не посмел бы нарушить ваш покой?»
«Что ж, тогда не станем терять время».
«Вы, как всегда, правы, ваше величество, время не ждет».
Движимый страхом, Граф обернулся с поездкой на станцию и обратно в рекордные сроки.
Новенькую машину, любовно украшенную модными автомобильными прибамбасами, гнал по пыльной степной дороге, не жалея и не разбирая пути. Так – наверное – загоняли насмерть в бешеном галопе лошадей далекие предки, спасаясь от погони, спеша по своим неотложным казачьим делам или просто в пьяном кураже, затуманив сознание хмельной отравой ядреного местного самогона.
К тому же – ухоженная, дорогая машина претерпела в этот день еще одно существенное оскорбление. Нарядный кожаный салон, охлажденный мощным кондиционером – на обратном пути – осквернили своим присутствием пассажиры, ни один из которых – при других обстоятельствах – не посмел бы приблизиться к роскошному авто, во избежание немедленных, крупных неприятностей.
Но сегодня обстоятельства сложились иначе.
На железнодорожной станции Граф обнаружил четырех бродяг, скрывающихся от жары в тени полуразрушенного здания депо. Те – просто валялись на земле, подстелив под грязные, потные, изнывающие от жары и вечного похмелья тела, ветхое, полусгнившее тряпье, и пребывали в тупом, полуобморочном состоянии – жара была слишком изнуряющей. Появление Графа – в таких условиях – было манной небесной. Они почти не слушали его слов, а если слушали – вряд ли понимали суть сказанного. Понятно было лишь одно: есть работа, потом – возможно – будет выпивка и еда. По поводу обещанных денег никто особых иллюзий не питал: денег им давно не платили, кто, сколько бы ни обещал.
Они поехали бы, куда угодно, с кем угодно, согласны были на любую работу просто за еду. Но Граф на глазах оживших бродяг загрузил в багажник несколько бутылок водки, купив их прямо на перроне – в грязной торговой палатке – и это было самой надежной гарантией.
Монастырские развалины не произвели на бомжей никакого впечатления. Возможно, они недавно кочевали в этих краях и слухи о страшном прошлом здешних развалин, еще не достигли грязных ушей, возможно – пребывали уже в том состоянии духа и тела, когда все одинаково безразлично: добро и злодейство, жизнь или смерть, и уж тем более, что, где копать.
Последнее – было более вероятно, поскольку никого на смутила ярко выраженная кавказская наружность «археологов из Москвы», несмотря на то, что слухи о постоянных угонах людей в Чечню, давно будоражили приграничные южнорусские губернии. Похоже, эти четверо, уже не боялись ничего: даже рабства.
Они внимательно, но без малейшего интереса выслушали объяснения по поводу предстоящей работы, и так же бесстрастно взялись за нее, вооружившись инструментами, купленными Графом у станционных рабочих за бутылку водки из той грязной палатки: тяжелой, старинной киркой, ржавым погнутым ломом. Две саперные лопатки предусмотрительный Граф захватил с собой из дома еще утром. Оказалось, что не напрасно.
Было четыре часа пополудни. Однако солнце, хотя и сползало из зенита, медленно и неохотно, дело свое вершило по-прежнему справно.
Пекло яростно, беспощадно, отчего пустынное степное пространство казалось огромной раскаленной сковородой, которую растяпа-хозяйка попросту забыла на пылающей печи.
Сказать, что Дмитрий Поляков был сломлен, раздавлен, повергнут в пучину самых противоречивых, неведомых прежде чувств, значило не сказать ничего.
Прошло уже изрядно времени, с той минуты, как за ней закрылись створки высоких белых с позолотой дверей его номера в парижском отеле «De Crillon», а он по-прежнему оставался в состоянии полного смятения и растерянности, плохо соображая, что произошло.
Возможно, на другого человека, случившееся не произвело столь сильного впечатления.
В конце концов, это была – бесспорно – необычная, пикантная, острая, но – всего лишь – авантюра, из числа тех, что случаются в жизни каждого мужчины.
Но Дмитрий Николаевич Поляков, сорокалетний, преуспевающий российский предприниматель, неглупый, по-своему, образованный – словом, человек совершенно обыкновенный, с рождения обладал не слишком приметной, но довольно существенной особенностью личности.
Угодно было бы судьбе, определить Дмитрия Полякова на постоянное жительство – к примеру – в средние века, наградив, к тому же – дворянским титулом, фамильный герб нашего героя, непременно украсил девиз, состоящий из одного единственного слова. Слово это было бы: «Простота»
В двадцатом веке фамильные девизы упразднили, и Дмитрий Поляков вполне довольствовался тем, что почитал простоту и ясность главными факторами, определявшими успех и благополучие в этом мире. До это дня судьба – определенно – миловала его. Все и всегда в жизни было просто и ясно, и потому – как полагал – вполне успешно. Он был доволен.
Так было с раннего детства.
Просто и ясно все было в его семье, где сначала единственным и непререкаемым главой был дед, потому что он же был источником номенклатурных благ, которые пользовали все домашние. Бабушка была единственной, похоже, в этом мире слабостью деда, которой он – а значит, все прочие – прощали постоянный сумбур мыслей и поступков, девическое – до глубокой старости – кокетство, детскую обидчивость и младенческие капризы. Возможно потому, он с детства любил находиться подле бабушки, обретая – тем самым – права на некоторую часть ее семейных привилегий.
Мама была дочерью сурового чекиста и вела себя в этой связи подобающе – держалась строго и собранно. Носила короткую стрижку и тяжелые дорогие костюмы, которые почему-то называли «английскими», хотя шили – все на один лад – в специальном ателье для высшего руководства КГБ. Бабушка услугами этого ателье не пользовалась – она упрямо заказывала яркие, нарядные платья, со множеством оборочек, рюшек, воланов и еще каких-то немыслимых украшений платья у модной частной портнихи. В их кругу это было принято, но бабушке прощалось.
Мать с золотой медалью закончила школу и с «красным» дипломом исторический факультет МГУ, однако по профессии работать не стала – ей определена была комсомольская, а затем партийная карьера. В детстве он очень редко видел ее дома: номенклатурным работникам в ту пору положено было подолгу задерживаться на службе. И самой яркой деталью в туманном образе матери из детских воспоминаний, был маленький алый значок с золотым профилем Ленина на темном лацкане строгого, похожего на мужской пиджак жакета. Говорили, что в юности она занималась стендовой стрельбой, и добилась на этом поприще каких-то спортивных званий, но дед не счел спортивную карьеру достойной дочери. В порядке компенсации, он изредка брал ее с собой на охоту, которую любил и баловался частенько.
Отец был просто маминым мужем, которому повезло стать зятем прославленного чекиста, потому что его дочери, как нормальной, здоровой женщине, надлежало в определенное время выйти замуж. Большего сказать о нем было почти невозможно. Он вместе с матерью закончил исторический факультет и добросовестно трудился над созданием новейшей партийной истории и творческим переосмыслением предыдущей в одном из научно-исследовательских институтов, имеющем высокую честь принадлежать к системе Центрального Комитета партии. Положение деда на иерархической лестнице имперского общества, позволило, определить зятя на службу в храм партийной науки. Но особо стремительной карьеры не обеспечило – отец скромно пребывал кандидатом наук и старшим научным сотрудником. На большее никто не рассчитывал. Дома любили, с молчаливого одобрения деда – которому эта история, похоже, нравилась – рассказывать, как, будучи совсем маленьким, Дима отвечал на вопрос, кто есть кто в их семье. Деда он назвал дедушкой, бабушку – бабулей, маму – мамой, а на вопрос об отце ответил – «зять». Отец смеялся над этим фамильным анекдотом громче других.
Со смертью деда ясности в семье не убавилось. Главной теперь была мама. Она к тому времени секретарствовала в одном из столичных райкомов партии, заведуя идеологией, и стала теперь главным источником номенклатурных благ. Более скромных – разумеется – но вполне приличных по тем временам.
Ни дня в своей жизни, не прослужившая ни в какой государственной должности, бабушка стала гордо именоваться «персональной пенсионеркой союзного значения», получив почетное звание, вместо умершего мужа – таков был тогдашний порядок. Ей тоже кое-что полагалось из номенклатурной имперской кормушки.
Оставшегося семейного влияния, вкупе – очевидно – с памятью о державных заслугах деда, хватило для того, чтобы, окончив школу, внук стал студентом самого престижного вуза страны – Института международных отношений. Его благополучно закончил и – без особых проблем – переместился со студенческой скамьи в некое внешнеторговое – по названию, но военно-разведывательное – по сути объединение, скромно торгующее весьма популярным товаром – советским оружием и военной техникой. Тут семьей были, безусловно, и – видимо уже в последний раз – задействованы связи покойного деда, которого в некоторых влиятельных инстанциях, к счастью, еще не забыли.
Далее Дмитрию предстояло автономное плавание, в котором он не рассчитывал на серьезные стратегические успехи и готов был довольствоваться некоторыми тактическими радостями.
Но уже дули с Запада свежие ветры перемен.
Далее все тоже произошло просто и ясно. Рухнувшая империя, конечно, погребла под своими обломками остатки номенклатурного благополучия семьи. Однако, тихая и малоизвестная в имперские времена контора, в которой добросовестно трудился внук, теперь открыто заявила о своем существовании. Из скромного чиновничьего кабинета Дмитрий Поляков стремительно переместился в лабиринты едва ли не самого опасного и прибыльного мирового бизнеса – торговлю оружием. И тут оказалось вдруг, что он не только умен и неплохо образован, но инициативен, смел, порой дерзок и склонен к продуманному риску.
Это оценили по достоинству.
Когда несколько энергичных и дальновидных людей, из числа высшего руководства компании, имевших возможность в тогдашней неразберихе отщипнуть кусочек общего пирога, организовали собственное дело, его позвали в команду.
И снова все сложилось просто и ясно.
Теперь главным в семье был он, и все приняли это с пониманием и готовностью. К тому же блага, которыми отныне он обеспечивал членов семьи, никому из них ранее – даже в годы самых стремительных карьерных взлетов деда – просто не снились.
Как ни странно, быстрее всех и как-то совершенно органично в новую жизнь вписалась бабушка, которой – к тому времени – было уже девяносто шесть лет. Однако ж, удивительным образом она сохраняла не только относительную физическую бодрость, но и абсолютную ясность ума. С прислугой – которая снова появилась в доме – водителями нескольких машин, охраной – управлялась так легко и просто, словно и не было перерыва, длинною в несколько десятилетий, минувших после смерти деда.
Матери и отцу перемены дались не так легко. Они стали тише, незаметнее, в глазах у обоих поселилась какая-то собачья преданность и одновременно страх перед ним – хозяином. К тому же они не верили, что все происходящее теперь надолго, и жили – как бы – взаймы, ожидая скорого и трагического момента взимания долгов. Мать, как докладывали ему спецы из служба безопасности – ко всему прочему – тайком бегала на коммунистические митинги, правда, активно сотрудничать с левыми не решалась. Он предпочел делать вид, что ничего об этом не знает. В конце концов это была ее жизнь.
Еще в далекие советские времена, закончив институт, он, как требовалось тогда человеку, потенциально мо́гущему, работать за границей, женился на внучке старинного соседа по даче в Валентиновке, ученого-атомщика из старой королевской когорты, с которой несколько лет подряд – в ранней юности – целовался ночами в густых зарослях сирени.
Позже они встретились на очередном семейном торжестве, и все сложилось как-то удивительно быстро, при активном участии матерей и бабушек с обеих сторон и, собственно, под их чутким руководством.
Жена оказалась, однако, женщиной удивительно скверной, жадной до умопомрачения, скандальной, ревнивой и ко всему – отвратительной хозяйкой. Рубашки его вечно были плохо выглажены, пуговицы болтались на одной нитке, а еду, которую она пыталась готовить, он просто не мог есть. Посему все то время, пока жил с семьей отдельно от родителей – в купленной солидарно родней обоих кооперативной квартире – ужинать заезжал к бабушке на проспект Мира. Она же заодно приводила в порядок и его одежду.
Жена – при этом – была абсолютно уверена, что эти часы он проводит у очередной любовницы, и время от времени впадала по этому поводу тихие, угрюмые истерики.
Она родила ему дочь – внешне, точную свою копию – отчего с той самой поры, как сходство стало очевидным, Дмитрий начал испытывать к собственному ребенку устойчивую неприязнь, которой в душе стыдился, но ничего не мог с ней поделать.
Он действительно часто изменял жене. Женщины всегда были к нему благосклонны: Поляков был недурен собой, обаятелен, приятен и легок в общении, щедр. Романы складывались – опять же – легко и просто, как все в жизни. И завершались так же, потому – наверное – что он никогда не обманывал своих женщин, обещая им то, чего не мог и не собирался делать.
Когда рухнули номенклатурные оковы, развод – для ответственных советских чиновников – перестал быть проступком, равным серьезному нарушению по службе, он тихо, без скандала, развелся с женой, обустроив их с дочерью таким образом, что – в итоге – обе остались довольны и даже благодарны ему за все.
Да, семейная жизнь оказалась, пожалуй, единственным начинанием в жизни, которое ему не удалось. По крайней мере, с первого раза. О втором пока не задумывался. Все – в этом отношении – пока устраивало вполне. Выходило, что даже неудача в жизни сложилась просто и ясно.
Было, впрочем, еще нечто, чем счастливо одарила судьба.
Благополучная, временами – счастливая жизнь Дмитрия Полякова на протяжении всех сорока лет, ни разу не создала альтернативы, необходимости выбирать между бесчестием и честью, предательством и верностью, подлостью и благородством. Не складывалось в его жизни таких ситуаций, и все тут!
Не вставал на пути в критическую минуту лучший друг и даже просто приятель, не приходилось подсиживать коллег, не закручивались обстоятельства таким паскудным образом, что в интересах дела непременно нужно было кого-то обмануть, «кинуть» – как говорили теперь в российском бизнесе.
Что тут скажешь?
Везло.
И везло фантастически.
Выходило: не предпринимая никаких особенных усилий, не томясь мучительным выбором, между нужным и должным, не ломая через колено собственное «я» – Дмитрий Николаевич Поляков оставался человеком порядочным. И никто, ни одна живая душа на этой грешной земле не имела ни единого основания утверждать обратное.
Потому-то, странно, удивительно и совершенно непонятно было, за что и кем ниспослана ему эта кара – дикая, безумная, страшно болезненная ситуация, воспринять которую, а тем паче – преодолеть, отмести, душа его была совершенно не способна.
«Опускается вечер, притаясь, караулит ночь.
Гаснут окна дворца, слуги чистят бесценный паркет.
По притихшим проспектам, как птицы, летят злые кони,
Запряженные в золото царских карет.»
Что это были за стихи?
Ну конечно же это были его стихи, странного и загадочного поэта Ворона, крохотный томик которого она с упоением читала глубокими ночами.
Ворон… Какое колдовское: чарующее и пугающее имя!
Ворон… Но ведь больше нет ни какой тайны. Теперь они знакомы и даже близки. Где же он? И отчего это вдруг она вспомнила его строки?
Ворон… Какие смешные глупости! Поэт Рысев, вот что это такое. Маленький, щуплый господин, услужливый и почтительный, как приказчик в галантерейной лавке. Вот, действительно, похоже – приказчик из галантерейной лавки!
И что это там было такое про валькирию и воительницу-царицу? Как чудно мчалась она – вроде – на коне с мечом в руках, и волосы развевались на ветру. Так красиво. Жаль, никто не сможет, нарисовать этого – получилась бы замечательная вещь! Ее портрет в образе валькирии. И корона была на голове. Нет, это была вовсе не корона, но что-то такое, очень на корону похожее Господи, что же это было? Как хочется вспомнить! Обязательно надобно вспомнить и непременно рассказать Стиве и maman. Особенно maman – она обожает все мистическое, непременно найдет всему толкование и еще обнаружит какой-нибудь тайный знак. Причем, недобрый. Нет, пожалуй, maman рассказывать не стоит.
Который, интересно, теперь час?
Ирэн наконец медленно разомкнула тяжелые – без зеркала чувствовала – отекшие веки.
В комнате стоял полумрак, но это был полумрак такого сорта, что сразу становилось ясно: на улице день и просто плотно задернуты тяжелые шторы на окнах. День обычный, питерский: бледный, чахлый, не знающий упоения солнечным светом, лазурного купола сияющих небес.
– Очнулись, Господи помилуй, очнулись барышня! – взволнованно зазвенел в полумраке незнакомый женский голос, мягко упал на толстый ворсистый ковер опрокинутый стул, прошелестела, всколыхнувшись под чьими-то стремительными шагами, пышная крахмальная юбка. И легкое колебание воздуха скользнуло в пространстве. Большего не успела разглядеть Ирэн, не увидела вскрикнувшей женщины – та уже скрылась за дверью.
Однако, сразу же дверь отворилась снова, прошелестели по ковру чьи-то легкие шаги, и в комнате вдруг запахло как в церкви – запах ладана мешался с запахом еще чего-то, названия чему Ирэн не знала, но это был устойчивый церковный запах. Еще так пахло в прихожей, когда maman велела пускать в дом странствующих монашек. Запах был настолько сильным, а вернее – настолько необычным, что она очнулась окончательно и широко открыла глаза.
Чья-то рука отвела полог у кровати, и она увидела склоненное над собою женское лицо.
«Господи, что такое случилось с maman? – мелькнула в сознании короткая быстрая мысль. – Когда же это она успела так исхудать и осунуться? И глаза… Нет, это не maman. И платье… Что это такое одето на ней, вроде бы монашеское?»
Женщина, стоявшая теперь у постели, была, действительно, удивительно похожа на ее мать, баронессу фон Паллен. Однако ж, лицо и фигура незнакомки – в отличие от статной баронессы – были очень худы, кожа покрыта густым, необычным для пасмурной столицы, загаром. Похожими были глаза – холодные, светло-синие – как вода в северных лесных озерах. На сухом загорелом лице они казались огромными, много больше, чем у баронессы, и смотрели совсем иначе: пристально и сурово – маменька никогда не смогла бы взглянуть так.
Кто вы? – спросила Ирэн, сама удивившись слабости своего голоса, а больше – той непривычной робости, что вдруг охватила ее при виде пронзительного, синего взгляда.
Мать Софья. Твоей несчастной матери – родная сестра и твоя, стало быть, родная тетка.
– Я знаю о вас, вас ведь зовут Ольгой?
– Звали, когда-то давно, в миру. Теперь – уж который год – зовут матерью Софьей.
– А где maman? Почему вы сказали – «несчастной»? И почему вы здесь? Разве случилось что?
– Что же ты, вправду ничего не помнишь? – Словно кто-то добавил льда в синие омуты – холодные доселе, они коротким ледяным всплеском царапнули лицо Ирэн, как если бы кто-то с размаху приложил к щекам пригоршню искристых, колючих снежинок.
– Да что же случилось, Господи? И зачем вы глядите на меня так страшно?
– Несчастную матушку твою призвал к себе Господь, ее более нет с нами.
– Но как?.. Господи, и когда… Нет, это не может быть правдой!.. Боже мой, maman! А Стива? Где Стива? Что же вы не говорите мне ничего?
Монахиня, так похожая на maman и такая чужая одновременно, действительно молчала, не отводя от лица племянницы пронзительных холодных глаз, словно раздумывая, отвечать ли ей.
Ирэн вдруг ясно почувствовала, что именно теперь эта чужая пугающая женщина решает про себя, говорит ли она, Ирэн, правду или лжет в чем-то, еще непонятном, но – совершенно очевидно – ужасном. Что непременно и самым страшным образом – причем с этой самой минуты – перевернет ее жизнь безвозвратно. От этой мысли ее немедленно захлестнула тоска и какой-то животный страх. Она заплакала, сначала тихо и бесшумно. Потом рыдания ее стали все сильнее, она уже не могла совладать с ними: тело сотрясали конвульсии, она почти кричала в голос, выкрикивая что-то обрывочное и бессвязное.
Дверь в спальню отворилась, порог ее торопливо переступили два человека – один был семейный доктор фон Палленов, профессор медицины Бузин, другого – моложавого господина, с аккуратно подстриженной темной бородой, Ирэн не знала. Впрочем, теперь она не узнала никого.