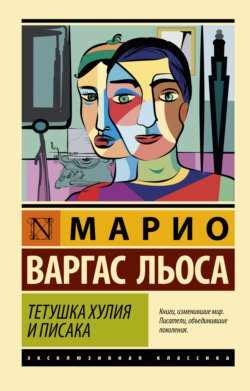Читать книгу Тетушка Хулия и писака - Марио Варгас Льоса - Страница 2
I
ОглавлениеВ те далекие времена я был очень молод и жил с дедушкой и бабушкой в белостенном доме на улице Очаран в Мирафлоресе[1]. Изучая право в университете Сан-Маркос, я вообще-то смирился с мыслью о том, что буду зарабатывать себе на жизнь как человек судейской профессии, хотя втайне мне хотелось бы стать писателем. Но пока я имел должность с громким названием, скромным жалованьем, неправедными доходами и гибким расписанием: я руководил Информационной службой «Радио Панамерикана». Моя работа заключалась в том, что я вырезал интересные сообщения из газет, слегка приукрашивал их и включал в радиосводки. Редакция, которую я возглавлял, состояла из одного молодого человека с сильно напомаженными волосами, отличавшегося особым пристрастием к сногсшибательным происшествиям. Имя его было Паскуаль. Радиосводки продолжительностью в одну минуту передавались каждый час, исключение составляли передачи в полдень и в девять вечера, когда они длились четверть часа, однако мы заготавливали сразу несколько сообщений, и потому я имел возможность подолгу бродить по улицам, сидеть за кофе на авениде Ла-Кольмена; иногда посещал лекции, иногда слонялся по студиям «Радио Сентраль», где обстановка была оживленнее, чем у меня на работе.
Обе радиостанции принадлежали одному хозяину и находились по соседству – на улице Белен, совсем близко от площади Сан-Мартина. Однако они были совершенно несхожи, напоминая пресловутых сестер из сказки: одна – избалованная барышня, другая – простенькая замарашка; так же резко отличались друг от друга и радиостанции. «Радио Панамерикана» занимала второй этаж и плоскую крышу великолепного здания, ее редакторы блистали претенциозностью, а программы – особым духом: снобистским и космополитским; все материалы подавались в модернистской манере и были обращены к аристократствующей, эстетствующей молодежи. Несмотря на то что дикторы этой радиостанции не являлись аргентинцами (как сказал бы Педро Камачо), они заслуживали того, чтобы быть ими. Станция передавала много музыки, чаще всего джаз, рок-н-ролл, редко кое-что из классики; ее волны первыми разносили по Лиме последние музыкальные новинки Нью-Йорка и Европы, но не пренебрегали и латиноамериканскими мелодиями, правда, только в том случае, если они выделялись определенной изощренностью: национальная музыка допускалась неохотно, да и то не дальше вальсов. Были программы с интеллектуальным уклоном, например «Картинки прошлого», «Международные комментарии», и даже передачи несколько фривольного характера вроде «Конкурса вопросов» либо «Трамплина к славе», в которых ощущалось стремление все-таки избежать явных глупостей или банальности. Свидетельством поисков в области культуры и являлась Информационная служба, в лоне которой мы с Паскуалем трудились, разместившись в деревянной будке на крыше, откуда можно было различить свалки мусора и невзрачные окна под убогими кровлями окраинных домов Лимы. К будке мы добирались с помощью подъемника, двери которого обладали неприятной особенностью открываться ранее положенного времени.
«Радио Сентраль», в отличие от нашей радиостанции, теснилась в старом здании со множеством переходов и закоулков; достаточно было послушать ее дикторов, чья речь отмечалась развязностью и изобиловала жаргонными словечками, чтобы понять, что ее аудитория – толпа, плебс, что ставка здесь – на национальные, креольские чувства. В передачах этой радиостанции информации было немного, зато тут господствовала перуанская музыка, царили мелодии Кордильер; нередко выступали и индейские певцы. Это случалось в дни публичных концертов, задолго до начала которых у здания радиостанции собирались толпы. Радиоволны буквально захлестывали музыкой тропиков, мексиканских и аргентинских напевов; программы были составлены просто, без особой выдумки, но отличались целенаправленностью, например: «Заказы по телефону», «Серенады в день рождения», «Сплетни из мира кулис», «Кинолента и экран». Главным блюдом этой радиостанции, весьма частым и обильным, которое, согласно всем опросам и анкетам, обеспечивало ей огромную аудиторию, были радиопостановки.
За день их передавали по крайней мере полдюжины, и мне доставляло особое удовольствие наблюдать за исполнителями, когда они разыгрывали перед микрофоном спектакли: то были стареющие актеры и актрисы, голодные и обтрепанные, чьи по-юношески чистые и ласкающие голоса ужасающе контрастировали со старыми лицами, горькими складками у рта и усталыми глазами. «В тот день, когда в Перу появится телевидение, этим людям не останется ничего, кроме самоубийства», – пророчествовал Хенаро-сын, указывая на актеров через стекла студии звукозаписи, где, как в огромном аквариуме, они толпились у микрофона с листками сценария в руках, готовые читать двадцать четвертую главу «Семьи Альвеаров». Действительно, какое разочарование постигло бы всех домохозяек, которых так трогал голос Лусиано Пандо, если бы они увидели его, скрюченного и косого; как огорчились бы пенсионеры, в которых мелодичный голос Хосефины Санчес пробуждал нежные воспоминания, если бы они разглядели ее огромный двойной подбородок, черные усики, оттопыренные уши и прыщи. Но до телевидения в Перу тогда было еще далеко, и радиотеатральная фауна в те времена, казалось, была обеспечена пропитанием, хотя и весьма скромным.
Мне всегда хотелось узнать, чье перо создавало радиосерии, развлекавшие по вечерам бабушку, истории, которые терзали мои уши в доме тетушки Лауры, тетушки Ольги и тетушки Габи, в домах моих многочисленных кузин в дни, когда я их посещал (наша семья, как и многие в районе Мирафлорес, была библейски многочисленной и дружной). Я предполагал, что радиопостановки импортировались в нашу страну, но был очень удивлен, узнав, что мои хозяева – Хенаро – покупали их не в Мексике и не в Аргентине, а на Кубе. Продукцию эту выпускала компания СМО[2] – разновидность радиотелевизионной империи, управляемой Гоаром Местре, седовласым джентльменом, которого я как-то видел в один из его приездов в Лиму в коридорчиках «Радио Панамерикана». Он шествовал, подобострастно сопровождаемый нашими хозяевами на виду у всего персонала, с почтением взиравшего на него. Я так много слышал об этой кубинской компании от дикторов, ведущих и операторов нашей радиостанции – для них СМО представляла нечто мифическое, как Голливуд той эпохи для кинематографистов, – что нередко мы с Хавьером за чашкой кофе в баре «Бранса» подолгу фантазировали, воображая себе пишущую братию, которая где-то там, в далекой Гаване, городе пальмовых рощ, райских пляжей, бандитов и туристов, в кабинетах с кондиционерами, оборудованных в крепости Гоара Местре, должна была работать по восемь часов в сутки за пишущими машинками, чтобы производить весь этот поток радиодрам с совращениями, самоубийствами, взрывами страстей, свиданиями, тяжбами о наследстве, с игрой случая и преступлениями, дабы проникновенные голоса лусиано пандосов и хосефин санчес скрашивали вечера бабушек, тетушек, кузин и пенсионеров каждой страны.
Хенаро-сын покупал (а точнее – СМО продавала) радиодрамы на вес и по телеграфу. Он мне рассказал об этом однажды вечером, потрясенный моим вопросом, читает ли он сам, читают ли его братья или отец сценарии, чтобы одобрить их перед выпуском в эфир. «А ты смог бы прочесть семьдесят килограммов рукописей? – возразил он со снисходительным участием, которое стал испытывать ко мне после того, как возвел меня в ранг интеллектуала: он увидел мой рассказ в воскресном приложении к газете «Комерсио». – Представь себе, сколько бы это заняло времени?! Месяц? Два? Кто же может затратить пару месяцев, чтобы прочитать самому сценарий радиопостановки?! Мы оставляем все на волю фортуны, и до сей поры, к счастью, милостивый Господь Бог нас хранил». В лучшем случае Хенаро-сын узнавал через рекламные агентства, через коллег и друзей, сколько стран уже купили радиодрамы, предложенные ему, и как они были восприняты радиослушателями; в худшем – он решал все сам, исходя из названий или по принципу «орел или решка». Радиопостановки продавались на вес, потому что это менее коварный способ, чем продажа по количеству страниц или слов; вес – единственное, что можно проверить. «Естественно, – говорил Хавьер, – если не хватает времени прочитать рукопись, то уж и вовсе некогда пересчитывать все слова». Будоражила его мысль о драме весом в шестьдесят восемь килограммов и тридцать граммов, цену которой, как цену говядины, сливочного масла или яиц, решали весы.
Но и такая система порождала для наших хозяев проблемы. Тексты были засорены словами чисто кубинского происхождения, которые за минуту до каждой передачи сам Лусиано и сама Хосефина и их коллеги переводили как могли (и всегда плохо) на разговорный язык перуанцев. С другой стороны, нередко при перевозке из Гаваны до Лимы в чреве парохода или самолета, при перегрузках на таможнях папки с машинописными текстами приходили в негодность, а иногда терялись целые главы; отсыревшие и склеившиеся страницы невозможно было читать, в довершение всего уже на складах «Радио Сентраль» их обгрызали крысы. Поскольку обнаруживалось это в последние минуты, когда Хенаро-отец уже раздавал исполнителям сценарий, возникали поистине трагические ситуации, разрешавшиеся простым игнорированием утерянных глав, отчего все становилось с ног на голову; в самых тяжелых случаях это приводило к однодневной болезни либо Лусиано Пандо, либо Хосефины Санчес, после чего в течение последующих двадцати четырех часов производилась реставрация – или уничтожение без особых травм исчезнувшего веса – в граммах или килограммах. Так как цены, установленные СМО, были высокими, вполне естественно, что Хенаро-сын почувствовал себя счастливцем, открыв существование и магические способности Педро Камачо.
Я прекрасно помню день, когда он рассказал мне об этом радиофеномене, потому что именно в тот день я впервые увидел тетушку Хулию. Она была сестрой жены моего дяди Лучо и лишь накануне вечером прибыла из Боливии. Недавно получив развод, она приехала сюда, в Перу, чтобы отдохнуть и восстановить силы и здоровье после матримониального краха. «А на самом деле – поискать другого мужа», – заключила на одном из семейных вечеров самая злоязычная из всей моей родни тетушка Ортенсия. По четвергам я всегда обедал в доме дяди Лучо и тетушки Ольги. В этот день я нашел членов семьи еще в пижамах: они «лечились» после тяжелой ночи холодным пивом и острыми маринованными улитками. Дело в том, что до рассвета они проболтали с вновь прибывшей гостьей, распив при этом на троих бутылку виски. У них болела голова; дядя Лучо страдал от мысли, что в конторе, наверное, все пошло вверх дном; тетушка Ольга утверждала, что стыдно не спать по ночам, кроме, конечно, суббот, а гостья – в халате, без туфель и с бигуди в волосах – распаковывала чемоданы. Она нисколько не смутилась, что я застал ее в таком виде, когда она менее всего походила на королеву красоты.
– Значит, ты и есть сын Дориты, – сказала она, запечатлев поцелуй на моей щеке. – Ты, кажется, уже закончил колледж?
Я смертельно возненавидел ее. Мои тогдашние стычки с семьей обычно вызывались тем, что все смотрели на меня как на ребенка, а не как на настоящего мужчину восемнадцати лет, каковым я являлся на самом деле. Ничто так не раздражало меня, как обращение «Марито»; мне казалось, уменьшительное имя возвращает меня к коротким штанишкам.
– Он уже на третьем курсе факультета права и к тому же работает журналистом, – пояснил ей дядя Лучо, протягивая мне бокал пива.
– Вот как! А выглядишь ты, Марито, все еще сосунком, – уколола меня тетушка Хулия.
За обедом она спросила меня – все тем же сладеньким голосом, каким взрослые говорят с идиотами и детьми, – влюблен ли я, хожу ли развлекаться, каким видом спорта увлекаюсь, и посоветовала не без коварства (я не понял: было оно неосознанным или намеренным, но которое тем не менее задело меня за живое), чтобы при первой возможности я отрастил себе усы. Брюнетам идут усы, пояснила она, усы, мол, будут способствовать моему успеху у девиц.
– Он не думает ни о юбках, ни о танцульках, – вновь вмешался дядя Лучо. – Он интеллектуал. И даже опубликовал рассказ в воскресном приложении к «Комерсио».
– Подумать только! А вдруг сын Дориты вырастет у нас совсем непохожим на остальных! – засмеялась тетушка Хулия, и я тотчас ощутил необыкновенную симпатию к ее бывшему супругу. Тем не менее я улыбнулся и постарался подладиться под ее тон.
В течение всей беседы за обедом она ввертывала затасканные боливийские остроты, то и дело поддразнивая меня. При расставании мне показалось, что ей все же захотелось как-то загладить свои колкости по моему адресу, а потому, сделав любезный жест, она заявила, что с удовольствием пошла бы со мной в кино: кино – ее страсть.
Я добрался до «Радио Панамерикана» как раз вовремя, чтобы помешать Паскуалю заполнить радиосводку, подготовленную к трем часам, сообщением о разыгравшемся сражении между могильщиками и прокаженными на экзотических улицах пакистанского города Равалпинди, которое было опубликовано газетой «Ультима ора». Подготовив материал для программ на четыре часа и на пять, я вышел глотнуть кофе. В дверях «Радио Сентраль» я столкнулся с Хенаро-сыном, у которого был на редкость возбужденный вид. Он потащил меня за рукав к бару «Бранса»: «Я должен рассказать тебе нечто совершенно фантастическое!» Хенаро-сын провел несколько дней по делам в Ла-Пасе[3] и там увидел в деле феноменальнейшую личность: Педро Ка-мачо.
– Это не человек, это – индустрия! – восторгался он. – Камачо пишет все драматические произведения, которые ставят в театрах Боливии, и сам в них играет. Кроме того, он пишет сценарии всех радиоспектаклей, сам же их оформляет и в каждом сам играет главную мужскую роль.
Но еще более, чем плодовитость и многогранность Педро Камачо, потрясала его популярность. Для того чтобы увидеть Камачо на сцене театра «Сааведра» в Ла-Пасе, Хенаро-сын вынужден был купить билет по двойной цене у спекулянтов.
– Совсем как на бой быков, представляешь! – восхищался он. – Кто у нас в Лиме мог привлечь столько зрителей, чтобы заполнить театр?
Затем он рассказал, что два дня подряд наблюдал, как толпы девиц, дам зрелого возраста и старушек осаждали двери «Радио Иллимани» в ожидании выхода своего кумира, чтобы попросить у него автограф. Представитель компании «Макканн Эриксон» в Ла-Пасе, в свою очередь, заверил Хенаро, что из всех боливийских передач радиодрамы Педро Камачо пользовались самым шумным успехом.
Хенаро-сын был из тех, кого в те времена стали называть «импресарио-прогрессист»: его более интересовало само дело, чем почет и слава; он не был членом Национального клуба и даже не стремился стать им; он был дружен со всеми и всех изматывал своей неуемной энергией. Человек быстрых решений, Хенаро-сын после посещения «Радио Иллимани» убедил Педро Камачо переехать в Перу и работать лишь для «Радио Сентраль».
– Уговорить его было нетрудно, там он голодал, – пояснил мне Хенаро-сын. – Он займется здесь радиопостановками, а я смогу послать ко всем чертям этих акул из компании СМО.
Я пытался его отрезвить. Убеждал, что по собственному опыту знаю: боливийцы – люди с норовом, и Педро Камачо непременно вступит в конфликт со всем персоналом «Радио Сентраль». К тому же его произношение будет раздражать наших радиослушателей, а поскольку он совсем не знает Перу, то станет постоянно попадать впросак. Однако Хенаро-сын улыбался, оставаясь глухим к моим пессимистическим пророчествам. Педро Камачо, по его словам, хоть и не бывал никогда в нашей стране, поведал ему об особенностях склада души жителя Лимы так, будто сам полжизни прожил в местных трущобах; выговор же его был безупречным: он не шипел, произнося «с», не рычал, произнося «р», и обладал бархатным голосом.
– Только бы Лусиано Пандо и другие актеры не сожрали беднягу иностранца, – опасался Хавьер. – Или не изнасиловала бы его прекрасная Хосефина Санчес.
Мы сидели у себя на крыше и беседовали, пока я перепечатывал, меняя лишь наречия и прилагательные, сообщения из «Комерсио» и «Пренса» для радиообзора «Панамерикана» к двенадцати часам. Хавьер был моим лучшим другом, мы встречались с ним ежедневно хоть на минуту, лишь для того, чтобы убедиться, что мы существуем. Хавьеру были свойственны изменчивые и противоречивые порывы, но при этом всегда искренние; он слыл звездой литературного факультета Католического университета, где до него не было ни столь способного студента и пламенного любителя поэзии, ни столь остроумного комментатора сложнейших текстов. Никто не сомневался в том, что он с блеском защитит диплом, станет блестящим преподавателем и не менее блестящим критиком и поэтом. Но в один прекрасный день Хавьер поразил всех: он забросил работу над дипломом, отказался от литературы и от Католического университета и записался студентом факультета экономики в университет Сан-Маркос. Если кто-либо интересовался причиной бегства, он отвечал (а может быть, просто отшучивался), что диплом, над которым он трудился, открыл ему глаза. Труд его назывался «Пословицы и поговорки в творчестве Рикардо Пальмы»[4]. В поисках этих пословиц и поговорок Хавьеру пришлось чуть не с лупой проштудировать «Перуанские традиции», а так как он был человеком обязательным и пунктуальным, то делал множество научных выписок, их накопился у него целый ящик. Однажды утром он сжег на пустыре этот ящик – мы вместе отплясывали индейский танец вокруг филологического костра – и решил, что ненавидит литературу и что даже экономика лучше того, чем он занимался прежде. Хавьер проходил практику в Центральном ипотечном банке и всегда отыскивал предлог, чтобы по утрам удирать в «Радио Панамерикана». От филологического кошмара, связанного с прежним коллекционированием, у него осталась привычка истязать меня пословицами, как говорится, без зазрения совести.
Меня очень удивило, что тетушка Хулия – боливийка и жительница Ла-Паса – ничего не слышала о Педро Камачо. Правда, она пояснила мне, что никогда не слышала ни одной радиопостановки и нога ее ни разу не ступала в театры с той поры, как она исполнила роль Сумерек в «Танце часов» в год окончания колледжа под присмотром ирландских монахинь. («И не вздумай меня спрашивать, когда это было, Марито!»)
Мы шли от дома дяди Лучо, что в конце авениды Армендарис, по направлению к кинотеатру «Барранко». Она сама навязала мне это приглашение в тот же день, причем совершенно беззастенчиво. То был первый четверг после ее приезда, и, хотя перспектива вновь стать жертвой боливийских острот мне совсем не улыбалась, я не собирался пропускать традиционный «четверговый» обед у дяди. Я надеялся, что не встречу ее там, поскольку накануне – по средам вечером все навещали тетушку Габи – я слышал, как тетушка Ортенсия сообщила тоном человека, которому боги доверили свою тайну:
– За первую неделю пребывания в Лиме Хулия уже четырежды бывала в обществе, и все – с разными мужчинами! Один из них даже женат! Они так и липнут к разведенной!
Сразу же после полудня и по окончании передачи бюллетеня «Панамерикана» я пришел к дяде Лучо и застал тетушку Хулию с одним из ее поклонников. Я испытал сладкое чувство мести, войдя в зал и увидев около нее дядю Панкрасио, двоюродного брата моей бабушки, победоносно взиравшего на боливийку: он был на редкость смешон в своем старомодном костюме, с галстуком-бабочкой и гвоздикой в петлице. Дядя Панкрасио вдовствовал уже несколько веков; теперь он ходил, широко расставляя ноги, будто отмечал ими на циферблате десять часов и десять минут, и в семье всегда с неодобрением комментировали его визиты: он никак не мог удержаться, чтоб не щипать служанок у всех на виду. Дядя Панкрасио красил волосы, носил карманные часы с посеребренной цепочкой; его ежедневно можно было встретить в шесть вечера на углу у телеграфа, где он провожал комплиментами девиц, возвращавшихся со службы. Наклоняясь, чтобы поцеловать тетушку Хулию, я шепнул ей на ухо как мог язвительнее: «Блестящая победа!» Она подмигнула мне и утвердительно кивнула головой. Во время обеда дядя Панкрасио, поразглагольствовав о креольской музыке, большим знатоком которой он слыл – на семейных торжествах он исполнял непременное соло, барабаня по пустому ящику, – повернулся к боливийке и, облизываясь, словно кот, произнес: «Кстати, вечерами по четвергам в подвальчике “Виктория” – в самом сердце креолизма – собирается ансамбль Фелипе Пингло. Тебе не хотелось бы послушать подлинно перуанские мелодии?» Тетушка Хулия, немедленно изобразив на лице крайнее огорчение, отчего ложь ее стала еще более оскорбительной, ответила, указав на меня: «Какая жалость! Но Марито уже пригласил меня в кино». – «Дорогу молодежи!» – склонил голову дядя Панкрасио с самообладанием спортсмена. Несколько позже, когда он уже ушел, я решил было, что спасся от посещения кино, но вдруг тетушка Ольга спросила: «Насчет кино ты, наверное, придумала, чтобы отвязаться от этого старого волокиты?» На что тетушка Хулия со всей горячностью возразила: «Ничего подобного, сестрица! Мне ужасно хочется сходить в кинотеатр “Барранко”, тем более что девушкам смотреть этот фильм не рекомендуется». Затем она повернулась ко мне, внимавшему, как будет решена моя участь в этот вечер, и добавила, чтобы успокоить меня, к своему словесному букету еще один великолепный цветок: «О деньгах не беспокойся, Марито! Я тебя приглашаю».
И вот мы идем с ней вниз по тенистой авениде Армендарис, затем по широким плитам авениды Грау на просмотр кинофильма, который ко всему прочему был мексиканским и назывался «Мать и любовник».
– Самое ужасное не в том, что мужчины считают своим долгом тут же предлагать себя разведенной женщине, – поведала мне тетушка Хулия. – Главное, по их мнению, – в отношениях с разведенной никакой романтики не требуется. Мужчины в таких случаях не прилагают ни малейших усилий, чтобы вызвать ответные чувства, не рассыпаются в изысканных комплиментах, а делают тебе предложение чуть ли не с первого взгляда, и притом без всякого стыда. Но меня не проведешь! Поэтому, вместо того чтобы где-то с кем-то танцевать, я предпочитаю отправиться с тобой в кино.
Я поблагодарил ее за то, что она выбрала меня.
– Мужчины настолько глупы, что считают каждую разведенную женщину уличной шлюхой, – продолжала Хулия, не показав вида, что поняла мой намек. – У всех на уме одно и то же… А ведь самое приятное не это… Самое прекрасное – любовь. Разве не так?
Я пояснил ей, что любви вообще не существует, что любовь выдумали некий итальянец по имени Петрарка и трубадуры из Прованса. И то, что люди принимают за прозрачный источник волнений, взрыв прекрасных чувств, – не более чем инстинкт, такой же, как у котов; инстинкт, лишь прикрываемый возвышенными словами и литературщиной. Я сам не верил в то, что говорил, но мне хотелось выглядеть необыкновенно оригинальным. Моя эротико-биологическая теория вызвала у тетушки Хулии недоумение: неужели я действительно верил в подобный идиотизм?
– Я против брака, – заявил я со всей категоричностью, на которую был способен. – Я – сторонник так называемой свободной любви, и, если бы мы были честными людьми, ее следовало бы просто называть свободным соитием.
– «Соитие» означает ныне «заниматься любовью»? – засмеялась она. Но через минуту на лице ее отразилось разочарование. – В мое время юноши писали девушкам акростихи, посылали цветы, недели проходили, прежде чем они решались на поцелуй. В какую мерзость превратили любовь нынешние сопляки, Марито!
Перед кассами кинотеатра между нами возник бурный спор из-за того, кто будет платить за билеты. Вытерпев полтора часа на экране Долорес дель Рио[5] с ее стенаниями, объятиями, ласками, рыданиями, бегущую по сельве с распущенными волосами, мы вернулись в дом дяди Лучо опять пешком. Накрапывал дождь, неслышно падая на волосы и на одежду. Мы снова заговорили о Педро Камачо. Неужели она действительно никогда не слышала о нем? Ведь по утверждению Хенаро-сына, тот слыл знаменитостью в Боливии. Нет, она ничего не знала о нем, даже не слыхала такого имени. Я подумал, что Хенаро здорово провели или, возможно, так называемая радиотеатральная индустрия Боливии была его собственным измышлением, чтобы эффектнее подать туземного борзописца. Три дня спустя я увидел Педро Камачо собственной персоной.
У меня только что произошло столкновение с Хенаро-отцом из-за того, что Паскуаль, одержимый страстью к стихийным бедствиям, посвятил всю радиосводку, подготовленную к передаче в одиннадцать часов, землетрясению в Исфахане[6]. Хенаро-отца возмутил не столько сам факт, что Паскуаль пренебрег всеми другими новостями, чтобы рассказать в подробностях, как уцелевшие после катастрофы персы подверглись нападению шипящих и свистящих от ярости змей, которые выползли из своих разрушенных убежищ, сколько то, что землетрясение это произошло неделю назад. Я вынужден был согласиться: да, Хенаро-отец был, в конце концов, прав, и я буквально надорвался, ругая Паскуаля. Откуда извлек он эту «свежайшую новость»? Из какого-то аргентинского журнала. А почему отколол такую глупость? Оттого что не было ни единого важного актуального события, а это сообщение было по крайней мере захватывающим. Когда я разъяснил Паскуалю, что нам платят деньги не за то, чтобы мы развлекали слушателей, а за то, чтобы давали обзор событий за день, он выдвинул свои неопровержимые доводы, снисходительно покачивая при этом головой: «Дело в том, что наши точки зрения на журналистику не совпадают, дон Марио». Я уже собирался заявить ему, что если он будет упорствовать и каждый раз за моей спиной применять свои «принципы терроризирования слушателей» в журналистике, то мы очень скоро – и вдвоем – окажемся на улице, как вдруг в дверях нашей будки неожиданно возник чей-то силуэт. Это было маленькое и тощее существо, почти карлик, с большим носом и необыкновенно живыми глазами. Оно было одето во все черное, без труда можно было заметить потрепанность его тройки, пятна на рубашке и на галстуке-бабочке. Однако в его манере носить одежду было некое благородство, чувство собственного достоинства и чинность, как у кабальеро, что смотрят на нас со старинных фотографий, заточенные в свои чопорные сюртуки и безупречные цилиндры. Возраста он был неопределенного – ему вполне можно было дать от тридцати до пятидесяти лет. Отличала его к тому же маслянистая черная шевелюра, спускавшаяся до плеч. Походка, движения, выражение лица – все было неестественным и скованным и вызывало воспоминания о механической кукле или марионетке, которую дергают за веревочку. Существо отвесило вежливый поклон и с торжественностью, такой же необычной, как и его внешний вид, обратилось к нам следующим образом:
– Я собираюсь похитить у вас пишущую машинку, сеньоры. И был бы вам благодарен, если бы вы оказали мне помощь. Которая из машинок лучше?
Его указательный палец поочередно упирался то в мою машинку, то в машинку Паскуаля. Несмотря на то что я уже привык к контрастам между голосом и внешностью благодаря моим вылазкам в студию «Радио Сентраль», меня потрясло, каким образом из крохотного и немощного тельца мог исходить столь глубокий и мелодичный голос, да еще с поражающей великолепной дикцией. Голос, казалось, не только отчеканивал каждый звук, он выделял каждую его частицу, оттенял каждый его атом, акцентировал каждый тон. Весьма нетерпеливо, не замечая удивления, вызванного у нас его видом, решимостью и голосом, человечек начал обследовать и чуть ли не обнюхивать наши пишущие машинки. В конце концов он остановился на моем древнем, огромном, похожем на катафалк «ремингтоне», на котором годы вроде не оставили никакого следа. Паскуаль отреагировал первым.
– Вы что – вор? Да кто вы, собственно, такой? – обрушился он на пришедшего, и я понял, что он отрабатывает себе прощение за катастрофу в Исфахане. – По-вашему, вот так, запросто, можно унести машинку Информационной службы?
– Искусство важнее твоей Информационной службы, чучело, – отпарировал неизвестный, бросив на Паскуаля взгляд, каким окидывают раздавленное насекомое, и вновь принялся за свое. На глазах растерянного Паскуаля, который, как, впрочем, и я, пытался сообразить, что же означает в данном случае слово «чучело», посетитель попытался приподнять машинку. С огромным трудом ему удалось оторвать от стола это сооружение – у него даже напряглись жилы на шее и глаза чуть не выскочили из орбит. Лицо его медленно заливалось цветом спелого граната, узенький лоб – по`том, но человечек не отступал. Стиснув зубы, шатаясь, он проделал несколько шагов по направлению к выходу, но был вынужден сдаться: еще мгновение – и ноша увлекла бы его за собой вниз. Тогда он поставил «ремингтон» на столик Паскуаля и остановился, еле переводя дыхание. Отдышавшись, не придавая значения улыбкам, которые это представление вызвало у меня и у Паскуаля (последний даже покрутил пальцем у виска, показывая мне, что мы, мол, имеем дело с психом), он обратился к нам с укором:
– Не будьте столь бесчувственными, сеньоры, проявите хоть каплю человеческого участия! Помогите!
Я ответил, что глубоко сожалею, но вынести отсюда «ремингтон» он может, только переступив через труп Паскуаля или в крайнем случае – через мой собственный. Человечек в этот момент поправлял свой галстук, от натуги съехавший набок. К моему удивлению, с досадливой гримасой на лице он, обнаруживая полное отсутствие чувства юмора, ответствовал важным тоном:
– Благородного происхождения человек никогда не уклоняется от вызова на бой. Ваши место и час, кабальеро?
Спасительное появление Хенаро-сына в нашей будке сорвало переговоры, весьма напоминавшие последние формальности перед дуэлью. Хозяин вошел в тот момент, когда упрямый человечек, лиловый от натуги, вновь пытался обхватить мой «ремингтон».
– Оставьте, Педро, я помогу вам, – сказал Хенаро-сын и взял машинку, будто это был спичечный коробок. Сразу поняв по нашим физиономиям, что ему следует как-то объяснить происходящее, Хенаро-сын успокоил нас, улыбаясь: – Никто не погиб! И нечего грустить! Отец в ближайшие дни возместит вам машинку.
– Как всегда, мы – лишняя спица в колеснице, – пытался я протестовать, надеясь сохранить хорошую мину при плохой игре. – Мало того, что нас держат в этой грязной будке на крыше! Мало того, что у меня отобрали письменный стол и отдали его бухгалтеру! А теперь вот – и мой «ремингтон»! И никто даже не потрудился предупредить!
– Мы подумали, что этот сеньор – вор, – поддержал меня Паскуаль. – Ворвался сюда, оскорбляет нас, будто имеет на это право!
– Между коллегами не должно быть скандалов, – заявил Хенаро-сын, став в позу царя Соломона. С этими словами он взгромоздил мою пишущую машинку на плечо – я заметил, что человечек доставал хозяину как раз до подмышек. – Разве отец не представил вас друг другу? Хорошо, я сам сделаю это, ко всеобщему удовольствию.
В ту же минуту человечек, подойдя ко мне, быстро, как заводной, поднял ручонку, протянул детскую ладошку и церемонно поклонился. При этом он произнес дивным тенорком:
– Ваш друг Педро Камачо. Боливиец и артист.
Он повторил тот же жест, поклон и фразу, обратившись к Паскуалю.
Последний, пребывая в состоянии крайней растерянности, никак не мог уяснить: издевается над ним человечек или и впрямь он таков от природы. Стоя посреди крыши и укрываясь в тени Хенаро-сына, который казался рядом с ним гигантом, Педро Камачо с утонченной вежливостью пожал нам поочередно руки, а затем обратился ко всей нашей Информационной службе. Приподняв верхнюю губу и сморщив лицо, отчего обнажилось несколько желтых зубов – видимо, это должно было изображать улыбку, хотя скорее явилось лишь жалкой гримасой, – после секундной паузы он поблагодарил нас следующей музыкальной фразой, сопровождаемой жестом прощающегося с публикой иллюзиониста:
– На вас я не держу зла, я привык к людскому непониманию. Прощайте, господа, и навеки!
Он исчез в дверце будки, вприпрыжку, точно домовой, догоняя нашего импресарио, поборника прогресса, который, сохраняя серьезный вид, с «ремингтоном» на плече вышагивал к подъемнику.
1
Аристократический район в северной части столицы Перу – г. Лимы.
2
Крупнейшая радиотелевизионная компания на Кубе до победы кубинской революции, когда Г. Местре эмигрировал в Аргентину.
3
Главный город Боливии.
4
Рикардо Пальма (1833–1919) – выдающийся перуанский писатель, автор классического труда «Перуанские традиции» – о жизни страны от колониальных времен до начала нашего века.
5
Известная мексиканская киноактриса 40—50-х годов.
6
Город в Иране.