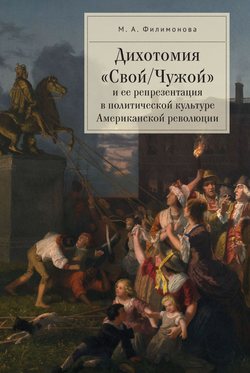Читать книгу Дихотомия «Свой/Чужой» и ее репрезентация в политической культуре Американской революции - Мария Филимонова - Страница 12
Глава 3. Образ прошлого: английская история
3.2. Magna Carta
ОглавлениеСледующим этапом английской истории, на который американские виги обращали особое внимание, была Великая хартия вольностей. Этот документ по праву считается краеугольным камнем британского конституционализма. В 2015 г. англоязычный мир торжественно отметил его 800-летие. В XVIII в. Великая хартия ценилась в Англии столь же высоко. Писатель О. Голдсмит утверждал: «Эта хартия имеет силу и до наших дней и является знаменитым оплотом английской свободы»246. С точки зрения Д. Юма, Великая хартия «обладала незыблемым авторитетом и во все времена рассматривалась как священный и нерушимый договор между королем и народом»247. Юрист Эдуард Коук в своих «Установлениях законов Англии» считал, что к Великой хартии восходят «все фундаментальные законы королевства». С его точки зрения, она восстанавливала «старинную конституцию» англосаксонских времен, нарушенную норманнскими королями248.
Американцы, в свою очередь, еще со времен основания колоний охотно прибегали к авторитету Великой хартии. Еще в XVII в. понятие «Великая хартия» прилагалось к самым разным колониальным законодательным актам (начиная с инструкций Виргинской компании губернатору Джорджу Ярдли в 1618 г.). Нью-йоркская Хартия вольностей 1683 г. включала Великую хартию, Петицию о праве и Habeas Corpus Act. Но на документ было наложено королевское вето. Порой доходило до курьеза. В середине XVIII в. в Виргинии был принят закон, запрещавший давать юридические консультации за гонорар. Губернатор и колониальный совет закон не одобрили, но пообещали его поддержать, если он согласуется с Великой хартией249. Сама по себе такая постановка вопроса, между прочим, показывает, как мало были знакомы виргинские власти со столь высоко ценимым документом. Специальный комитет изучил текст хартии и, разумеется, не нашел в нем ничего, что противоречило бы спорному закону.
Накануне и во время Американской революции упоминания о Великой хартии были делом обычным. Это не удивительно. Американцы (особенно на начальной стадии конфликта с метрополией) воспринимали себя как британцев. И, соответственно, отстаивали традиционные британские вольности, на которые, как они полагали, они имели все права. И вот «Boston Gazette» 17 августа 1767 г. напечатала на своей первой странице «Петицию о праве» 1628 г., а на следующей неделе опубликовала выдержки из Великой хартии. Печать штата Массачусетс, принятая в 1775 г., изображала патриота, держащего в руке все ту же Великую хартию. Т. Пейн советовал включить в будущую конституцию США Билль о правах, «соответственно тому, что в Англии называют Великой Хартией вольностей»250. Массачусетский виг Дж. Отис ссылался на тот же документ как на авторитетное подтверждение прав колонистов251.
Но насколько Великая хартия повлияла в действительности на американский конституционализм? В современной историографии есть попытки доказать, что статьи Великой хартии сохранили свою силу и влияние в более поздней конституционной традиции252, оказали прямое влияние на американское законодательство253. Сходная точка зрения характерна и для американских историков254. Но не случайно Петрушевский трактовал Великую хартию как «очень деловой документ, трактующий об очень конкретных фактах»255. Ее положения в XVIII в., через пять с половиной веков после ее создания, уже не могли быть применены к новой ситуации, тем более на другом континенте, по крайней мере, в неизменном виде. Разумеется, не могли быть востребованы статьи, отражавшие конкретные претензии баронов к Иоанну Безземельному. Но и статьи общего характера не всегда оказывались нужны американским вигам.
Совершенно не использовалась, например, статья 1: «чтобы английская церковь была свободна и владела своими правами в целости и своими вольностями неприкосновенными»256. Причина очевидна: американцы не были заинтересованы в поддержке англиканской церкви. В тех колониях, где она была официально господствующей (Виргиния), шла борьба за отделение церкви от государства. Естественно, не пригодились американцам статьи, посвященные порядку наследования фьефов и бароний. Без употребления осталось и средневековое законодательство, относящееся к положению должников.
Зато статья 12 легла в основу американской предреволюционной идеологии. Но при сравнении ее текста с тем, что вчитывали в нее американцы, становится очевидным «зазор» между Великой хартией как текстом и как культурным конструктом. Статья 12 формулировалась следующим образом: «Ни щитовые деньги, ни пособие (auxilium) не должны взиматься в королевстве нашем иначе, как по общему совету королевства нашего (nisi per commune consilium regni nostri), если это не для выкупа нашего из плена и не для возведения в рыцари первородного сына нашего и не для выдачи первым браком замуж дочери нашей первородной; и для этого должно выдавать лишь умеренное пособие; подобным же образом надлежит поступать и относительно пособий с города Лондона». Король имел право требовать «щитовые деньги» с баронов по своему личному усмотрению, и Иоанн Безземельный широко этим правом пользовался. По замечанию Д.М. Петрушевского, «было вполне естественным со стороны баронов и это его право поставить под контроль феодального сейма из непосредственных его вассалов»257. В условиях Америки все это не имело непосредственного применения. Статья была истолкована в совершенно новом духе.
При этом архаичные условия о выкупе короля из плена, возведении в рыцари его старшего сына и т.п. были просто проигнорированы. Понятие «общий совет королевства», которое та же Великая хартия определяет как совет высшего духовенства и знати (ст. 14) было предельно расширено: американцы относили его как к английскому парламенту, так и к собственным колониальным ассамблеям. То, что говорилось о «щитовых деньгах», было распространено вообще на любые налоги. Таким образом рождалась универсальная формула «No taxation without representation», несомненно, восходящая к Великой хартии, но весьма далекая от ее конкретного содержания. Именно так – предельно расширяя и модернизируя средневековый текст, – ссылались на Великую хартию Дж. Адамс и Дж. Отис258. Адамс при этом хорошо знал оригинальный текст и свободно его цитировал. Отис же опирался на комментарии Коука. Но их трактовки рассматриваемой статьи при этом примечательным образом совпадали.
Любопытна также эволюция одной из самых известных статей хартии – ст. 39: «Ни один свободный человек не будет арестован или заключен в тюрьму, или лишен владения, или объявлен стоящим вне закона, или изгнан, или каким-либо [иным] способом обездолен, и мы не пойдем на него и не пошлем на него иначе, как по законному приговору равных его [его пэров] и по закону страны». Эта статья относилась, собственно, к баронам: только они пользовались привилегией суда пэров259. Но в данном случае формулировка «свободные люди» позволяла легко расширить ее толкование, так что она стала обоснованием суда присяжных («приговор равных его»). Разумеется, и в этом случае были выброшены архаичные моменты: «мы не пойдем на него и не пошлем на него». Именно таким образом цитировал Великую хартию Дж. Адамс, обосновывая право американцев на суд присяжных260. Итоговая трансформация текста ст. 39 включена в V поправку к конституции США: «Ни одно лицо не должно (…) лишаться жизни, свободы либо собственности без должной правовой процедуры»261. Поправка VI гарантирует «приговор равных его» – суд присяжных, хотя формулировка совершенно отлична от Великой хартии.
Еще одной статье хартии американцы придали фундаментальное значение. «Отец американской юриспруденции» Дж. Уилсон во время дебатов Второго континентального конгресса заявлял: «В Великой хартии есть клаузула, которая дает народу право захватывать королевские замки и сопротивляться ему (королю. – М.Ф.) с оружием в руках, если он превышает свои полномочия»262. Уилсон подразумевал ст. 61, в которой для контроля за соблюдением Великой хартии предусматривался совет из двадцати пяти баронов. Если бы король нарушил заключенный с баронами договор и не исправил нарушение в сорокадневный срок, то, как говорилось в документе, «те двадцать пять баронов совместно с общиною всей земли будут принуждать и теснить нас всеми способами, какими только могут, то есть путем захвата замков, земель, владений и всеми другими способами, какими могут, пока не будет исправлено [нарушение] согласно их решению; неприкосновенной остаются [при этом] наша личность и личность королевы нашей и детей наших; а когда исправление будет сделано, они опять будут повиноваться нам, как делали прежде». Снова можно проследить, как далеко американский виг отходил от оригинала. Вместо «двадцати пяти баронов», действующих совместно с коммонерами, Уилсон подставлял «народ», нарушение конкретных условий конкретного документа заменял весьма широко понимаемыми «полномочиями» короля. Характерно, что он не упоминал о включенных в Великую хартию оговорках: ни о неприкосновенности королевской семьи, ни о необходимости восстановить прежнее повиновение монарху, «когда исправление будет сделано». Еще бы! Уилсон выступал в 1776 г., на повестке дня стоял вопрос о независимости США, и в Нью-Йорке уже отрубили голову пусть не самому Георгу III, но его статуе. О том, чтобы «повиноваться [королю], как делали прежде», и речи быть не могло. Расширенная и трансформированная, статья 61 становилась обоснованием права на восстание.
Из менее известных статей хартии можно упомянуть следующие. Ст. 20, возможно, повлияла на VIII поправку к конституции. В Великой хартии говорится: «Свободный человек будет штрафоваться за малый проступок только сообразно роду проступка, а за большой проступок будет штрафоваться сообразно важности проступка, причем должно оставаться неприкосновенным его основное имущество». Конституция США, в свою очередь, гарантирует: «Чрезмерные залоги не должны требоваться, чрезмерные штрафы не должны налагаться, и жестокие и необычные наказания не должны назначаться». Но и здесь содержание и формулировка модернизированы и расширены.
Ст. 36 («Ничего впредь не следует давать и брать за приказ о расследовании о жизни или членах, но он должен выдаваться даром и в нем не должно быть отказа»), по замечанию Петрушевского, напоминает о Habeas Corpus Act263; в Америке он считался одним из краеугольных камней свободного правления. Его гарантия инкорпорирована в текст конституции 1787 г. (ст. 1, разд. 9). Habeas Corpus Act, как и приведенная статья Великой хартии, гарантирует арестованному скорый разбор дела.
Стоит признать, что конкретное содержание Великой хартии почти не использовалось в американской революционной пропаганде и не могло быть использовано. Применялись лишь отдельные статьи, при этом измененные почти до неузнаваемости. Из 63 статей Великой хартии так или иначе использовано менее десятка. В XVIII в. знакомство с текстом Великой хартии могло вызвать скорее разочарование. Именно такими были впечатления Вольтера, внимательно проанализировавшего ее статьи: «Эта великая Хартия, рассматриваемая как священный принцип английских свобод, сама позволяет понять, сколь мало тогда была знакома свобода»264. Вольтер, читая Великую хартию, видел средневековый текст и стоящее за ним феодальное общество. Американские виги, цитируя тот же самый документ, ничего подобного не замечали. Перед их глазами стоял идеальный «палладиум английской свободы». Говоря о Великой хартии вольностей, американцы чаще всего имели в виду культурный конструкт, уже слабо связанный с реальным документом. Наиболее ярким примером может служить знаменитый лозунг «Никакого налогообложения без представительства». Еще чаще никакой отсылки к конкретному содержанию Великой хартии не было. Она просто упоминалась как образ традиционной английской свободы.
Положение американских пропагандистов облегчалось тем, что процесс поиска новых смыслов в Великой хартии уже был проведен в Англии, начиная с XVII в. «Петиция о праве» 1628 г. трактовала Великую хартию как документ, ограничивавший королевскую прерогативу в интересах народа (ст. 3 Петиции о праве)265. В XVIII в. об этом писал Мабли: «Им (английским революционерам XVII в. – М.Ф.) никогда бы не удалось приподнять таинственный покров, скрывавший королевское величие, не удалось бы заставить полюбить свободу, если бы они сами не извлекли из архивной пыли ту Великую Хартию, которая была известна по одному только имени»266. «Петиция о праве» вычленяла из Великой хартии содержание, сохранившее актуальность в XVII в. Во многом это были те же вопросы, которые волновали американских вигов в следующем столетии: налогообложение без представительства, судебный произвол и т.п. Расширенные толкования Великой хартии, о которых говорилось выше, во многом восходят именно к «Петиции о праве»267.
В американском конституционализме легко проследить влияние «Петиции о праве». Например, ст. 6 Петиции касалась проблемы постоя солдат в частных домах. Для американцев перед Войной за независимость эта проблема приобрела особую актуальность. Акты о расквартировании солдат (Quartering Acts) принимались британскими властями дважды. Акт 1765 г. предлагал американцам расквартировывать английским солдат в казармах и тавернах, но поскольку таковых не хватало, то солдаты могли располагаться также в гостиницах, нежилых домах, амбарах. Платить за их постой и пропитание должна была Ассамблея колонии Нью-Йорк, поскольку именно там располагалась штаб-квартира британских войск в Америке. Колониальная ассамблея отказалась платить, что вызвало серьезное столкновение с властями метрополии. Акт 1774 г. в дополнение к предыдущему позволял губернатору размещать солдат в частных домах, если иных помещений не хватало. Американцы числили этот закон в числе «невыносимых актов». В конечном итоге соответствующее условие было вписано в III поправку к конституции США: «Ни один солдат не должен в мирное время размещаться на постой в каком-либо доме без согласия его владельца».
Тем не менее, «Петиция о праве» не обладала в общественном сознании предреволюционной Америки таким же высоким престижем, как Великая хартия. Последняя обладала почтенным ореолом древности, была наделена статусом своеобразного «первотворения» еще в английской исторической мифологии. Именно в силу своей мифологизированности она могла цениться независимо от конкретного содержания. В документах XVII в., также легших в основу неписаной английской конституции, содержание ценилось куда выше, чем их идеальный образ. Это относится не только к «Петиции о праве», но и к Биллю о правах 1689 г. Он редко упоминался в полемике, зато его условия легко найти в американских конституционных документах. Именно к нему восходят такие условия американского Билля о правах, как право частных лиц на ношение оружия (поправка II), запрет чрезмерных залогов, штрафов, «жестоких и необычных» наказаний (поправка VIII). В Билле о правах 1689 г. также вновь подтверждается принцип «No taxation without representation»268. Но и здесь американцы прибегали к расширенному толкованию: там, где англичане имели в виду парламент, американцы подразумевали также колониальные ассамблеи. Все условия Билля о правах 1689 г., касавшиеся протестантского престолонаследия, оказались в США невостребованными.
В целом, при оценке средневековой английской истории у американских вигов заметна характерная для мифологического сознания высокая оценка мифического «первотворения», в роли которого выступают «древняя конституция» англосаксов и Великая хартия вольностей. Конкретные особенности политического устройства англосаксонских королевств, как и реальное содержание Великой хартии, не имели значения. Американцы легко конструировали мифологизированное прошлое, соответствующее их собственной картине мира.
246
Цит. по: Астафьев И.М. Великая хартия 1215 г.: английский миф? // Вестник ТГУ. 2009. №11. С. 318.
247
Юм Д. Англия под властью дома Стюартов: 2 т. СПб., 2001–2002. Т. 1. С. 161–162.
248
Coke E. Selected Writings: 3 vols. / ed. S. Sheppard. Indianapolis, 2003. Vol. 2. P. 697.
249
Magna Carta Commemoration Essays / ed. by H.E. Malden. L., 1917. P. 196.
250
Пейн Т. Избранные сочинения / под ред. М.П. Баскина. М., 1959. С. 46.
251
Otis J. The Rights of British Colonies Asserted and Proved. Boston, 1764. P. 31.
252
Напр.: Романовская В.Б. Magna Carta Libertatum в контексте современной проблемы прав личности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2009. №5. С. 258–261; Крапчатова И.Н. История становления и развития суда присяжных как процессуального института // Законность и правопорядок в современном обществе. 2010. №1. С. 257–258.
253
Астафьев И.М. Великая хартия. С. 322.
254
Напр.: Howard A.E.D. The Road from Runnymede. Magna Carta and Constitutionalism in America. Charlottesville, 1968.
255
Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства и общества в средние века. М., 1937. С. 140.
256
Великая хартия здесь и далее цит. по: Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей. М., 1918. С. 111–127.
257
Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства… С.135.
258
«Clarendon», Boston Gazette. Jan. 20, 1766; Otis J. The Rights of British Colonies… P. 56.
259
См. об этом, напр.: Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента (из истории английского общества и государства XIII в.). М., 1960. С. 284.
260
Adams J. The Works: 10 vols. / ed. by Ch.F. Adams. Boston, 1850–1856. Vol. 3. P. 467.
261
Конституция США цит. по: Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты. М., 1993.
262
LDC. Vol. 3. P. 670.
263
Петрушевский Д.М. Очерки из истории английского государства… С. 138.
264
Вольтер. Философские сочинения. М., 1988. С. 96.
265
Петиция о праве здесь и далее цит. по: Тексты важнейших основных законов иностранных государств. М., 1905. Ч. 1. С. 10–15.
266
Мабли Г.-Б. Об изучении истории. О том, как писать историю. М., 1993. С. 93.
267
Сопоставление «Петиции о праве» с Великой хартией см.: Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей. М., 1991. С. 112– 113.
268
Тексты важнейших основных законов иностранных государств. Ч. 1. С. 15–24.