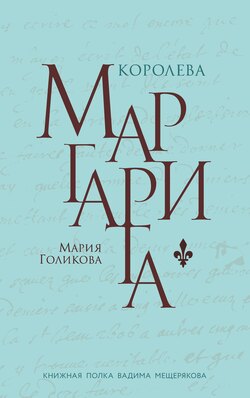Читать книгу Королева Маргарита - Мария Голикова - Страница 4
Дети Фортуны
ОглавлениеМы родились самыми счастливыми на свете. Мы возвышены над всеми, как могучий замок Амбуаз возвышается над рекой и домиками по берегам.
Над нашими головами – только сияющие небеса. Под этими небесами мы прекрасны. Мы – дети королей. Незримая корона, дарованная нам судьбой, блестит над нами, она всегда с нами – как требовательный блюститель наших поступков и как недремлющий страж. И в радости, и в горе она помогает держать голову высоко.
Благодаря ей мы свободны и сильны, что бы с нами ни происходило; если нам становится страшно, то мы знаем, что страх не имеет над нами власти, ибо мы выше его; если нам больно, мы презираем боль, потому что боль низка, а мы благородны. Корона над нашими головами осеняет и укрепляет нас, как благословение свыше, как божественное предназначение…
Мы потерянные и несчастные, самые одинокие на свете. Мы одни. Все прочие люди низки и полны к нам ненависти. Выше нас – только небо, но оно так далеко! Если мы взываем к нему, оно не слышит наших молитв и просьб, оно слышит лишь последний отчаянный вопль, после которого уже ничего не поправить.
Мы закрыты друг для друга, мы недоверчивы, мы презираем низкое и мучительно боимся высоты. Мы ищем защиты, но нас не защищают ни стражники, ни стены замков. Никто не в силах спасти нас от ужаса, подстерегающего поблизости, от предательства, от непрерывной войны, никто не в силах спасти нас от безжалостного времени, в жернова которого рано или поздно попадает каждый, и кости хрустят и ломаются, как на пытке, и кровь сбегает на землю, и дороги назад нет, и разрушенное никогда не восстановить. Не оживить казненного, не вернуть ушедшего.
А главное – никто не в силах спасти нас от беспощадной короны, стискивающей голову железным обручем, не оставляющей ни малейшего шанса на свободу, не дающей ни единой минуты, чтобы вздохнуть спокойно и отдохнуть от мучительной боли…
Я уже знаю, что такое боль и страх. Но мне не больно, и я совсем ничего не боюсь. Я счастлива… А перед глазами снова и снова встает Париж, праздничный, гудящий, знойный. Палящее солнце, широкая улица с домами, разукрашенными для турнира. Сейчас будет очередной поединок. Я сижу в ложе вместе с матерью и братьями. Нестерпимо жарко, улица кажется почти белой от солнца. Мне не терпится уйти отсюда – но все вокруг молчат, не сводя глаз с площадки. Отец сейчас снова будет съезжаться с графом Монтгомери. Они съезжались только что, но у обоих сломались копья, и отец решил повторить поединок.
На широкие перила балкона передо мной садится бабочка. Она очень красивая, у нее нарядные бархатные крылышки. Я смотрю на нее, но мне не радостно, а отчего-то тревожно. Я бросаю взгляд на мать, которая не сводит глаз с отца, мимоходом замечаю скучающее лицо моего брата Шарля и снова начинаю рассматривать бабочку. Она так выразительно поворачивается и помахивает крылышками, словно хочет о чем-то мне сказать. О чем? Я протягиваю к ней руку, но тут громко трубят герольды, и бабочка улетает.
Начинается поединок. Отец и Монтгомери пришпоривают коней и мчатся навстречу друг другу. Удар… и над трибунами повисает тишина, словно беззвучный крик. Я не понимаю, в чем дело, понимаю только, что случилось что-то ужасное. Все кричат, и отец как-то странно шатается в седле… Я смотрю на него и вижу, что обломок копья вошел ему глубоко под забрало шлема, чувствую, что под шлемом у него кровь: голова, все лицо в крови… О господи! А ведь всего минуту назад все было хорошо. Всего минуту назад, только бы вернуть ее, одну минуту… время, время, время! Пожалуйста!
…Прохладные покои Турнельского дворца, рядом с улицей Сент-Антуан, где проходил турнир. Отец лежит на большой кровати. Вокруг суетятся врачи, мать, братья, придворные, слуги. Во дворце гнетущая тишина, хотя все говорят о чем-то, многие всхлипывают, и я тоже плачу… Но никакие звуки не в силах заглушить эту тишину. Странно, что за окнами по-прежнему яркий, жаркий день. Сегодня тридцатое июня.
Мне всего шесть лет, но у меня чувство, что я внезапно стала взрослой. Я смотрю на мать, братьев, слуг, ища поддержки, и вдруг осознаю, что пожаловаться сейчас некому: они тоже растеряны, как и я…
Вечером все не так, как обычно. Мы долго молимся за отца, и я продолжаю читать молитвы, даже когда ложусь в постель. Я очень устала, но заснуть не получается. На глаза наворачиваются слезы. Мне становится так больно, так жалко отца и всех нас, что я зарываюсь лицом в подушку и плачу навзрыд. Ко мне подходит горничная и ласково говорит:
– Все молятся за вашего отца, ваше высочество. Будем надеяться, что Господь исцелит его величество. А вам сейчас обязательно нужно заснуть.
– Может быть, нам еще раз помолиться?
– А вы молитесь, пока не заснете, ваше высочество.
Я вытираю слезы и снова опускаюсь на подушку. Горничная крестит меня, я повторяю молитвы, какие знаю, а потом своими словами прошу Бога помочь.
На следующее утро я первым делом спрашиваю, как отец, и с замиранием сердца жду ответа. Мне говорят, что все так же, как вчера, – он жив, но ему очень плохо. Врачи ищут способ извлечь обломок копья, оставшийся глубоко в ране.
Время не идет, а тянется медленно-медленно. Уже несколько дней отец между жизнью и смертью. Сначала ему стало немного лучше, потом опять хуже… Это похоже на затянувшийся тяжелый сон. Иногда мне кажется, что он вот-вот прекратится и все станет как прежде.
Вначале врачи надеялись на благополучный исход, но все их усилия оказались бесполезны – им так и не удалось сделать операцию и достать этот обломок копья. Теперь они говорят, что отец обречен. Он и сам говорит об этом, когда приходит в себя. Отдает последние распоряжения, покуда хватает сил. А дальше – ожидание конца… Отец очень мучается, матушка не отходит от него. Тяжелые вечера. В ясном небе – молодая луна. Девятое июля, скоро середина лета…
Меня рано отправляют спать, но я совсем не хочу спать. Забираюсь в постель и пытаюсь заснуть, но все время думаю об отце. Мне хочется побежать к нему, хочется, чтобы он посадил меня к себе на колено, как обычно. Я расскажу ему обо всем, что чувствую сейчас, о том, как я волнуюсь за него, молюсь, плачу, о том, чего боюсь… О том, что говорят братья, мать и придворные, о том, что мне снилось в эти дни. О красивой бабочке, которую я видела во время турнира… Отец прижмет меня к себе, пошутит или спросит о чем-нибудь, я посмотрю в его смеющиеся глаза – и все беды разом пройдут и забудутся!.. А в следующую минуту я осознаю, что этого не будет никогда. Отцу уже нет дороги назад, его рана смертельна… Он лучше всех мог бы утешить меня сейчас – но он даже не может говорить.
Я представляю, что он сейчас чувствует, и меня бьет дрожь. Рядом с кроватью горит ночник. Его свет немного успокаивает меня. Я снова опускаюсь на подушку и про себя читаю молитвы. Обычно после этого я засыпаю, но в эту ночь сон так и не приходит. Я пытаюсь надеяться на лучшее, но вместо надежды ощущаю какую-то пустоту.
Я засыпаю очень поздно, а утром узнаю, что отец умер.
«Requiem aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem; exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet…»[1]
Слова заупокойных месс остаются в душе и начинают звучать внутри, когда становится особенно тяжело. Прохлада, сумрак и высота строгих церковных сводов утешают меня. Наши боль, горечь и скорбь кажутся не напрасными, обретают торжественность и смысл. Я еще не знаю какой, но знаю, что если бы этого смысла не было, то слова молитв не были бы такими красивыми и не помогали бы так. От них становится гораздо легче.
Мы молимся, и я представляю, что наши молитвы поднимаются к небу, как птицы. Наверное, душа отца чувствует их, и свет для нее светит ярче… Когда я думаю об этом, моя боль стихает. Но иногда мне так хочется рассказать отцу обо всем, что происходит с нами без него! Я представляю, как бы он удивился или огорчился, представляю его глаза, голос – а потом вдруг осознаю, что этого не будет, что это невозможно, и мне сразу становится невыносимо пусто и одиноко.
Tout lasse, tout casse, tout passe[2]. Время уносит горести, как золотые листья сентября. Синее небо такое высокое, и в воздухе носятся легкие паутинки. Даже не верится, что все это уже прошло: и похороны отца в Сен-Дени, и коронация моего брата Франсуа в Реймсе – теперь Франсуа стал королем Франциском II[3]. Прошли и тихие дни в Венсенском замке посреди шелестящего моря осенних деревьев. Неуловимая грусть, теплое солнце и холодный предзимний ветер. Боль постепенно успокоилась, превратилась в горьковатый привкус дыма в осеннем воздухе. Утренние зори окутаны туманами, поют охотничьи рога.
Сейчас мы живем в Амбуазе. Мне нравится этот замок – такой огромный, мощный, неприступный и в то же время изящный. Когда стоишь наверху, чувствуешь себя свободной как птица. Но даже под защитой этих стен я не могу отделаться от пронзительного чувства, что все мы беззащитны перед судьбой. Мне кажется, что это чувство теперь останется во мне навсегда. Смерть отца оказалась такой внезапной, мы были к ней не готовы… Что еще случится? Впрочем, если и случится, то не здесь. Здесь, в Амбуазе, не должно произойти ничего плохого – этот замок такой красивый и так нравится мне!
Скоро зима. В саду, куда выходят мои окна, гаснут цветы, а деревья по берегам Луары из золотых становятся красными и ржавыми. С каждым днем листва редеет. По утрам в замке холодно, особенно в нетопленых коридорах – даже пар идет изо рта. Сразу чувствуется, как свежо на улице.
Зачем я проснулась так рано? Только-только занимается день. Мне не хочется выбираться из теплой постели. Я рассматриваю бархатный балдахин над кроватью и вспоминаю разговоры о том, что кто-то предсказывал отцу гибель. Но неужели нашу жизнь можно знать наперед? Неужели она вся уже известна кому-то там… где? На небе? Вот бы посмотреть на того, кто пишет человеческие судьбы! Вот бы заглянуть за занавес времени, как в комнаты взрослых! Вот бы пробраться туда и прочесть страницу в Книге Судеб, где написано о нашей семье.
Я скучаю по отцу. Матушка заботится о нас, по возможности приезжает сюда вместе с нашим братом королем Франциском, но даже когда она здесь, я не чувствую, что она со мной. Я не знаю, как и о чем с ней разговаривать. Отец любил со мной играть и беседовать, это получалось у него легко и просто, и я могла рассказать ему что угодно. Болтать с ним о пустяках, шутить, смеяться… А с матушкой так не получается: мне все время кажется, что ей что-нибудь не понравится или она вообще не поймет меня.
Когда она не может приехать в Амбуаз, то присылает художника, чтобы он нарисовал для нее наши портреты. Позировать скучно, но я люблю это делать – мне нравится художник. Он такой обаятельный, всегда учтивый и мягкий, у него внимательный взгляд, лицо с красивыми усами и вьющейся бородкой, спокойное и вдумчивое. Мне интересно наблюдать за его движениями, я пытаюсь понять, как у него получается так быстро и точно рисовать. Потом я пробую так же рисовать сама, но идеальная картина остается в мечтах, а на бумаге – лишь ее отдаленное подобие…
А вот бы нарисовать все это, всю нашу здешнюю жизнь – и игры с братьями, и беготню по саду и замку, и вкусную еду, и просто тихие моменты, которые я очень люблю, но не знаю, как рассказать о них. Например, мне нравится по утрам подходить к окну и смотреть на сад в утренних сумерках. Там работает садовник, за садом темнеют деревья, и в этом есть что-то волшебное и загадочное. А еще я люблю, когда идет дождь, сад за окном мокнет, шуршат капли, а мы играем в натопленных комнатах.
Когда приезжает матушка, она почти все время занимается государственными делами, а если она свободна, то беседует в основном с моими старшими братьями. Но у меня есть любимое время в ее приездах: вечера, когда она наконец прекращает дела, и мы собираемся все вместе в «зале с камином», как я называю эту комнату. Собственно, все залы и комнаты в замке с каминами, но этот камин с секретом, о котором знаю только я. Он кажется обыкновенным, а на самом деле через него можно попасть в сказочное королевство.
В такие вечера мы с матушкой читаем какие-нибудь интересные книги, смеемся, говорим на разных языках. Мне не очень нравится греческий, зато нравится, как звучит латынь, хотя я еще плохо ее понимаю. Итальянский язык не такой строгий и торжественный, зато более понятный.
Шарль не любит языки. Его не оторвать от книжек с картинками, особенно от изображений битв и охоты. А Франциск заходит ненадолго пожелать всем доброй ночи и поднимается к себе усталой походкой. По походке его можно принять за старика. С тех пор как он стал королем, он выглядит таким бледным и уставшим. Мне его жалко…
Александр-Эдуард младше Шарля, но гораздо сообразительнее. Он хорошо и бойко говорит и умеет остроумно шутить. У меня так пока не получается, я гораздо застенчивее, но очень хочу стать такой же веселой и обаятельной. Александр-Эдуард постоянно затевает разные игры, а если матушка что-нибудь читает или рассказывает, он садится к ней ближе всех и не сводит с нее внимательных блестящих глаз.
Самый младший в нашей семье, Эркюль, обычно сидит рядом со мной и листает книжки с картинками. Он медлительный и невнимательно слушает, что рассказывает мать, – вместо этого забавно разговаривает сам с собой. То и дело поворачивается ко мне и просит объяснить, что нарисовано на картинке. Сегодня он испуган – кто-то из слуг сказал ему, что в лесу рядом с замком живет чудовище. Он спрашивает меня:
– Маргарита, а правда, что в лесу водятся чудовища?
– В сказочном лесу водятся.
– А этот лес за замком сказочный?
– Нет, Эркюль, что ты! Это самый обыкновенный лес, – отвечаю я уверенно, но мне тоже становится не по себе. – Правда, единороги там должны водиться…
– А чудовища?
– Если там водятся единороги, то чудовищ точно нет.
– А я видел единорога.
– Где?
– На картинке.
Эркюль имеет в виду гобелен в коридоре. Я тоже люблю рассматривать его. Правда, меня смущает, что у единорога там бородка, из-за которой он скорее смахивает на крупного козла. Я пытаюсь вообразить себе такого единорога, и он мне не очень нравится. Но все равно, мы с Эркюлем мечтаем посмотреть на единорогов.
– А когда их можно увидеть? – спрашивает Эркюль.
– Не знаю. Они очень осторожные. Если замечают человека, не выходят.
– А мы спрячемся.
– А слуги? Возле замка всегда полно слуг.
– Да, верно… Тогда, может быть, совсем рано утром?
– Или поздно ночью. Когда никого нет.
– Давай как-нибудь попробуем!
– Давай. Если ты вдруг увидишь его, позовешь меня, а если я увижу, то сразу покажу тебе.
Довольный Эркюль кивает, но все равно остаток вечера с тревогой посматривает на дверь, опасаясь чудовища.
Иногда наше вечернее общество дополняют дети придворных, чаще всех Анри, принц де Жуанвиль, сын герцога де Гиза. Он на три года старше меня и держится спокойно и учтиво, как взрослый. Впрочем, это только до тех пор, пока не начнется какая-нибудь игра. Тогда он немедленно присоединяется к ней и, как правило, доводит до драки – ему везде надо быть первым. Он никогда меня не обижал, но я все равно его побаиваюсь и стесняюсь, у него такой дерзкий и надменный вид.
Когда Анри здесь, мы часто видим его отца, знаменитого полководца. По нему сразу видно, что он военный. Он очень сдержанный, говорит негромко, но властно. Мне кажется, даже матушка побаивается его, хотя и не показывает этого. А мне он нравится, потому что никогда не забывает спросить у нас с братьями, как дела, и сказать что-нибудь хорошее. Когда ему некогда, он просто кивает нам, но всегда обращает на нас внимание.
За окнами густая вечерняя тьма. Ужин был уже давно, в пять, но прежде чем ложиться спать, мы перекусываем молоком, рисом и сладостями – изюмом, медом, орехами или вареньем. Мне нравится, как горит огонь в камине, нравится, что в залах замка пахнет совсем по-зимнему – свежестью и горьким дымком. Вот бы выпал снег, чтобы можно было построить снежную крепость!
Пока мы лакомимся, к матушке заходит герцог де Гиз. Уже поздно, видимо, у него срочное дело. Он показывает ей какие-то бумаги. Матушка приказывает слугам присмотреть за нами, уходит вместе с герцогом и возвращается встревоженной и озабоченной. Шарль спрашивает, что случилось, но она отрицательно качает головой, желает всем доброй ночи и, шурша черным платьем, торопливо направляется к Франциску.
В последнее время я все чаще замечаю в ее глазах напряжение и страх, она чего-то опасается… И Франциск встревожен. Мы идем спать, но я вижу страх даже в глазах моей гувернантки баронессы де Кюртон, в ее неуверенных движениях, когда она спрашивает меня о каких-то пустяках, ожидая ответа с напряженной рассеянностью. Чего она боится? Времени? Или тех, кто желает нам зла? Я знаю, что на свете есть много людей, желающих нам зла. Но если гувернантка боится, она глупа. Потому что мы не боимся – а нам намного хуже и намного страшнее, чем ей. То, что дано испытать нам, ей даже и не снилось.
Я не без презрения смотрю на гувернантку, но всеобщая тревога передается и мне. Я долго не могу заснуть, а когда засыпаю, мне снится, что из леса выходит огромное темное чудище и, тяжело ступая, приближается к нашему замку… Я просыпаюсь – уф, это был только сон. Страх постепенно исчезает. Но для верности я все-таки осторожно раздвигаю балдахин и смотрю по сторонам. Горит ночник, гувернантка и горничные спят. Еще темно. Никаких чудищ не видно, и я засыпаю снова.
1
«Покой вечный даруй ему, Господи, и свет вечный да светит ему. Тебе поется гимн, Боже, в Сионе, и Тебе возносятся молитвы в Иерусалиме. Услышь моление мое, к Тебе возвращается всякая плоть…» (Лат.) – Здесь и далее прим. авт.
2
Все течет, все меняется (фр.).
3
В русской переводческой традиции имена французских королей принято передавать на немецкий лад: Франсуа – Франциск, Шарль – Карл, Анри – Генрих. Автор будет придерживаться ее в написании имен правителей, однако в остальном постарается сохранить оригинальное звучание.