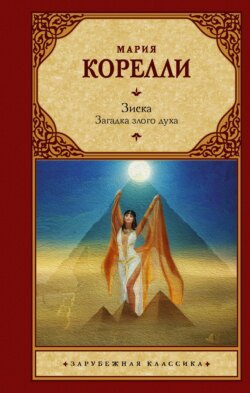Читать книгу Зиска. Загадка злого духа - Мария Корелли - Страница 3
Глава 1
ОглавлениеКаирский «сезон» был в разгаре. Вездесущий англичанин и не менее вездесущий американец уже позаботились насадить на этой песчаной земле, омываемой водами Нила, свои «общественные приличия», а теперь неустанно трудились над тем, чтобы низвести город, когда-то носивший славное имя Аль-Кахира – Победитель, – на дно такого прискорбного рабства, какому едва ли обрекал покоренные народы любой из древних завоевателей. Тяжкое иго современной моды легло на шею Аль-Кахира; необоримая, тираническая власть снобизма и вульгарности покорила Победителя. Возможно, смуглые дети пустыни готовы были идти на бой с завоевателями за свободу жить и умереть на своей никем не тронутой земле, но что могли они поделать против агентства Кука, обещающего «путешествия по сходной цене», против вежливых улыбок, белых шлемов, солнечных очков и неистребимого запаха пота? Только оставаться бесстрастными и почти безмолвными.
Ибо до наших дней – славных дней просвещения и прогресса – еще не являлось миру ничто, подобное «путешественнику по сходной цене», этому новомодному кочевнику, и похожему, и непохожему на человека. В сем человеческом типе, как нигде более, проявляется правота теории Дарвина – в его непоседливости, в чисто обезьяньей подвижности и любопытстве, в бесстыдной назойливости, с которой он задает вопросы, в старательной очистке себя от иностранных блох, в постоянном внимании к самым ничтожным мелочам, в неутолимом аппетите; так что трудно различить, где здесь кончается обезьяна и начинается человек. Образ Божий, которым, как мы привыкли думать, он был наделен вместе со своими товарищами в первые дни Творения, словно бы оказался полностью смыт, так что в этом смертном облике не осталось ни следа Божественного. Да и следы второй фазы Творения – подобия Божьего или, иначе говоря, героизма – не облагораживают его вид и не украшают выражение лица. Ровно ничего нет героического в беспокойном двуногом, что, облаченный в белую фланель, бродит по улицам Каира, щелкает по носу терпеливых осликов, сдаваемых здесь внаем для перевозки грузов, просовывает красную потную физиономию в тенистые закоулки ароматных базаров, а вечерами прогуливается в садах Эзбекие[1] – руки в карманах, сигара во рту, – оглядываясь кругом с таким видом, точно оказался на филиале выставки в Эрлс-Корте[2].
История ничем не впечатляет «путешественника по сходной цене»: смерив взглядом пирамиду, он цедит: «Ничего так, с размахом строили!», а непроницаемый лик Сфинкса он превращает в мишень для пустых бутылок из-под содовой – и, кажется, более всего жалеет о том, что гранит, из коего вытесано тело древнего чудовища, слишком тверд и на нем не получается выцарапать собственное славное имя. Верно, за подобные дела тут полагается наказание – штраф или битье палками по пяткам; однако ни штраф, ни палочный бой не устрашат туриста, которому приспичило вырезать на подбородке у Сфинкса: «Здесь был Арри!» Увы, такого счастья ему не дано. Иными словами, в Египте он ведет себя так же, как в Маргейте[3], проявляя не больше вдумчивости, серьезности и уважения, чем имелось во дни оны у его отдаленного хвостатого предка.
Впрочем, в целом он, пожалуй, не хуже, а быть может, чем-то и получше тех жалких созданий, что «покоряют» Египет – или, точнее, расслабленно позволяют Египту покорять себя. Это те, что каждый год стаями покидают Англию, твердя, что не в силах переносить веселую, морозную, во всех отношениях здоровую зиму своей родины: зиму с суровыми ветрами, со снегом и сверкающей на солнце изморозью, с остролистом, усыпанным алыми ягодами, с веселыми охотниками, день-деньской скачущими по полям и болотам, с огнем, пылающим в камине долгими вечерами, ту, что радовала наших предков и помогала им в крепком здоровье и довольстве дожить до старости в те времена, когда охота к перемене мест оставалась для англичан еще неведомой хворью и дом был поистине «милым домом». Пораженные странными заболеваниями крови и нервными расстройствами, которым и самые ученые врачи едва подбирают названия, при первом же дуновении холодного ветерка они начинают дрожать и, нагрузив чемоданы тысячами ненужных вещей, без коих, привыкнув к роскоши, уже не мыслят своего бледного существования, отбывают в Страну Солнца и везут с собой бесчисленные хворобы, немощи и неисцелимые болезни, для которых не то что в Египте – и в Раю не найти лекарства. И стоит ли удивляться, что эти физически и морально немощные отпрыски рода человеческого давно оставили всякую серьезную заботу о том, что станет с ними после смерти, да и будет ли там какое-то «потом»? Они пребывают в той умственной летаргии, что предшествует полной гибели сознания: все их существование – сплошная скука, все места похожи одно на другое, и одну и ту же монотонную жизнь ведут они везде, где собираются, на севере, юге, западе или востоке. На Ривьере они не знали бы, куда себя девать, не будь к их услугам «Дома Румпельмайера» в Каннах, «Лондон-Хауса» в Ницце или казино в Монте-Карло; а в Каире воспроизводят в миниатюре лондонский «сезон» с обычной рутиной ужинов, танцев, поездок, пикников, ухаживаний и помолвок. Впрочем, в глазах местного «света» каирский сезон, пожалуй, обладает преимуществом перед лондонским: здесь люди меньше стеснены условностями. Можно, знаете ли, «расслабиться»! Например, отправиться пешком в Старый Каир и, завернув за угол, наткнуться на сценку в духе того, что Марк Твен именует «восточной простотой», – а именно на живописную группу «наших дорогих прелестных арабов», одетых так скудно, как только дозволяют им примитивные местные традиции. Такого рода «живые картины» или «очаровательные сценки» порождают у каиро-английского общества трепет новизны, щекочут их ощущением дикости и самобытности, какой не встретишь в модном Лондоне. Что же касается самих Детей Пустыни – они постепенно усвоили, что, привечая в своем краю иноземную саранчу, завезенную сюда Куком, а также еще более странных насекомых, собирательно именуемых «светским обществом» и в Линнеевой классификации отсутствующих, получат за это бакшиш.
Бакшиш – источник утешения для всех народов; на все языки это слово переводится самыми сладкозвучными именами, и Дети Пустыни, пожалуй, по справедливости требуют за каждую мелочь столько, сколько всеми правдами и неправдами могут вытянуть. Они заслужили получать от толп пришельцев с Запада, с невероятными на их вкус костюмами и попросту оскорбительными манерами, хоть какую-то выгоду! Вот почему бакшиш превратился в вечный девиз Детей Пустыни: он – единственное оставленное им средство защиты и нападения, неудивительно, что они цепляются за него с такой яростью и решимостью. И можно ли их винить? Высокий, величественный, задумчивый араб, что походит на высшее существо, даже когда стоит босиком на песчаной земле своей родины, в одной лишь грубой повязке вокруг чресл, и прямо, по-орлиному, смотрит черными глазами на солнце, – определенно заслуживает компенсации за согласие поработать гидом и слугой на богатого приезжего, который оборачивает ноги трубами из ткани, отчего они начинают напоминать слоновьи, а завершает свой изящный силуэт накрахмаленной сорочкой, в которой едва может шевельнуться, и сюртуком, что перерезает его фигуру пополам и делает на несколько дюймов ниже. Сын Пустыни взирает на него угрюмо, с состраданием к падению собрата-человека, порой беззвучно шепчет молитву, прося Аллаха оградить его от этого уродства; однако в целом относится к нему терпеливо и хладнокровно, предвкушая бакшиш.
Легкий и безвкусный, словно взбитый яичный белок, кружится и пенится английский «сезон» на таинственной земле древних богов – страшной земле, полной неразгаданных темных секретов; земле, по Библии, «осененной тенью крыл»; земле, хранящей в своих недрах неслыханные истории, глубочайшие тайны сверхъестественного, лабиринты ужаса, трепета и загадок… только все это скрыто от пляшущей, жующей, болтающей толпы светских туристов, что живут как во сне, «стараются не думать, дабы слишком себя не утруждать», а путешествие мыслят лишь как переезд из гостиницы в гостиницу, с тем чтобы потом сравнить свои записи с рассказами знакомых и обсудить, где лучше всего кормят. Примечательный факт: путешественники по прославленным местам Европы и Востока, как правило, больше всего интересуются кухней, постелью и личными удобствами, а красота пейзажей и исторические воспоминания стоят для них на последнем месте. Прежде бывало наоборот. В те времена, когда не существовало железных дорог и бессмертный Байрон слагал «Чайльд-Гарольда»[4], персональные удобства ценились очень мало: путешественника привлекала красота или историческая слава того или иного места, а не особые приманки для пищеварительного аппарата. Байрон мог спать на палубе корабля, завернувшись в плащ, и прекрасно себя чувствовать: мужество и стремление к высокому возносили его над любыми телесными неудобствами; он погружался умом в великие учения своего времени; в размышлениях об уроках прошлого и возможностях будущего умел забывать о себе; смотрел на мир как вдохновенный Мыслитель и Поэт, и ломоть хлеба с сыром служил ему в странствиях по нетронутым долинам и горам Швейцарии не хуже, чем служат нам подогретые, жирные, неудобоваримые блюда из многостраничных меню в Люцерне и Интерлакене.
Мы почитаем себя высшими существами, байроновский дух равнодушия к происшествиям и презрения к бытовым мелочам высмеиваем как «мелодраматический» – и вовсе не замечаем, до чего убого и жалко наше собственное отношение к вещам и к самим себе. Написать «Чайльд-Гарольда» мы не способны: зато как умеем ворчать из-за номера и стола в каждом отеле на земле; и отыскивать неприятную мошкару на улице и сомнительных насекомых в комнатах; и каждый предъявленный нам счет рьяно обсуждать и оспаривать, едва не доводя до сумасшествия и хозяев гостиницы, и самих себя! Да уж, в сих важных вопросах мы в самом деле «превзошли» Байрона и прочих мечтателей того времени; вот только новых «Чайльд-Гарольдов» от нас не дождешься, и мало того, от «Дон Жуана»[5] мы морщим нос, почитая его непристойным, а сами жадно зачитываемся Золя[6]!
Вот в какую яму завела нас наша культура! И, словно евангельский фарисей, благодарим Бога, что мы не таковы, как прочие человеки. Счастливы, что мы – не арабы, не африканцы, не индусы, гордимся своими слоновьими ногами и сюртуками, режущими фигуру пополам: эти вещи показывают, что мы цивилизованны, а значит, Бог одобряет нас куда больше всех прочих своих созданий. Мы поражаем народы не громом войн, а звяканьем обеденных тарелок. Не собираем армии, а строим отели; и в Египте устраиваемся так же, как в Гамбурге, чтобы точно так же одеваться, обедать, спать и презрительно фыркать на все, кроме самих себя, – до такой степени, что даже завели привычку коренных жителей присвоенных нами мест именовать «иностранцами». Иностранцы здесь – мы: но почему-то нам никак не удается это заметить. Мы снисходим до того, чтобы построить где-нибудь отель – и сразу начинаем считать эту местность своей. Мы удивляемся дерзости франкфуртцев, которые едут в Гамбург, когда там наш «сезон»: как они смеют путаться у нас под ногами? По правде сказать, они и сами поражаются собственной отваге и пробираются по Кургартену робко, точно боятся, что охрана схватит их и вышвырнет вон. То же происходит и в Египте: нас нередко шокирует то, что мы называем «дерзостью этих иностранцев», то есть местных жителей. Да они гордиться должны, что мы, с нашими слоновьими ногами, почтили их своим присутствием; должны с радостью взирать на столь прекрасное и благородное воплощение цивилизации, как тучный выскочка с выпирающим брюхом и его семейство – выводок неуклюжих юнцов и долговязых девиц с лошадиными зубами; должны быть счастливы, видя английскую «мамочку», вечно юную, в невинных кудряшках, чьи морщины каждый год «разглаживает» в Париже искусный массажист. Сын Пустыни, говорим мы, должен от счастья умирать при виде такой красоты – и, разумеется, не требовать такой огромный бакшиш! Напрасно мы вообще столько ему платим: слуга он недурной, спору нет, но как человек, как брат наш – тьфу, да и только! Пусть Египет – его страна, пусть он любит его так же, как мы любим Англию, – наши чувства важнее, и не может быть никакой связующей человеческой симпатии между Слоновьими Ногами и загорелой на солнце Наготой.
По крайней мере, так рассуждал сэр Четвинд-Лайл, тучный джентльмен грубого сложения и еще более грубой физиономии, развалившийся в глубоком кресле посреди просторного холла или «комнаты отдыха» в отеле «Джезире-Палас»: вместе с еще двумя или тремя англичанами, с которыми сдружился за время пребывания в Каире, он наслаждался послеобеденной сигарой.
Свои мнения сэр Четвинд привык высказывать не обинуясь, так, чтобы слышали все вокруг, – и имел на это некоторое право, ибо являлся редактором и издателем крупной лондонской газеты. Рыцарское звание[7] он получил совсем недавно, как это ему удалось – никто толком не знал. Прежде он был известен на Флит-стрит[8] под непочтительным прозвищем Сальный Четвинд: трудно сказать, имелся ли в виду избыток жира на его обширных телесах, вечно сальные волосы, приторные манеры или, быть может, все вместе. С собой в Каир Четвинд привез жену и двух дочек: собственно говоря, для того он и остался здесь на зиму, чтобы выдать кровиночек замуж. И в самом деле, пора было, давно пора: девы-розы уже увядали, нежные лепестки их начинали откровенно сморщиваться. Сэр Четвинд много слышал о Каире и понял главное – что там обращение между мужчинами и девицами отмечено простотой и свободой нравов: вместе ездят на экскурсии к Пирамидам, вместе катаются под луной по пустыне на осликах, вместе плавают на лодках по вечернему Нилу; короче говоря, возможностей выйти замуж в «котлах египетских» куда больше, чем в шуме и громе Лондона. Так что сэр Четвинд-Лайл бесформенной горой плоти восседал теперь посреди холла, в целом вполне довольный своей экспедицией: интересных холостяков тут было хоть отбавляй, и Мюриэл и Долли очень старались. Старалась и их матушка, леди Четвинд-Лайл: ни одному интересному холостяку не посчастливилось ускользнуть от ее орлиного взора. На сегодняшний вечер она возлагала особые надежды: ведь сегодня хозяева «Джезире-Паласа» устраивали костюмированный бал – первоклассное развлечение для гостей, столь щедро, хоть и неохотно оплачивающих их услуги. Именно из-за подготовки к празднеству большой холл, в обстановке которого египетские мотивы сочетались с самой современной роскошью, почти пустовал – если не считать сэра Четвинд-Лайла и пары его друзей, коим он, в перерывах между неспешно выпускаемыми облачками дыма, объяснял, что арабы попросту убогий народец, шейхи их воруют так, что и сказать страшно, его личный драгоман[9] ничего не понимает в своем деле, да и вообще сильно ошибаются те, кто видит в египтянах что-то хорошее.
– Не спорю, рост у них вполне приличный, – говорил сэр Четвинд-Лайл, устремив взор на свое огромное брюхо, лежащее перед ним, словно обтянутый тканью воздушный шар. – Да, в этом могу с вами согласиться: они высокие. Большинство из них, по крайней мере. Хотя мне случалось видеть и низеньких. Сам хедив[10] ростом не выше меня! А лица у египтян очень обманчивы. Да, нередко бывают красивы, попадаются иной раз даже классические лица – но вглядитесь в их выражение! Ни малейших признаков ума!
И сэр Четвинд выразительно взмахнул сигарой перед собственным лицом, как бы намекая, что тяжелая нижняя челюсть, толстый нос с бородавкой и огромный рот, полный гнилых зубов – отличительные черты его собственной внешности, – безмерно превосходят любую смуглую красоту Востока, какую только можно вообразить, ибо в них-то «признаки ума», безусловно, есть.
– Здесь не могу вполне с вами согласиться, – отвечал ему другой отдыхающий, тот, что курил, растянувшись во весь рост на диване. – У этих загорелых ребят бывают удивительные глаза. Красивые – и, поверьте, очень выразительные! Кстати, вы мне напомнили: тот парень, что приехал сегодня, выглядит точь-в-точь как египтянин, и самого высшего разряда. Хотя он француз, точнее, провансалец. Все вы его, конечно, знаете: это прославленный художник Арман Жерваз.
– Разумеется! – встрепенулся сэр Четвинд-Лайл. – Арман Жерваз! Тот самый Арман Жерваз?!
– Самый что ни на есть настоящий, – рассмеялся его собеседник. – Приехал сюда, чтобы изучить женщин Востока. Осмелюсь сказать, веселые деньки ему предстоят! Хотя до сих пор он не славился портретами. А, право, стоило бы ему написать княгиню Зиска!
– Кстати, как раз хотел спросить об этой даме. Кто-нибудь знает, кто она такая? Моя жена очень желала бы выяснить… гм… ну, одним словом, добропорядочная ли она особа. Что поделать – приходится думать о таких вещах, знаете ли, когда ты отец двух юных девиц!
Росс Кортни, малый спортивного вида, что лежал на диване, встал и с ленивым наслаждением потянулся. Этот рослый молодой атлет, не стесненный в средствах – ему принадлежали обширные поместья в Шотландии и Ирландии, – вел жизнь праздную и беззаботную, скитался по миру в поисках приключений и привык смотреть сверху вниз на все условности цивилизации, в том числе на газеты и их редакторов. Всякий раз, как сэр Четвинд-Лайл заговаривал о своих «юных девицах», на лице у Кортни проступала непочтительная улыбка: дело в том, что младшей из юных дев уже сравнялось тридцать. Все капканы и волчьи ямы, расставленные на его пути леди Четвинд-Лайл в надежде, что он падет жертвою чар либо Мюриэл, либо Долли, он заметил и их благополучно избежал; и теперь, когда вспомнил сих двух прелестниц и сопоставил их в уме с женщиной, о которой только что зашла речь, невольная улыбка проступила ярче и озарила его красивое лицо.
– Да бог с вами! – небрежно отвечал он.– Кого в Каире это волнует? Здесь отпрыски самых респектабельных семейств пускаются во все тяжкие, пристойно ведут себя только те, кого никто не знает. Что же до княгини Зиска, ее выдающаяся красота и ум обеспечили бы ей свободный доступ в любое общество, даже не будь у нее поддержки в виде огромного состояния.
– Я слышал, она как-то невероятно богата, – произнес еще один ленивый курильщик, лорд Фалкворд, поглаживая едва заметные усики. – Моя матушка считает, что она в разводе.
Сэр Четвинд наморщил лоб, а затем сурово покачал головой.
– Если и разведена, что такого? – рассмеялся Росс Кортни. – В наши дни это самый естественный и уместный финал брака.
Сэр Четвинд нахмурился еще сильнее: позволять втянуть себя в столь легкомысленную беседу он не собирался. Он-то в любом случае был женат, и весьма респектабельно женат – и не намеревался сочувствовать тому жалкому большинству, для которого брак обернулся катастрофой.
– Так, значит, князя Зиска не существует? – продолжал он расспросы.– Княгиня Зиска – в этом имени есть что-то русское: и я полагал – и моя жена полагала, – что муж этой дамы мог остаться дома, в России, в то время как ее саму слабое здоровье вынудило проводить зиму в Египте. В России-то, должно быть, зимы суровые!
– Любопытная версия, – зевнув, заметил лорд Фалкворд. – Моя матушка уверена, что это не так. Она полагает, нет никакого мужа да никогда и не было. Честно говоря, она в этом абсолютно убеждена. И тем не менее намерена нанести ей визит.
– Вот как? Леди Фалкворд решила нанести ей визит? О-о-о! Ну тогда… – Сэр Четвинд-Лайл запыхтел и раздул свой воздушный шар под грудью. – Тогда это избавит леди Четвинд-Лайл от лишних опасений! Если уж княгиню Зиска готова посещать леди Фалкворд – разумеется, не может быть никаких сомнений в ее статусе!
– Ну, не знаю, – протянул лорд Фалкворд, поглаживая отвислую нижнюю губу. – Видите ли, моя матушка – женщина неординарная. Пока был жив губернатор, она почти никуда не выезжала – и всякий, кто являлся в наш йоркширский дом, обязывался, так сказать, приносить с собой свою родословную. Было, знаете ли, чертовски скучно! Теперь все по-другому: матушка пустилась, как сама говорит, в «изучение характеров» и общается со всякого рода людьми – чем более разношерстная компания вокруг, тем лучше! Так и есть, уверяю вас! После смерти бедняги губернатора матушка очень переменилась!
Росс Кортни усмехнулся. В самом деле, леди Фалкворд очень переменилась – внезапно, таинственно, поразительно и необъяснимо для многих ее бывших друзей «с родословными». При жизни мужа волосы ее отливали серебром, лицо было бледным, задумчивым и серьезным, формы тела – округлыми, как подобает даме не первой молодости, походка – размеренной и степенной; однако два года спустя, как умер добрый и благородный старик лорд, до последнего часа лелеявший ее как зеницу ока и почитавший прекраснейшей женщиной в Англии, она вышла в свет с золотыми локонами, персиковым румянцем и фигурой, так искусно размятой, спрессованной и затянутой в корсет, что поистине напоминала сильфиду. Эта женщина, которую совсем недавно именовали «старой» леди Фалкворд, теперь танцевала точно фея, курила сигареты, смеялась как ребенок над любым пустяком: самой плоской и замусоленной, даже самой неуместной шутки хватало, чтобы ее темперамент выплеснулся в смехе. А как она флиртовала! Святые небеса! С таким изяществом, такой грацией, такой естественностью и спокойной уверенностью в себе, что Мюриэл и Долли едва не лопались от злости, на нее глядя. Их, бедняжек, она тактично и с неподражаемым искусством вытеснила с поля боя, так что теперь они согласно ее ненавидели и меж собой называли «этой ужасной старухой»: что ж, после того, как горничная ее раздевала и расшнуровывала, быть может, такой она и становилась. Но так или иначе, леди Фалкворд великолепно проводила время в Каире. Сына своего, отличавшегося слабым здоровьем, звала не иначе как «мой бедный дорогой мальчик» – и он, хоть в нынешнем году ему и сравнялось двадцать восемь, совершенно перед нею стушевался. Самоуверенность леди Фалкворд, ее ничем не стесненная веселость и свобода манер привели его в такое ничтожество, что он не смел уже и рта открыть, не помянув «матушку»: «матушка» сделалась крючком, на который он нанизывал и собственные мнения и чувства, и мнения и чувства окружающих.
– Леди Фалкворд, как я понимаю, весьма восхищается княгиней? – подал голос еще один курильщик, до сих пор молчавший.
– Еще бы! – проговорил лорд Фалкворд; при этом вопросе он впервые выказал слабые признаки оживления. – Такая женщина – скажите на милость, как ею не восхищаться? Но знаете, что я вам скажу? Во взгляде у нее есть что-то странное. Честное слово! Не нравятся мне ее глаза.
– Прекрати, Фалк! У нее прекрасные глаза! – горячо выпалил Кортни, а в следующий миг, побагровев, прикусил губу и умолк.
– У кого прекрасные глаза? – послышался новый голос, тихий и хрипловатый.
С этой репликой появилось на сцене новое лицо: маленького роста, худой, невзрачный джентльмен в чем-то вроде профессорской мантии и в четырехугольной шапочке оксфордского выпускника.
– А вот и наш ученый муж! – вскричал лорд Фалкворд. – Ну и костюм у вас! Сами придумали? Чертовски остроумно, богом клянусь!
Адресат сего комплимента поправил очки и окинул своих знакомцев самодовольным взором.
Что ж, у доктора Максвелла Дина имелись причины быть собой довольным – разумеется, если может служить поводом для гордости сознание, что носишь на плечах одну из самых умных голов в Европе.
Доктор был, судя по всему, единственным в «Джезире-Паласе» человеком, приехавшим в Египет с некоей серьезной целью. Да, цель у него определенно имелась, хоть и, слыша вопросы о ней, он неизменно уходил от ответа. Вообще выражался он сдержанно, зачастую весьма кратко, иногда загадочно; однако не было ни малейших сомнений, что он здесь над чем-то работает – а также и в том, что по привычке внимательно изучает любой предмет, большой или малый, попадавшийся ему на пути. Он изучил местных жителей до такой степени, что мог бы перечислить все оттенки их кожи; изучил сэра Четвинд-Лайла – и понял, что тот не брезгует брать плату за заказные статьи; изучил Долли и Мюриэл Четвинд-Лайл – и понял, что в погоне за мужьями им не видать успеха; изучил леди Фалкворд – и понял, что для своих шестидесяти она очень неплохо сохранилась; изучил Росса Кортни – и понял, что ничем, кроме убийства животных ради развлечения, этот молодой человек в жизни не занимался и заниматься не будет; изучил работу «Джезире-Паласа» – и понял, что он приносит своим владельцам целое состояние. Однако, помимо таких вещей, обыденных и лежащих на поверхности, изучал он и нечто другое: «загадочные» особенности темперамента, «совпадения» – особенно странные совпадения. Египетские иероглифы он разбирал в совершенстве, без труда отличал скарабея – «печать фараона» от скарабеев, изготовленных в Бирмингеме. Он никогда не скучал; всегда ему было чем заняться; ко всему, что встречалось на пути, он подходил с одинаковой любознательностью ученого. Даже костюмированный бал, для которого он сейчас нарядился, обещал ему не скучный бессодержательный вечер, а новую информацию, ибо позволял бросить свежий взгляд на то, как играют и дурачатся представители рода человеческого.
– Мне показалось, – задумчиво ответил он, – что мантия и шапочка для человека моих лет подойдут. Наряд очень простой, но выразительный, удобный и вполне уместный. Сначала я подумывал подобрать себе костюм древнеегипетского жреца, потом понял, что трудно будет раздобыть все элементы. А такой костюм имеет смысл надевать, только если он абсолютно исторически точен.
Никто не улыбнулся в ответ. Никто не смел улыбаться, когда доктор Максвелл Дин говорил об «исторической точности». Историю Египта он изучил так же, как изучал все остальное – и знал о ней все.
– Верно, – пробормотал сэр Четвинд, – все эти древние облачения так сложны…
– И полны символики, – закончил доктор Дин. – Символики с очень любопытными значениями, уверяю вас. Однако, боюсь, я прервал вашу беседу. Мистер Кортни говорил о чьих-то прекрасных глазах: можно спросить, кто эта красавица?
– Княгиня Зиска, – ответил лорд Фалкворд. – Я говорил, что ее взгляд мне не совсем по душе.
– Почему же? Почему? – с внезапным интересом спросил доктор. – Что не так с ее взглядом?
– Да все не так! – с принужденным смешком вмешался Росс Кортни. – Слишком уж он ярок, слишком неукротим для нашего Фалка! Египетским газельим глазам Фалк определенно предпочитает бледную голубизну доброй старой Англии!
– Вовсе нет, – отвечал Фалкворд с бóльшим жаром, нежели обычно. – Терпеть не могу голубые глаза! Мне нравятся серые с лиловым отливом, как у мисс Мюррей.
– Мисс Мюррей – очаровательная юная леди, – заметил доктор Дин. – Но ее красота довольно обыкновенна, а вот у княгини Зиска…
– Необыкновенная красота! – восторженно подхватил Кортни. – О чем я и говорю! Совершенно необычайная женщина – второй такой красавицы я не встречал!
Наступило недолгое молчание: доктор с любопытством переводил острый, проницательный взгляд с одного своего собеседника на другого. Наконец тишину прервал сэр Четвинд.
– Думаю, – заговорил он, неторопливо поднимаясь из глубин обширного кресла, – пора мне пойти переодеться к балу! На мне сегодня, знаете ли, будет виндзорский костюм! Удобнейшая штука, всегда вожу его с собой: может пригодиться на любом костюмированном балу, не привязанном к определенной эпохе. А вам всем не пора одеваться?
– Пожалуй, и правда пора! – откликнулся лорд Фалкворд. – Я сегодня стану неаполитанским рыбаком! Хотя, конечно, трудно поверить, что такое в самом деле носит хоть один рыбак в Неаполе – но, знаете ли, в театре их всегда так наряжают!
– Тебе, кстати, пойдет, – рассеянно пробормотал Росс Кортни. – Смотрите-ка, а вот и Дензил Мюррей!
Все инстинктивно обернулись. В «комнату отдыха» вошел красивый молодой человек, облаченный в живописный наряд флорентийского дворянина времен славного правления Медичи. Костюм этот удивительно подходил своему обладателю: его суровое, почти угрюмое лицо требовало сверкания драгоценностей, мягкого сияния бархата и шелков, чтобы подчеркнуть классические черты и усилить мрачный, страстный блеск темных глаз.
Дензил Мюррей был чистокровным шотландцем. Четкие брови, твердый рисунок губ, взгляд прямой и бесстрашный – все обличало в нем сына вересковых холмов, отпрыска гордого народа, презирающего «сассенахов»[11], и свидетельствовало, что он сохранил в себе достаточно наследства древних финикийских предков – горячей крови, дающей способность к крайним проявлениям и ненависти, и любви. Неторопливо, с каким-то сдержанным высокомерием приближался он к группе знакомых: казалось, он сознает, как хорош в этом костюме, однако никаких фамильярных замечаний на сей счет терпеть не станет. Его друзья поняли это и промолчали; не удержался только лорд Фалкворд.
– Ну и ну! Дензил, как же тебе идет! Чертовски хорошо выглядишь, знаешь ли!
Дензил Мюррей слегка поклонился, устало и насмешливо.
– Живешь в Риме – веди себя как римлянин; то же относится и к Египту, – рассеянно бросил он. – Раз хозяева отелей нынче задают костюмированные балы, приходится соответствовать. Отлично выглядите, доктор. Может, и вам, господа, пора пойти нацепить свое разноцветное тряпье? Уже больше десяти, а к одиннадцати подъедет княгиня Зиска.
– Ну, не одна же княгиня Зиска будет на балу, не так ли, мистер Мюррей? – с добродушно-покровительственным видом вставил сэр Четвинд-Лайл.
Дензил Мюррей смерил его презрительным взглядом.
– Не одна, – холодно ответил он. – Иначе хозяевам едва ли удалось бы отбить расходы. Но княгиня считается самой красивой женщиной Каира в этом сезоне, так что общее внимание будет приковано к ней. Вот почему я упомянул, что она приедет к одиннадцати.
– Она сама тебе так сказала? – поинтересовался Росс Кортни.
– Да.
Кортни взглянул вверх, взглянул вниз, явно хотел произнести что-то еще – впрочем, удержался и вышел вслед за лордом Фалквордом.
– Я слышал, – заговорил доктор Дин, обращаясь к Мюррею, – в нашем отеле сегодня поселился великий человек – знаменитый художник Арман Жерваз.
В тот же миг лицо Дензила просияло улыбкой.
– Мой самый дорогой друг в целом свете! – воскликнул он. – Да, он здесь. Днем я встретил его во дворе. Мы с ним очень старые приятели. Я гостил у него в Париже, он у меня в Шотландии. Отличный парень! Мыслит как сущий француз, но прекрасно знает Англию и по-английски говорит безупречно.
– Мыслит как сущий француз? – повторил сэр Четвинд-Лайл, уже вперевалку двигавшийся к выходу. – Ну и ну! Это как же?
– Он ведь и есть француз, – мягко ответил доктор Дин. – Так что вас, дорогой сэр Четвинд, не должно удивлять, что и идеи у него французские.
Сэр Четвинд фыркнул. Его охватило неприятное подозрение, что над ним – владельцем и редактором «Ежедневного циферблата» – смеются, и в ответ он немедля оседлал любимого конька: высокую Британскую Мораль.
– Француз там или не француз, – пропыхтел он, – а идеи в нынешней Франции проповедуются непростительные и опасные! О таком отсутствии принципов, о такой прискорбной безнравственности в… в… ну, хотя бы во французской прессе можно только пожалеть!
– А английская пресса ни в чем подобном не повинна? – лениво поинтересовался Дензил.
– Надеюсь, что нет, – отвечал сэр Четвинд. – Я, со своей стороны, не покладая рук…
И, негодующе бормоча что-то себе под нос, выплыл из комнаты, гордо неся перед собой огромное брюхо – оставив доктора Дина и молодого Мюррея вдвоем.
Странный контраст являли собой эти двое, друг напротив друга: один – маленький, тщедушный и костлявый, в профессорской мантии, свободно болтающейся на худых плечах; другой – высокий, широкоплечий, мускулистый, в роскошном наряде средневековой Флоренции, ни дать ни взять оживший и вышедший из рамы портрет аристократа тех времен. На несколько секунд между ними наступило молчание, а затем доктор заговорил вполголоса:
– Ничего у вас не выйдет, дорогой мой мальчик! Уверяю вас, ничего не выйдет. Вы лишь разобьете себе сердце, гонясь за мечтой. И не только себе, но и своей сестре – подумали ли вы о ней?
Дензил бросился в кресло, недавно освобожденное сэром Четвиндом, и испустил громкий вздох, более похожий на стон.
– Хелен ничего не знает… пока, – дрогнувшим голосом ответил он. – Да я и сам ничего не знаю. Откуда? Ведь я ни слова ей не говорил. Если выскажу все, что у меня на сердце, клянусь, она только рассмеется в ответ! Вы единственный, кто угадал мою тайну. Вы видели меня вчера вечером, когда… когда я сопровождал ее домой. Но так и не вошел в дом вместе с нею – она бы не позволила. У дверей она сказала мне «доброй ночи», привратник открыл, и она исчезла с глаз моих, как колдунья, как привидение! Порой мне думается: быть может, она и есть привидение? Так бела, так светла, так легко и бесшумно ступает по земле… и так прекрасна!
И он отвел взгляд, стыдясь своей несдержанности.
Доктор Максвелл Дин снял четырехугольную шапочку и принялся рассматривать ее подкладку так, словно увидел там нечто весьма занимательное.
– Верно, – медленно ответил он. – Я и сам порой так о ней думаю.
Тут разговор их был прерван: через «комнату отдыха» прошли толпой, торопясь в бальную залу, музыканты приглашенного военного оркестра, каждый со своим инструментом, а за ними несколько компаний в маскарадных костюмах, уже готовые к танцам и веселью. Пьеро и Пьеретты, монахи в низко надвинутых капюшонах, цветочницы, водоносы, символические фигуры «Ночи» и «Утра» соседствовали здесь с давно покойными королями и королевами – и все толпились, болтали и смеялись по пути в бальную залу. Среди них, однако, ярко выделялся один человек, чей высокий рост и могучее сложение, вместе с живописной, полудикарской красотой, заставляли всех поворачивать головы ему вслед, когда он проходил мимо, и отпускать шепотом разного рода комплименты. На маскарад он нарядился бедуинским вождем, и белизна складок тюрбана безупречно подчеркивала его пылающие черные глаза, густые темные кудри и естественный оливковый оттенок кожи. Белоснежным был и остальной его костюм – весь, не считая алого пояса, на котором висел убийственного вида кинжал и иное подходящее для бедуина оружие. Быстрым, уверенным и на удивление легким шагом этот человек вошел в холл и направился прямиком к Дензилу Мюррею.
– А! Вот и ты! – воскликнул он по-английски с едва заметным иностранным акцентом, пожалуй, даже приятным для слуха. – Дорогой мой, это же великолепно! Эпоха Медичи! Теперь попробуй только сказать, что ты не тщеславен: свою красоту ты сознаешь не хуже любой хорошенькой женщины! Ну а я, как видишь, сегодня оделся со скромной простотой.
Он рассмеялся, а Дензил Мюррей, лениво раскинувшийся в кресле, радостно вскочил ему навстречу.
– Да ладно тебе! – воскликнул он. – Со скромной простотой? Как бы не так! Смотри, на тебя все глазеют, словно ты с луны свалился! Нет, Арману Жервазу не дано быть «скромным и простым»!
– Почему бы и нет? – весело отвечал Жерваз. – Слава – дама капризная, и трубы ее слышны далеко не по всему миру. Почтеннейший владелец той грязной лавчонки, где я приобрел все детали своего бедуинского костюма, в жизни обо мне не слышал. Бедняга, он не знает, что потерял!
Тут взгляд пламенных черных глаз художника обратился на доктора Дина, который «изучал» его так же спокойно и бесцеремонно, как этот маленький ученый изучал все.
– Твой друг, Дензил? – спросил Жерваз.
– Да, – с готовностью ответил Мюррей, – и очень дорогой друг. Доктор Максвелл Дин. Доктор Дин, позвольте познакомить вас с Арманом Жервазом: тут дальнейшие представления не требуются!
– В самом деле! – отвечал доктор, церемонно кланяясь. – Это имя гремит по всему миру!
– Всемирная слава не всегда радует, – заметил Жерваз. – Да и не такая уж она всемирная, откровенно говоря. Золя – вот, пожалуй, единственный ныне живущий человек, которого действительно знает весь мир, хотя бы по фамилии. Это в природе человечества: единодушно превозносить порок!
– Не могу вполне с вами согласиться, – неторопливо проговорил доктор Дин, с каким-то особенным любопытством всматриваясь в смелые и гордые черты художника. – Члены Французской академии, быть может, поодиночке так же снисходительны к человеческим слабостям, как и большинство из нас; когда же собираются вместе, некий дух, выше и сильнее, чем их собственные, побуждает их вновь и вновь отвергать печально известного реалиста, приносящего все законы искусства и красоты в жертву открытому обсуждению тем, о которых немыслимо и упомянуть в приличном обществе[12].
Жерваз рассеянно рассмеялся.
– Рано или поздно Золя своего добьется, – ответил он. – Нет духа выше и сильнее, чем дух натурализма в человеке; и со временем, когда отомрут предрассудки и износится нынешняя слезливая сентиментальность, Золя по праву признают первым из французских академиков и осыплют почестями, какие ему и не снились. Таков путь всех «избранных». Как сказал Наполеон: «Le monde vient a celui qui sait attendre»[13].
На лице доктора, напоминающем мордочку хорька, теперь отражался самый живой и страстный интерес:
– Вы в самом деле в это верите, месье Жерваз? Уверены в том, что вы только что сказали?
– А что я сказал? Уже не помню! – улыбнулся Жерваз, зажигая сигарету и лениво закуривая.
– Вы сказали: «Нет духа выше и сильнее, чем дух натурализма в человеке». Это вы серьезно?
– Ну разумеется! Серьезнее не бывает! – И великий художник с улыбкой пояснил свою мысль: – Натурализм ведь не что иное, как Природа или все, что принадлежит Природе. А выше и сильнее Природы ничего на свете не найти!
– А как насчет Бога? – поинтересовался доктор Дин с таким видом, словно задавал собеседнику любопытную загадку.
– Бога?! – И Жерваз громко рассмеялся. – Pardon![14] Вы, должно быть, служитель церкви?
– Ни в коей мере! – с легким поклоном и смиренной улыбкой ответил доктор. – С церковью меня ничто не связывает. Я доктор юриспруденции и литературы, скромный ученик в области философии и естественных наук…
– Философии? Естественных наук? – прервал Жерваз. – И спрашиваете о Боге? Parbleu![15] Наука и философия оставили Его далеко позади!
– Вот оно что! – Доктор Дин даже руки потер от удовольствия. – Значит, таковы ваши убеждения? Так я и думал! Наука и философия, коротко говоря, побили беднягу Бога на его собственном поле! Ха-ха-ха! Отлично, просто отлично! И до чего забавно! Ха-ха-ха!
И «скромный ученик в области философии и естественных наук» покатился со смеху. Вид у него сделался презабавный: смеясь, он раскачивался туда-сюда, маленькие глазки совсем скрылись под нависшими бровями, а в углах тонких губ прорезались две глубокие складки, точь-в-точь как на древнегреческой маске, олицетворяющей Сатиру.
Дензил Мюррей побагровел от неловкости.
– Жерваз не верит ни во что, кроме Искусства, – пояснил он, словно извиняясь за своего друга. – Искусство – вот единственный смысл его существования; вряд ли у него есть время даже подумать о чем-нибудь другом.
– А о чем еще мне прикажешь думать, mon ami?[16] – насмешливо поинтересовался Жерваз. – О жизни? Но вся она для меня и есть Искусство, ибо под Искусством я понимаю идеализацию и преображение Природы.
– О, если так, вы просто романтик, – живо и увлеченно отвечал доктор Дин. – Сама Природа себя не идеализирует и не преображает: она – Природа, такая, как есть, и ничего более. В материи, неподвластной Духу, ничего идеального не найти.
– Именно так! – быстро и с некоторым жаром ответил Жерваз. – Это мой дух идеализирует ее, мое воображение проникает за ее покров, моя душа ее познает!
– Так душа у вас есть? – воскликнул доктор Дин, снова начиная смеяться. – И как же вы об этом узнали?
Жерваз взглянул на него с удивлением.
– Разумеется, у каждого человека есть внутреннее «я», – ответил он. – Мы называем его «душой», но это лишь фигура речи: на самом деле речь идет просто о темпераменте.
– Просто о темпераменте, вот как? Значит, вы не считаете, что эта душа способна вас пережить? Что она перейдет на новые стадии бытия и будет продолжать жизнь в вечности, в то время как тело ваше окажется в гораздо худшем состоянии, чем у египетских мумий – ибо никто не станет так же тщательно его сохранять?
– Разумеется, нет! – И Жерваз отбросил докуренную сигарету. – Бессмертие души давным-давно опровергнуто. Да и всегда эта теория была просто смехотворной. Нам и в нынешней жизни есть о чем побеспокоиться, и почему люди вечно стараются изобрести что-то еще – выше моего понимания. Самое что ни на есть дурацкое, варварское суеверие!
Из бальной залы уже плыли им навстречу звуки музыки. Чарующая мелодия вальса, веселая, нежная, ритмичная, словно размеренные взмахи крыльев, не то упрашивала, не то приказывала скорее идти танцевать. Дензил Мюррей явно начал терять терпение: он нервно прохаживался туда-сюда, провожая взглядом каждого, кто проходил через холл. Доктор Дин по-прежнему, казалось, не замечал никого, кроме Армана Жерваза: он подошел к нему ближе и осторожно коснулся двумя тонкими пальцами белоснежных складок бедуинского одеяния на груди, прямо против сердца.
– Дурацкое, варварское суеверие? – повторил он медленно и раздумчиво. – Так вы совершенно не верите в возможность жизни – или нескольких жизней – после того, как нынешняя жизнь для каждого из нас неизбежно, раньше или позже, окончится смертью?
– Ни в коей мере! Такие идеи я оставляю необразованным невеждам. Я был бы недостоин прогрессивных учений нашего времени, если бы верил в такую ерунду!
– Смерть, думаете вы, всему кладет конец? Смерть – и больше ничего? Никаких тайн там, за гробом?
При слове «там» глаза доктора Дина блеснули, и, словно подчеркивая свою мысль, он указал маленькой сухонькой рукой куда-то в пространство. На долю секунды этот жест произвел странное впечатление даже на беззаботного Жерваза; однако в следующее мгновение тот, опомнившись, рассмеялся.
– «Там»? Ну разумеется, «там» ничего нет! Дорогой мой сэр, к чему задаваться таким вопросом? Ничто не может быть проще и неоспоримее того факта, что смерть, как вы говорите, всему кладет конец.
В этот миг отдаленную музыку и гул голосов вокруг них прорезал женский смех, глубокий и на удивление музыкальный. Редкий смех – такой встречается реже, чем хорошая песня: обычно женщины смеются слишком громко, и звуки их веселья больше походят на гоготание гусей, чем на какие-либо более приятные мелодии природы. Не таково было это серебристое журчание: оно напоминало нежный голос волшебной флейты, доносящийся откуда-то издалека, и не обещало ничего, кроме сладости. При первых звуках его Арман Жерваз вздрогнул и резко повернулся к своему другу Мюррею с изумлением, даже замешательством на лице.
– Кто это? – требовательно спросил он. – Я где-то уже слышал этот чудный смех! Должно быть, эта женщина мне знакома!
Дензил едва ли его услышал. Бледный, с глазами, полными страстного желания, неотрывно следил он за приближающейся группой людей в маскарадных костюмах. Веселая толпа сгрудилась вокруг одной центральной фигуры – женщины, облаченной в блистающие золотые шелка, с драгоценностями, сверкающими на талии, на груди и в волосах, с лицом, до самых глаз закрытым покрывалом, по старинному египетскому обычаю. Женщина шла так легко, так плавно, будто плыла по воздуху; и необычайная красота ее, даже полускрытая избранным ею нарядом, казалось, создавала вокруг особую атмосферу восторга и благоговейного трепета. Маленький мальчик-нубиец в ярко-алом костюме шел перед ней, смиренно пятясь задом, и медленно обмахивал свою госпожу опахалом из павлиньих перьев, изготовленным по образцам, запечатленным на причудливых барельефах Древнего Египта. Блеск этих павлиньих перьев, золотых одежд, драгоценных камней и, наконец, чудное сияние черных глаз незнакомки поразили Жерваза, точно внезапный удар молнии. Что-то – он сам не знал что – ослепило его, вскружило голову; едва ли сознавая, что делает, он бросился вперед – и тут же ощутил у себя на плече сухонькую ручку доктора Дина и остановился в смущении.
– Прошу прощения, – проговорил маленький ученый, недоуменно и чуть насмешливо приподнимая брови. – Но разве вы знаете княгиню Зиска?
1
Огромный сад в европейской части Каира; российским читателям известен по стихотворению Н. С. Гумилева «Эзбекие». — Здесь и далее примеч. пер.
2
Выставочный и спортивный центр в Лондоне.
3
Прибрежный город на юго-востоке Англии, популярный туристический центр.
4
«Паломничество Чайльд-Гарольда» (1812—1818) считается величайшей поэмой Джорджа Гордона Байрона. В 1809—1811 годах Байрон совершил двухлетнее путешествие по Южной Европе, Балканам и странам арабского Востока, оказавшее огромное влияние на его творчество.
5
Последняя, неоконченная поэма Байрона.
6
Романы Золя пользовались в Европе огромной, но несколько скандальной популярностью. Критики говорили, что его книги грубы и грязны, что он изображает людей «полуживотными».
7
Рыцарское звание, получаемое от короля/королевы, в Великобритании дает право на приставку к имени «сэр» (для женщин «леди»).
8
Улица в Лондоне, где располагаются редакции основных британских газет.
9
Драгоман – в Османской империи официальная должность переводчика и посредника при европейском дипломатическом или торговом представительстве. Здесь: гид и переводчик при европейских туристах.
10
Наследственный титул правителей Египта в 1867—1914 годах.
11
Презрительное прозвище англичан, употребляемое в Шотландии.
12
В мае 1890 года Эмиль Золя выставлял свою кандидатуру во Французскую академию изящных искусств, но не был принят. По упоминанию этого события можно понять, когда происходит действие романа.
13
Мир достается тому, кто умеет ждать (фр.).
14
Прошу прощения! (фр.)
15
Черт возьми! (фр.)
16
Друг мой (фр.).