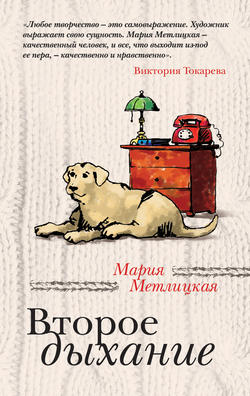Читать книгу Второе дыхание (сборник) - Мария Метлицкая - Страница 3
Течение
ОглавлениеСегодня опять приснился этот странный сон – он лежит на дне лодки и смотрит в небо. Небо огромно и безгранично, но это не пугает его, а, скорее, успокаивает. Лодка плывет медленно и плавно, лишь иногда кружит, изменяя своему неспешному течению, попадая в легкие водовороты, или как там это называется. Он смотрит на небо, синее и безмятежное, и слегка прищуривает глаза – яркое, почти белое солнце слегка слепит и начинает набирать обороты полуденного жара. Он счастлив – жизнь только начинается и, конечно же, обещает быть яркой, прекрасной и, безусловно, долгой. Ну это и так понятно.
Этот навязчивый сон приходит обычно под утро, когда он, окончательно измученный бессонницей, уже и не надеется на легкую передышку – ну хотя бы на час или на два. Смущаясь, он рассказывает про сон Вере, и она говорит, что это – хороший признак.
– Признак чего? – с надеждой спрашивает он.
– Ну ты сам все знаешь, – отвечает Вера, как всегда, немногословно.
Она собирается на работу, и он подает ей пальто.
– Осторожно, скользко! – кричит он ей вслед, она машет рукой и заходит в лифт. Он возвращается в квартиру и долго сидит на стуле в прихожей. Потом встает и, тяжело шаркая, – при Вере он старается этого не делать, – идет в ванную. Там он тщательно и осторожно, четко соблюдая все указания и рекомендации, выполняет все, что предписал врач. Он бросает на себя в зеркало короткий взгляд и видит брезгливую мину на своем лице, потом долго моет руки и уже подробно разглядывает себя в зеркало.
«Глубокий старик, – думает он. – И всего за полгода…»
Он никогда не был упитанным – скорее поджарым, легким на подъем, спортивным. Футбол, волейбол – пожалуйста! Подтянуться на турнике – не вопрос. Отжаться от пола, ну, раз так двадцать – да ради бога! Без проблем! А сейчас… Сейчас подвиг почистить картошку и протереть пол. Но он, конечно, сделает это. Соберется и сделает, потому что вечером придет Вера – голодная и усталая. И он ни за что не допустит, чтобы в доме был беспорядок и не было ужина. Он варит суп, чистит картошку и жарит мясо, протирает пыль, моет полы и совсем без сил валится на диван. Потом он обедает – при Вере он старается не есть, потому что после еды нужно опять идти в ванную, и там начинается все по новой. На улице зима, но он распахивает настежь все окна – и ему кажется, что в квартире становится легче дышать. К вечеру приходит медсестричка делать очередной укол, и он видит, как она непроизвольно морщит свой хорошенький носик. Значит, запах есть, он неистребим. Не помогают никакие ухищрения – ни проветривания, ни освежители воздуха. Запах проник и въелся в мебель, шторы и паркет, и, самое страшное, – в него самого. Вначале казалось, что самое трудное – принять диагноз, смириться с ним. Потом – пережить операцию, выкарабкаться после нее. Но самым ужасным оказалось не это, а то, что со всем этим теперь надо было научиться жить. Принять эту жизнь такой, какая она сейчас, и это молодому и недавно абсолютно здоровому мужику пятидесяти четырех лет.
Врач тогда ему сказал, что изменится качество жизни. Господи, о каком качестве вы говорите! И разве вообще все это можно назвать качеством?
Чертова жизнь! А ведь недавно, всего год назад, он был о ней хорошего мнения! Думал тогда, что после всех его мук и мытарств она наконец соблаговолила ответить взаимностью.
Именно тогда он встретил Веру – честно говоря, уже почти не надеясь на что-либо хорошее. Жил в родном Владимире, куда, собственно, уехал по распределению после Москвы и журфака. Вначале, конечно, были наполеоновские планы – задержаться там ненадолго, максимум на пару лет, а потом, конечно, Москва или Питер – ему, как провинциалу, это было без разницы. А дальше – большая Журналистика. Непременно с большой буквы. А как иначе? А может быть, телевидение или, на худой конец, радио. Поездки по стране, репортажи, интервью, встречи с интересными людьми. Впрочем, тщеславным он никогда не был – скорее, амбиции юных лет. А кончилось все местной заштатной газетенкой и репортажами с полей и огородов, как он сам говорил. И еще – скоропалительной женитьбой. Исключительно по зову плоти, как стало понятно быстро, примерно через год. А деваться было некуда – в деревянной кроватке уже попискивало существо по имени Катька, у которой была его фамилия и голубые глаза «точно, как у папы». С женой все разладилось как-то сразу и в одночасье. Ушел он, когда Катьке исполнилось восемь месяцев. Винил во всем, как всегда, себя. С женой хороших отношений не сохранил – с Катькой видеться она не позволяла и через полгода выскочила замуж. На здоровье. Он не желал ей ничего плохого. Днем, когда детей выводили на прогулку, подходил к ограде Катькиного садика. Ребенка не окликал – зачем бередить девочке душу? Просто смотрел и уходил. От газеты получил комнату – мрачную, щелястую семиметровку в деревянном бараке на окраине города. Потом, конечно, была вереница баб. Пьянки, гулянки – все по полной программе. Потом до одури влюбился в замужнюю. Страсти там кипели африканские, но от мужа она так и не ушла. Двое детей, квартира в центре, машина. Эта история продолжалась почти двенадцать лет. Он тогда еле выполз, еле спасся. Полгода пил как сапожник, чуть не вылетел с работы. Пожалели. Потом сошелся с приличной женщиной, врачом. Переехал к ней. Зажили вроде тихо и мирно, но тогда, именно тогда, почему-то особенно стало неинтересно жить. Кризис среднего возраста, что ли. Чувствовал он себя полным ничтожеством – семьи как таковой нет: так, квартирует с удобствами. Детей тоже, считай, нет – бывшая с мужем и, разумеется, с Катькой из города уехали. Про работу и говорить нечего – все обрыдло до некуда. Хотел тогда рвануть куда-нибудь – страна большая, – но духу не хватило. От медички своей он тогда ушел, в свою выстуженную берлогу возвращаться не хотелось. Снял в деревне у бабки комнату – светлую и теплую. В доме уютно пахло деревом и печкой. Бабку звали Матреной, и была она непростая, с хитрецой. В селе ее считали глазливой и побаивались. На самом деле Матрена хорошо знала травы, и многие, не любя ее, обращались к ней за помощью. Она дала ему траву «от тоски». Он смеялся, но пил. И – смешно – помогало. Тогда, у Матрены, он начал впервые вести свои записки – что-то вроде дневника. Пил парное молоко, вечерами, на закате, уходил на речку. Часами сидел на берегу, размышлял о жизни. Потом долго пил с Матреной чай, и вели они философские беседы. Матрена была непроста и неглупа, и ему было с ней разговаривать и спорить даже любопытно. В общем, неплохо коротали они с Матреной свои одинокие дни. Иногда срывался в Москву – просто пошататься по улицам, сходить на выставку, а если повезет, прорваться в театр на «лишний билетик». Из города всегда привозил Матрене гостинцы – конфеты, чай, колбасу. Если очень уставал, оставался ночевать на вокзале. А утром первым поездом спешил на работу. Вот тогда, рано утром, в вагоне электрички он и встретил Веру. Она сидела напротив него и дремала. Он разглядывал ее – хорошее, усталое лицо, из-под косынки выбиваются пышные рыжеватые волосы. Резиновые сапоги, теплая куртка, в руках небольшая плетеная корзина. Она почувствовала его взгляд и открыла глаза.
– За грибами? – спросил он.
Она кивнула. Сказала, что знает грибные места и уже много лет ездит туда по осени.
– А возьмите меня с собой, – осмелел он.
Она рассмеялась:
– Ну, если хотите… Только я хожу долго и глубоко в лес, а вы одеты как-то неподходяще. – Она с сомнением посмотрела на его хилый пиджачок и легкие ботинки. Вышли на станции Коча и, минуя окрестные деревушки, пошли по кромке леса. Она действительно прекрасно знала лес и эти места – часа через два в корзине лежали крепкие боровики и подосиновики. Мелочь вроде сыроежек и лисичек не брали. Потом она объявила привал, они вышли на просеку и уселись на поваленной сосне. Вера достала бутерброды и термос с кофе. Молчали, и молчать было хорошо. Ему показалось тогда, что эту женщину он знает много лет. Всю свою жизнь. Усталые, медленным шагом, они пошли на станцию. У билетной кассы он попросил разрешения ее проводить.
– Ну, здесь же и ваша доля! – усмехнувшись, она кивнула на корзину с грибами.
– Вот именно, – подтвердил он, и они рассмеялись.
В электричке Вера рассказала ему, что развелась семь лет назад – муж был из гуляк, но она терпела и закрывала глаза, ждала, когда подрастет сын. Мальчик поступил в институт и на втором курсе женился. Короче говоря, она осталась одна. Хотя сын – чудесный. Заботливый и внимательный. Звонит каждый день. На выходные – обязательно заезжает. Да и невестка – девочка замечательная, никаких претензий. Он тогда подумал, что она хороший человек. Это наверняка. Они приехали к ней – жила она на Юго-Западе. Квартира поразила его чистотой и уютом, и он понял, что совсем отвык от таких простых и обыденных вещей. Потом они ужинали, долго пили чай и наконец взялись за грибы. Вера чистила их бережно и аккуратно, а он, неловкий неумеха, срезал полножки и полшляпки. Чистили до трех ночи. Потом она поставила грибы на огонь и сказала, что это обязательно, иначе они до утра пропадут. Он уже совсем валился с ног, и она, видя это, постелила ему в комнате сына.
– Не боитесь? – спросил он.
– Я уже всего отбоялась, – коротко ответила Вера.
Он вообще заметил, что она предельно кратка в определениях. Потом она предупредила, что в воскресенье спит долго – отсыпается за всю рабочую неделю, и если он пташка ранняя, то может, не стесняясь, позавтракать – в холодильнике всего вдоволь. Ночью он спал так крепко и сладко, как давно не помнил. Утром был бодр, как никогда. Умылся, оделся и пошел в магазин. Там купил все, что возможно, а возле метро бабка продавала белые и фиолетовые игольчатые астры. Когда он вернулся, она жарила грибы, и даже у лифта, на лестничной площадке, стоял крепкий и душистый грибной дух. Он позвонил в дверь, и она открыла ему – ни капли не смущаясь и не удивляясь. Велела вымыть руки и принялась разбирать сумку. Потом они ели грибы с жареной картошкой, и не было ничего вкуснее. А после завтрака он предложил ей поехать в центр – погулять, может, сходить в кино. Она отказалась – должны были приехать сын с невесткой на обед. Тогда он сказал, что пора и ему, собрался, поблагодарил за кров и еду и долго и нерешительно мялся у двери. Она сама предложила ему встретиться в следующие выходные.
Через месяц она сказала ему – переезжай. Что терять время? Его и так у нас не слишком много.
В этом была вся она – без пустого и дурацкого кокетства и лишних, ненужных слов. Он уволился из газеты, попрощался с Матреной и, собрав свои нехитрые пожитки, переехал к Вере. Она, химик по образованию, довольно легко устроила его в журнал «Химия и жизнь», где рулил отделом ее институтский приятель. Он был счастлив – новые люди, новый коллектив. Москва, театры, выставки. А как было у них с Верой… Об этом даже было страшно вспоминать. «Так не бывает, – думал он. – Так просто не может быть!» Она была абсолютно его человеком – с головы до пят, и в рассуждениях, выводах, восприятии жизни, позиции и оценке. Он, прожив большую половину жизни, и не предполагал, что такое бывает. Им было все вновь и все интересно вдвоем. Вдвоем они открывали неизвестные доселе миры, удивлялись, как совпадают взгляды и вкусы. Это было какое-то ошеломляющее откровение и удивление.
С ее сыном, кстати, он довольно быстро нашел общий язык, с радостью обнаружив в мальчике знакомые и родные Верины черты. Он обожал воскресные семейные обеды. Настаивал водку на рябине, запекал баранью ногу, накрывал на стол – белая скатерть, приборы, салфетки. И думал о том, что у него в первый раз в жизни семья, со всеми ее атрибутами. И вдруг, в один день, все кончилось.
«Чертова жизнь!» – думал он.
Ведь именно сейчас ему хотелось жить как никогда. Врач ничего не обещал. В смысле хорошего. Говорил, что третья стадия – поздновато, но советовал не терять надежду. А что он мог еще сказать? Вера, конечно, была в эти черные дни рядом. Взяла на работе отпуск, не уходила ночами – спала на стуле сидя. А ведь они так мечтали поехать летом на море! Но, как говорится, расскажи Господу о своих планах…
Но кончается все – и кончилась больница. Дома оказалось тяжелее – в больнице сестры как-то легко и умело расправлялись со всеми его причиндалами, а здесь пришлось самому. Правда, врач обещал, что, возможно, они эту гадость переделают, какая-то пластика, что ли. Словом, это приобретет мало-мальски человеческие очертания, и жить будет легче. Но пока до этого было очень далеко, и надо было научиться со всем этим жить. Он и учился – а куда было деваться? Купил широкие рубашки – на два размера больше, – чтобы прятать эти мешочки и трубочки, висевшие на правом боку.
«Как прозаично пахнет смерть! – думал он. – Оказывается, не землей и засохшими цветами, а банальным человеческим дерьмом».
Теперь Верин сын смотрел на него волком – оно и понятно. Устроила мама, так сказать, личную жизнь на старости лет. Поимела удовольствие. Ничего удивительного, что в этой ситуации мальчик думал прежде всего о матери. Ну, не о нем же! Однажды услышал, как он говорил Вере, что эту историю надо как-то разрулить, подумать наконец о себе:
– Ты представь, что тебя ждет в итоге.
Вера тогда сказала ему жестко:
– Замолчи! Не смей!
Он ушел, хлопнув дверью. Не звонил пару недель. Вера, конечно, страдала, но трубку не подняла и не позвонила. «Вот это характер! – думал он. – Ведь сын для нее – вселенная».
Воскресные семейные обеды закончились. Сын с невесткой не приезжали. Какие праздники, когда в доме пахнет болезнью? В прямом смысле, кстати, пахнет. Он, конечно, старался, как мог, чтобы не быть в тягость. Пока Вера была на работе, неловко пытался делать домашние дела. Повар из него был, честно говоря, неважный, но Вера его всегда хвалила. Спал он теперь опять в комнате сына – стеснялся своей немощи. Она, конечно же, не подавала виду, но он знал, что она, очень, кстати, теплолюбивая, спит теперь с открытым окном, укрывшись двумя одеялами. Однажды, видимо от слабости, он задремал в кресле перед телевизором, а открыв глаза, почувствовал ее взгляд и, увидев ее глаза, полные тоски, отчаяния и боли, как-то сразу все решил. Буквально в одно мгновение все встало на свои места. Ушли все раздумья, вопросы и сомнения, стало понятно, что ему нужно делать и как дальше жить. Он написал Вере письмо – подробное и обстоятельное, со всеми доводами и логическими объяснениями. Очень просил его понять и простить. Благодарил за дни, часы и мгновения истинного, неподдельного счастья, за то великое благо, непонятное за что ему, грешному, посланное Богом, – встречу с ней. Он писал ей о том, что не было в его жизни человека ближе ее, честнее и чище, прекраснее и роднее. «Ты была мне ближе, чем самый верный друг», – писал он и опять просил понять и простить. И не искать. Просто умолял не искать, потому что это совершенно бессмысленно – он и сам не знает, куда поедет и где остановится.
«В конце концов, так будет легче для нас обоих. Надо включить рацио». Здесь он, конечно, лукавил – он думал прежде всего о ней. Ведь уходить ему, по сути, было некуда. Он собрал свои вещи и, уже одетый, стоял в прихожей, но вспомнил, что не приготовил Вере ужин. Он разделся, бросил свои котомки и пошел на кухню, сварил макароны и натер на крупной терке сыр, заботливо укрыл его фольгой – чтобы не высох, – и убрал в холодильник. Потом еще вспомнил и полил фиалки, стоящие на подоконнике, – Вера всегда забывала поливать цветы.
На вокзале пришла гениальная, как все простое, мысль, и через четыре часа он шагал по узкой тропинке вдоль поля, ведущей к Матрениному дому. Впрочем, «шагал» – громко сказано: честно говоря, уже еле полз.
– Только бы она была жива, – шептал он. – Только бы была жива.
Матрену он увидел уже на подходе – она стояла на крыльце и трясла полосатые домотканые половики. Тяжело дыша, он прислонился к забору и хрипло, из последних сил, выкрикнул:
– Здравствуй, Матрена!
Она долго и внимательно смотрела на него, а потом кивнула – проходи, чего к забору приклеился!
Они зашли в дом, он сел и глубоко, полной грудью, вдохнул знакомые запахи: горьковатых трав, мокрых полов, молока и печки. Она ни о чем его не спрашивала – молча налила стакан молока, отрезала ломоть хлеба.
– Постелю тебе? – спросила она.
– Только не в доме. Постели мне в сарае, Матрена.
Она молча взяла белье и пошла в сарай, где стоял низкий старый топчан, на котором лежал жесткий соломенный самодельный матрас. Он рухнул на этот топчан как подкошенный и тут же уснул. Проснулся только утром следующего дня. Матрена стояла у плиты и жарила яичницу.
– Садись, – кивнула она. Он почувствовал, что сильно голоден. Почти забытое чувство. «А может, еще обойдется?» – впервые подумал он.
Ели молча – тщательно и обстоятельно. Потом Матрена убрала со стола, налила чаю, села напротив и стала смотреть на него долгим, внимательным и изучающим взглядом.
– Беда с тобой, – наконец сказала она. – Большая, вижу, беда. От себя бежишь?
– Нет, – улыбнулся он. – Просто не хочу причинять неудобства хорошим людям.
Она кивнула.
– Сдашь сараюшку? – спросил он.
– А почему не избу – удивилась она.
– Я же сказал – не хочу причинять неудобства хорошим людям.
– А что врачи? – спросила Матрена.
– Они уже все сделали все, что могли, – ответил он.
– Живи! Только по осени там холодно будет, – отозвалась Матрена.
– Ну, до осени нужно еще дожить! – усмехнулся он и продолжил: – Ты извини, что я без гостинцев.
Матрена махнула рукой. Потом они вместе заткнули сеном в сарае стены, бросили на крышу кусок нового толя – от дождя. Он поставил на табуретку возле кровати настольную лампочку без плафона, принесенную с чердака, примостил на этажерке книги и рядом – фотографию Веры в простой деревянной рамке. Матрена внимательно посмотрела на фотографию и сказала:
– Хорошая женщина. – Потом взглянула на него и добавила: – А ведь она страдать будет. Биться. По тебе тосковать. А ты сбежал.
– Все правильно Матрена, все правильно. Ты уж мне поверь!
Теперь он чувствовал, как слабеет – день ото дня. С каждым днем, словно по капле, по песчинке из него уходили силы. Теперь он все больше спал, понемногу читал. Вечерами приходил к Матрене в избу. Пили чай, много молчали. Она заваривала ему какие-то травы. Он, конечно, пил, чтобы не обижать Матрену, но понимал, что помогают они мало. Да это было бы смешно. Теперь он страницу за страницей перелистывал свою жизнь – и оказалось, что так мало было в ней хорошего. Только Вера и те короткие пару лет, что они были вместе. Много это или мало? Конечно, жестоко, чудовищно мало! Но спасибо и за это. Наверно, и это он не очень-то заслужил.
Разумеется, он не знал, что Вера долго искала его – нашла его клетушку в бараке, откуда его, как оказалось, выписали за неуплату. Отыскала его владимирских знакомых, но те ничем не могли ей помочь – ведь последние годы он ни с кем не общался, ему вполне хватало одной Веры. Наконец кто-то из прежних приятелей вспомнил, что он когда-то снимал угол у какой-то бабки в деревне. Но названия деревни вспомнить никто не смог. Она объездила все близлежащие к городу деревни – но его не нашла.
К сентябрю ему стало совсем худо. Он понимал, что скоро начнутся боли, и этого, естественно, боялся больше всего. Матрена уговаривала его вызвать врача – но он отказывался. Она толкла какие-то горькие и пахучие корешки, и он, морщась и преодолевая отвращение, пил их. Он уже временами начал проваливаться словно в забытье – и тогда ему опять снилась или виделась та широкая и спокойная река, и ровное, без единого облачка, яркое, голубое небо, и старая, ветхая лодка, с потемневшими и треснувшими веслами и ржавыми уключинами. И он на дне лодки, лежа на подстеленном ватнике, смотрит в небо. Лодка медленно плывет по течению, и на душе у него покой и благость. Только он не очень понимает, куда плывет и к какому берегу пристанет. Но это почему-то не очень огорчает его.
Вечером к нему зашла Матрена. Принесла молока и черствый пирог с повидлом. Он выпил молоко, отломил небольшой кусок пирога и с усилием прожевал его, потом совсем без сил откинулся на подушку и закрыл глаза.
– Перебирайся в хату, – строго сказала Матрена. – Хватит дурить!
– Завтра, – пообещал он. – Завтра – обязательно.
Он взял Матренину руку и, как мог, крепко пожал ее. Матрена погладила его по голове.
Он долго спал, а когда проснулся, тяжело и осторожно встал, надел свитер, джинсы, теплую куртку и разношенные, старые Матренины сапоги. Потом вышел из сарая и медленно пошел к реке. Идти было недалеко – метров триста. Но и этот путь показался ему бесконечным. На берегу он нашел старую лодку, привязанную толстой, мокрой веревкой к крепкому корявому суку. Он отвязал веревку, тяжело, с трудом, влез в лодку и веслом оттолкнулся от берега. Лодка медленно поплыла. Он лег на дно и закрыл глаза. Было зябко, и он поплотнее закутался в куртку. Потом он, наверное, заснул, а проснулся от тревожного и громкого вскрика какой-то птицы. Открыв глаза, увидел слабо и медленно светлеющее небо и яркую оранжево-желтую полосу света на горизонте. Птичий гам набирал обороты и становился сильнее и стройнее. Он увидел высокий и крутой обрывистый берег реки и темную полоску отдаленного, густого леса. Потом небо окончательно просветлело, и неяркое, почти белое, солнце прочно заняло свое законное место.
Он старался не думать о том, что лодку когда-нибудь прибьет к какому-то берегу. А может, река впадает в другую реку, более полноводную, а потом еще в одну – у реки ведь не бывает конца, – а та, скорее всего, в море. Обязательно в море. Он улыбнулся. На душе было легко и спокойно. Лодку слегка закружило на месте, но потом ее спокойный и плавный ход снова выровнялся. Он закрыл глаза.
«Последнее путешествие, – подумал он. – И надо же, совсем не страшно!»
Река казалась длинной и бесконечной – гораздо более долгой, чем жизнь.