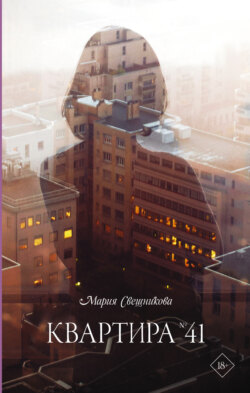Читать книгу Квартира № 41 - Мария Свешникова - Страница 11
Вера
Исповедь клоуна
ОглавлениеКогда уходят герои, на арену выходят клоуны.
Генрих Гейне
…жизнь не стоит на месте.
…места, люди, дома, квартиры, номера, даты.
…все мы жертвы времени и перемен.
Я никогда не думал, что доживу до тридцати трех.
Думал, погибну молодым и пьяным, заступаясь за незнакомого и, возможно, виноватого человека.
Или нелепо поскользнусь на кафельной плитке в ванной и получу открытую черепно-мозговую.
А тут возраст Христа.
Единственное достижение – сын. Забрался в мой день рождения с ногами в кресло и шепотом, словно боясь, что кот или орел, изображенный на дубовом буфете, его засмеют и потом будут в темноте подтрунивать, полюбопытствовал, в чем измеряется время. Казалось бы, логичный вопрос взрослеющего человека. В минутах, часах и годах? Во встреченных незнакомках и полученных впечатлениях? В том, как быстро ты любил и как долго потом изживал эту любовь из себя?
У меня же перед глазами замелькали вывески на покосившихся и хмурых домах в переулках. Сразу вспомнились «Булочная», подходя к которой старожилы загадочно улыбаются, в мыслях произнося на старомосковский манер «булошная»; публичный дом со значком «П» на красной двери во дворах Пятницкой улицы, в нескольких кварталах от Марфо-Мариинской обители; золотые худощавые буквы на голубом четырехэтажном здании возле Крымского моста «Дипломатическая академия»… Сколько себя помню, столько существуют эти вывески и здания, как будто ничего не меняется.
Стабильность. Верность. Шелуха.
Да, это было мое время.
Особенно незыблемо увековечились у меня в памяти две вещи: золотые цифры «41» на двери квартиры, куда переехал жить мой сын, и менее броская белая надпись на стеклянной двери в безымянном переулке – «Французское кафе»; таких сотни и тысячи по миру, они не похожи друг на друга и никак не связаны между собой.
Вы когда-нибудь подслушивали разговоры за соседними столиками, тесно прижимающимися друг к другу в неловких самобытных объятиях? Изучали людей, заходящих внутрь и растворяющихся в полумраке сигаретного дыма?
Зря.
Ей чуть тридцать. Она слегка затронула этот возраст, неспешно прикоснувшись к нему мыском ноги, случайно задев нечто спокойное и статное. Сколько ни вглядываюсь в ее лицо, не могу понять, счастлива ли она.
Смотрит. Улыбается. Молчит. Думает или просто наблюдает. Но не проявляет привычных доказательств счастья. Однако нет в ней и той печати грусти и высокомерия, которыми возраст так щедро наделил других людей.
Мы видимся раз в неделю. Ведем немногословную беседу или я просто киваю, проходя мимо нее, а она чуть поднимает уголки губ, показывая, что заметила. Часто она бывает не одна. Иногда я беру на карандаш второстепенных героев за ее столиком. Мне вообще доставляет тщеславное удовольствие записывать карикатурные фельетоны о тех, кто делил со мной воздух обычного французского кафе, наслаждаясь царящей вокруг клоунадой нравов.
Наверное, вас весьма заинтриговало, кто я. Поверьте, меня волнует тот же самый вопрос. Но у меня на поиски ответа ушли годы, а по вашей ухмылке я вижу, что вы надеетесь получить его на первой странице… Что ж, аккуратное вождение за нос – редкое удовольствие для никчемного публициста.
* * *
Шаг… Второй… На третий, самый тяжеловесный, она кладет руку мне на плечо. Я не слышал цоканья каблуков и шелеста юбки, я лишь почувствовал, как движется воздух – как ветер разговора дует в мою сторону. И в секунду она, Вера, оказывается сидящей напротив меня. За моим, уже приватизированным за много лет сидения и поседения столиком.
На ней темно-серое платье в пол, с длинными рукавами, вязаное и мягкое. Затягиваясь, я закрываю глаза, пытаясь сквозь сигаретный смрад помещения ощутить ее запах. Представляю ее с мокрыми волосами, в белой застиранной майке с размазанным Миком Джаггером.
– Можно? – Вера хватается за мою чашку американо, не дождавшись позволения. Все равно разрешу, знает ведь.
Делает глоток, морщится, недовольная всем – и сахаром внутри, и холодом выпитого. Она из тех людей, кто считает, что сахар портит все – фигуру, кофе, зубы, настроение.
– Следишь за мной? – Перед тем как сделать следующий глоток, она несколько раз сжимает губы в скромной и умелой попытке их облизать.
– По воле случая. – Я пожимаю плечами. Что еще остается? – Ну, уличила, уличила!
– Нравится? Расскажи, чего навыслеживал. – Вера хватается хищными цепкими пальцами за мою ложку и начинает тянуть тарелку сырного супа в свою сторону.
Белесая капля супа падает ей на грудь. Еще немного, и она стечет в ложбинку.
– Так есть хочется, не могу. А этот ворон, – Вера взглядом показывает на официанта по имени Марк (по крайней мере, так написано на бейджике), – никак не несет!
– Ешь-ешь! – Я пододвигаю к ней тарелку супа.
– Так чего выследил? Поделишься?
Выследил? Делиться? Это она вообще о чем? Я наблюдаю за каплей. Мне не до слов.
Вера пальцами проводит по моей кисти, чтобы я вернулся обратно в разговор. Я смеюсь – все это кажется мне таким наивным и глупым. Уже много лет. Скоро будет семь – как мы просто наблюдаем друг за другом.
– Прости, я задумался.
– На тему? – Кажется, она замечает свою оплошность и вот уже осматривает стол в поисках салфетки.
– На тему капель спермы, стекающих по подбородку. – Мне остается лишь честность.
– Не жизненно! Одной каплей никогда и ничего не ограничивается.
– В старости мы будем так же умно вести себя? – интересуюсь я, как будто мне снова шестнадцать и я, накуренный, попал на «Рассекая волны» Ларса фон Триера и, не понимая трагизма происходящего, смеюсь.
– А вдруг не будет старости? – Вера говорит это с таким страхом в голосе, что меня неприятно передергивает.
– А что будет, если не старость? – Меня интересуют ее вариации апокалипсиса.
– Третья мировая война. Или эпидемия. Или ее просто не будет. По воле случая.
– Хочешь, чтобы я умер молодым?
– Ты уже с этим опоздал. Молодость в прямом ее понимании мы оставили лет десять тому назад.
Она смотрит на свою грудь и все же замечает траекторию движения капли. Вера взглядом обходит весь столик, тянется к салфетнице и начинает исправлять приятное для меня недоразумение. Весь парадокс в том, что, сколько бы раз я ни проносил вилку мимо рта и ни орошал джинсы томатным соусом, салфеток на столе никогда не было.
…Нет, ну вот бывает же так? Когда надо – никогда не докричишься до официанта, чтобы тот подошел, еще упрашивать приходится. Подай, принеси. Он хоть упаковку чая или кофе купил на чаевые, что я ему оставляю? Нет, скотина, все пробухал! Я же знаю, как он на пару с барменом сливают ром и виски и после закрытия нажираются, а на деньги, вырученные с посетителей, снимают шаболд в соседнем задрипанном баре. Я же не сомневаюсь в их умении в силу возраста все опошлять и сводить к примитивным понятиям.
– Эй, уважаемый! Кофе принеси! – кричу, не просто повышаю голос, а именно кричу я на официанта.
– Ты что, с ума сошел? Я на минуту. У меня встреча по работе, а ты мне своей метафизикой настроение сбиваешь. Хорош уже, ладно?
Вера уходит за другой столик. Смотрит. Молчит.
– Марк, – подзываю я официанта грозным щелчком пальцев, – вторую чашку кофе на тот стол, счет за даму в сером платье – мне в руки. И купи уже пачку чая на те деньги, что я тебе оставляю.
– А кофе можно?
– А кофе нельзя!
Вера улыбается счету, который услужливо принесли не ей. 1:0. Вот только в чью пользу, непонятно.
Не одна… Сидит. Беседует. Поглядывает на собеседницу с умилительным презрением. Облокачивается на стеклянный стол, постоянно всматривается в часы, как будто циферблат умеет творить чудеса. Хотя вдруг умеет? Кто его, циферблат, разберет.
Пухлая женщина лет шестидесяти с откровенной проседью курит одну за одной тонкие сигареты. Накидывает вязаную кружевную шаль. Пошло и шаблонно. Она как антипод Веры – некто, кем Вера никогда, к ее счастью, не сможет стать. Она и в шестьдесят будет худой и вряд ли седой.
Я прислушиваюсь к их разговору.
– Вера! Ты мне нравишься, но, господи, сколько же в тебе этой жеманности! Ты будь попроще. Все эти тексты… – Женщина нарочито шелестит распечатками. – Люди их не понимают… Тиражи упали в шесть раз за прошедшие восемь лет.
– Вы хотите сказать, что я исписалась? Что мне нечего сказать этому миру? – Вера мигом переходит на холодный безразличный тон.
– Сказать есть что, но вот форма… Не соответствует она содержанию… Я прекрасно понимала, когда ты решила писать детские книжки, думала, что у тебя получится. Но твой конек – эротика. Ты по своей природе самка, а не добродушная фея, рассказывающая детям сказки. Одумайся, пока все не потеряла.
– А мне есть что терять?
– Читателей, деньги, время, надежду, наслаждение.
Вере всегда тяжело терпеть унижения с женского фронта. Мужские – да, женские – ни при каких условиях. Ощущение женской власти всегда возвращает Веру в детство.
Детство… Из всех папок эта была самая тяжелая в воспоминаниях – и по весу, и по целесообразности.