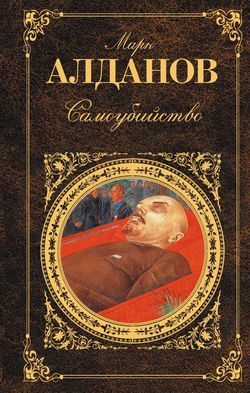Читать книгу Самоубийство - Марк Алданов - Страница 10
Часть вторая
IV
ОглавлениеСпор был о том, примут ли работу. Автор говорил, что никогда не примут. Его друг отвечал, что могут принять. Они часто спорили. Впрочем, Эйнштейн видел, что Бессо, инженер по образованию, понимает в его теории не очень много.
– По-моему, могут напечатать, – говорил Бессо, впрочем, старавшийся не слишком обнадеживать своего друга: думал, что если работу не примут, то это будет для него очень тяжелым ударом. – Ты когда ее доставил?
– Тридцатого июня. Если бы приняли, то уже появилась бы, – отвечал со вздохом Эйнштейн.
– Разве непринятые рукописи не возвращаются? Ведь это не газета!
– Вероятно, возвращаются.
– Но почему же ты думаешь, что не примут?
– Потому, что я никто; не ученый, не профессор, не приват-доцент, один из двенадцати служащих Патентного бюро. Кроме того, ты ведь знаешь, что это за работа. Ее понять не так легко.
– Не так легко, так пусть и потрудятся. И там в редакции сидят не фельетонисты, а Друде, Рентген, Кольрауш, Планк!
Эйнштейн только вздыхал.
– Они скажут, что это глупая шутка. Как французы говорят, une fumisterie, – с трудом выговорил он французское слово. – Я и сам иногда так думаю: может быть, теория относительности это именно fumisterie?
– Ну, я не Рентген, но я никак этого не думаю! – бодро отвечал Бессо. – Увидишь, напечатают хотя бы как парадокс.
Жили Эйнштейны в Швейцарии очень бедно, берегли каждый франк, принимали мало, ни в какое швейцарское общество не вошли. Только Бессо бывал у них чуть не каждый вечер. Он недолюбливал Милеву. У нее и вид был всегда суровый, говорить с ней ему было трудно. Она была сербка. Училась математике, но муж с ней о науке никогда не разговаривал, да и вообще разговаривали они не часто. Быть может, Эйнштейн и сам не знал, почему на ней женился. А она уж, наверное, плохо понимала, зачем вышла замуж за этого скучного немецкого еврея, который вечно рассказывал несмешные анекдоты, зарабатывал в Патентном бюро 3500 франков в год, одевался Бог знает как и брился без щетки обыкновенным мылом, растирая его на щеках и подбородке рукой. Милева обычно к ним и не выходила, только подавала им бутылку пива и оставшуюся от обеда баранину, – он почти всегда ел баранину да еще колбасу. По воскресеньям Бессо приходил днем. Они сидели у окна и любовались, поверх веревки с сушившимся бельем, видом на Юнгфрау. Иногда Эйнштейн пиликал на скрипке. Иногда говорили о политических делах. Он высказывал очень левые и совершенно неинтересные мысли, – Бессо грустно думал, что Альберт ничего в политике не понимает. Иногда говорили и о литературе. Альберт восхищался Толстым:
– Ах, какой замечательный, полезный писатель! И какой хороший человек! Жаль, что не любит науку и не получил математического образования. Впрочем, я тоже мало понимаю математику.
– Это неожиданная новость. Что же ты тогда понимаешь?
– Может быть, и ничего, – соглашался Эйнштейн. – Какой я математик? Я и таблицу умножения помню плохо. Ни одной гимназической задачи я никогда не мог решить. В школе я считался тупым и отсталым мальчиком.
Бессо умилялся его скромности. Ему казалось, что Альберт гений, хотя и смешной чудак. Другие знакомые не считали Эйнштейна гением. Знали, что экзамена в Политехническую школу он не выдержал: удивил экзаменаторов своими математическими познаньями, но ничего не знал в ботанике, в зоологии, почти не владел иностранными языками. Ему предложено было сначала пройти курс в швейцарской коммунальной школе, где преподавание было предназначено для детей. Ничем особенно не выделялся он позднее и в Политехникуме, и после окончания курса. Более способным к физике иностранцем считался Фридрих Адлер (будущий убийца графа Штюрка). Позднее оба были кандидатами на университетскую кафедру по физике, и ее предложили Адлеру, а не Эйнштейну. Несмотря на доброту и благодушие Альберта, некоторые товарищи его не любили, не выносили его шуточек и называли его циником, – как будто менее всего подходило к нему это слово. Искренне его любил, по-видимому, только Бессо. Он, собственно, первый и оценил теорию относительности. Но, при своем латинском уме, все же не очень увлекался «тевтонскими глубинами». По забавному стечению обстоятельств Эйнштейн очень долго, уже будучи мировой знаменитостью, считался воплощением немецкого духа в науке. Его поклонник, тоже знаменитый физик Вин, по политическим взглядам немецкий националист, говорил лорду Рутерфорду, что по-настоящему понять Эйнштейна может только германский ученый. Рутерфорд поднимал брови не столько обиженно, сколько изумленно: «Is that so?» Никак не думал, что в физике есть вещи, которых он понять не может. Очень скоро после этого, при Гитлере и даже раньше, Эйнштейн был объявлен воплощением антинемецкого духа.
И, наконец, пришла эта тетрадь в светло-коричневой обложке, десятая тетрадь «Annalen der Physik», за 1905 год, перешедшая в историю науки, вероятно, навсегда или на очень долгое время. Там на третьем месте в оглавлении значилось: «Zur Aerodynamik bewegter Körper», von A. Einstein[36]. Он очень обрадовался и даже позвал Милеву. Та тоже обрадовалась: может быть, из ее болвана и выйдет какой-нибудь толк? Вечером, как всегда, пришел Бессо, узнал новость и обнял своего друга:
– Это я тебе предсказывал? Теперь о твоей работе говорит весь мир!
Работа была им тотчас прочтена вслух, и он делал вид, будто все понял. Растрогался еще и оттого, что в конце Альберт выразил «благодарность» своему другу М. Бессо. Прочитав слова: «Wir wollen diese Vermutung (deren Inhalt im folgenden Prinzip der Relativität genannt werden wird) zur Voraussetzung erheben»[37], он многозначительно поднял палец. В этот день были выпиты две бутылки пива, а после них Альберт что-то играл на скрипке, – от волнения еще хуже, чем обычно.
На следующий день он принес в Патентное бюро тетрадь в светло-коричневой обложке. Товарищи корректно его поздравили, хотя и не без некоторого недоумения: «Лучше бы этот юный, одетый как нищий иностранец больше занимался патентами». Он зарабатывал свой хлеб добросовестно, но в самом деле интересовался патентами очень мало. Больше в бюро о работе не говорили. Вопреки предсказанию Бессо, не говорил о ней и «весь мир».
Однако через некоторое время пришло письмо из редакции: секретарь – тоже с некоторым скрытым недоумением – сообщал ему, что его работой чрезвычайно заинтересовались три знаменитости: Анри Пуанкаре, Ван’т Гофф и Гендрик Лорентц. Спрашивали: кто такой этот А. Эйнштейн? где преподает?
Он был очень доволен. Тщеславия у него никогда не было ни малейшего; в этом отношении он был редчайшим исключением среди людей. Но честолюбие было, хотя и честолюбивые мысли тревожили его не часто: просто для них у него никогда не было времени; он всегда думал; когда думал о физике и математике, очень мало людей в мире могло с ним сравниться по глубине и своеобразию; когда писал о другом, особенно о политике, было совестно слушать; так это было банально. Был он редким примером ограниченной гениальности.
Свою работу он прочел раза два еще в печатном виде, хотя знал ее почти наизусть, и отчасти в связи с ней, отчасти как будто и без связи, ему приходили мысли странные, уж совсем необыкновенные. Иногда в разговорах чуть дразнил ими своего друга. Тот иногда сердился, – был очень нервным человеком. Его звали Микеланджело, и это имя вечно давало повод для шуток, тоже его раздражавших. Порою Эйнштейн изумлял его разными своими, еще смутными идеями, которые могли изумить не одного Бессо.
– Что такое в геометрии «пи»? – спрашивал Эйнштейн как будто не своего друга, а самого себя. – Знает каждый школьник, а это совсем не так просто.
– Не понимаю, зачем считать сложными самые простые вещи, – отвечал Бессо, настораживаясь при новых «тевтонских глубинах». – «Пи» это отношение окружности к диаметру: три запятая, один, четыре, один, пять, девять… Я в гимназии заучил это число до пятнадцатого знака.
– Напрасно терял время. «Пи» не есть постоянная величина.
– «Пи» не есть постоянная величина? Чего только вы, немцы, не измышляете!
– Это очень просто, но объяснять долго, и я не умею. Или возьми понятие времени. Мы им и в науке и в жизни пользуемся постоянно. Но ведь время может сжиматься и расширяться.
– Может сжиматься и расширяться? Время?
– Ну, да. Вообще надо переменить все, чему учат в гимназиях и университетах. Механика Ньютона неверна, и закон сохранения материи Лавуазье тоже неверен. Они оба ошибались.
– Ньютон и Лавуазье ошибались? – спрашивал Бессо уже с раздраженьем. Как он ни любил своего друга, все же находил несколько странным, что этот молодой человек опровергает Ньютона и Лавуазье. – Они ошибались, а ты не ошибаешься?
– Они были великие, гениальные люди. Разумеется, я ни в какое сравненье с ними не могу идти, но это так. Они упростили мир и многого не приняли во внимание. Их понятие о массе было слишком простое. Скоро можно будет, кстати, превращать массу в энергию.
– Да мы это, слава Богу, давно знали и без тебя. Если сжечь вот этот стол, то тепло можно превратить в работу, например в электрический ток.
– Я имею в виду совершенно другое. Я имею в виду атом, – говорил Эйнштейн со вздохом.
– Вильгельм Оствальд вообще отрицает существование атомов.
– Он чудак. Атом такая же реальность, как этот стол.
– И много энергии ты надеешься из него извлечь?
– Очень много. Страшно много. Так много, что можно будет переделать жизнь на земле. Можно будет облагодетельствовать человечество, мы все станем богачами.
– Это было бы, конечно, очень кстати. У тебя верно нет сейчас и ста франков?
– Кажется, Милева говорила, что осталось двадцать пять. Но это так: через сорок или пятьдесят лет не будет предела богатству человечества. Все будут свободно размышлять и радоваться друг другу.
– Это, конечно, возможно. Только вот что, дорогой мой, ты совершенно уверен, что ты в своем уме? Извини меня, я дружески спрашиваю. Неужели Пуанкаре, король ученых, одобряет всю твою… все твои мысли.
– Я ему в подметки не гожусь, но я не думаю, чтобы он мог одобрять все. Да я еще почти ничего и не сказал.
– Пожалуйста, смотри за собой: как бы ты с сжимающимся временем не попал в…
36
«К проблеме аэродинамики движущихся тел». А. Эйнштейн (нем.).
37
«Мы хотим это предположение (содержание которого станет в последующем называться принципом относительности) сделать исходной посылкой» (нем.).