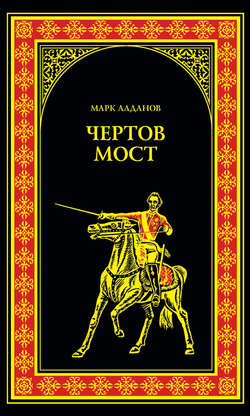Читать книгу Чертов мост (сборник) - Марк Алданов - Страница 20
ДЕВЯТОЕ ТЕРМИДОРА
Часть первая
18
ОглавлениеВ приморском городке, куда приставали приходящие из Англии корабли, британский агент сообщил Штаалю подробности об успехах союзного оружия. Сражение при Неервиндене закончилось 19 марта полной победой принца Кобургского. Двумя днями позже был занят Лувен, и с минуты на минуту ожидалось очищение французами Брюсселя. Местонахождение штаба имперского главнокомандующего в день приезда Штааля не было точно известно агенту. Он советовал переждать день-другой, а затем направиться в Брюссель, в котором, несомненно, должна была скоро обосноваться ставка принца.
Штааль на это не согласился. Молодой человек вошел во вкус войны после тревожного морского перехода. Опасаясь французских катеров, они шли ночью с потушенными огнями и никто не раздевался на шхуне. Несмотря на холод, Штааль провел ночь на верхней палубе. Завернувшись в доху, он то дремал на сундуке; то, проснувшись от холодного ветра, забиравшегося в рукава, под воротник и за сапоги, быстро ходил взад и вперед по квартердеку, изучая морское дело и стараясь запомнить терминологию: реи, марсы, шпангоуты, гафеля; то, прислонившись к борту, вглядывался в темную ночь. Раз ему даже показалось, будто к ним с правой стороны – или, как показывал его карманный компас, с юго-запада – подходил большой неприятельский фрегат. Штаалю представился абордаж, при котором он наповал застреливал французского капитана. Он хотел обратить на врага внимание караульного, висевшего в бочке на фокмачте, но караульный висел высоко, надо было бы кричать во все горло; Штааль решил немного переждать, и фрегат, по-видимому, прошел мимо. Молодой человек скоро снова заснул на сундуке, хлебнув предварительно, чтобы согреться, рому из висевшей у него на поясе фляги. Его разбудили голоса и беготня на палубе: было светло, и они подходили к берегу. К судну уже подъезжал на лодке лоцман; матросы на мачтах убирали косые паруса.
Наняв за порядочные деньги коляску, Штааль велел закладывать, наскоро стоя позавтракал перед буфетом постоялого двора (можно было позавтракать и сидя, ибо лошадей закладывали долго) и выехал по направлению к Брюсселю. В пути, по мере удаления от морского берега, его все сильнее охватывала непривычная атмосфера войны. Была ростепель, и коляска, несмотря на «начаи», которые Штааль то и дело сулил кучеру, подвигалась довольно медленно. На дороге стояли огромные лужи, и лошади вступали в них почти по колена, захлестывая грязью фартук кренящейся коляски, шинель, лицо и фуражку Штааля. Порою коляска останавливалась совершенно: вперед шли длинные обозы под конвоем солдат в незнакомых мундирах, и местами нужно было ждать расширения дороги, чтобы их объехать. Навстречу часто попадались скачущие галопом верховые, забрызганные грязью так, что нельзя было разглядеть их форму, и медленно движущиеся закрытые фуры с ранеными. Раз встретилась богато запряженная коляска, при виде которой кучер испуганно снял картуз и перекрестился. На сидении коляски, упираясь в переднюю скамью, лежал наискось перевитый венками узкий гроб. Его поддерживали с обеих сторон руками и коленями, оживленно разговаривая через гроб между собой, два молодых офицера. Очевидно, увозили в тыл тело какого-то важного лица. Фронт продвигался вперед медленнее, чем ехал Штааль, и приближение к нему сказывалось все явственнее. Но канонады, которой ждал молодой человек, все еще не было слышно. Носились неопределенные слухи о каком-то перемирии с французами.
Верстах в двадцати от Брюсселя по Антверпенской дороге находилась большая застава. Офицер-австриец, остервеневший от схваченного насморка, свирепым голосом потребовал бумаги Штааля. Увидев пропуск в ставку, он, впрочем, стал любезнее и сообщил, что французская армия проходит, не останавливаясь, через город. Завтра, 25 марта, в него войдут имперские войска. Пока дальше ехать было невозможно. Штааль провел ночь в крестьянской избе.
На следующий день, часов в шесть утра, через заставу двинулись вперед кавалерийские части, и по большой дороге, идущей от Малина, началось медленное движение экипажей, войск и обозов. Коляска Штааля влилась в общий поток и часам к десяти остановилась у ворот гостиницы, на одной из старых узких улиц, впадающих в Grand’ Place. Накануне в этой гостинице квартировали французские офицеры, и кое-где по стенам хозяин еще не прибрал трехцветных флажков. Штааль легко получил комнату, так как приехал в числе первых, не имел никакой реквизиционной квитанции и благоразумно обещал платить за все золотой монетой. Но когда он, смыв с себя грязь и переодевшись, спустился снова вниз, гостиница была совершенно переполнена: опытный хозяин с убитым видом отвечал въезжавшим во двор новым гостям: «Desole! C’est bonde»[120], а тем, кто предъявлял реквизиционные квитанции, указывал адреса своих конкурентов.
Штааль вошел в столовую и увидел пышное зрелище. Все столы большой комнаты были заняты нарядными имперскими офицерами в красивых, богатых, хоть и несколько измятых мундирах. Слышалась почти исключительно французская речь в немецком, венгерском, польском, кроатском произношении. Чувствовалось праздничное оживленное настроение штабов только что одержавшей победу армии. Летавший метрдотель отыскал для Штааля место у небольшого столика, за который как раз садился элегантный офицер, безусый мальчик с румяным веселым лицом. Штааль слегка поклонился. Офицер немедленно вновь поднялся с места и сообщил свою фамилию: лейтенант драгунов Латура, Дитерихс фон Альтенштейн. Штааль тоже назвал себя.
Им подали меню, на котором potage Conde и poularde Montmorency[121] заменили вчерашние soupe a la sans-culotte и poule a la Brutus[122]. Чтобы оказать почтение гостям, хозяин на сладкое заказал даже повару Zwetschkenknodel[123], что за всеми столами вызвало действительно шумный восторг. При обсуждении меню Штааль и его сосед разговорились. Лейтенант оказался чрезвычайно милым и общительным молодым человеком, проникнутым той особой любовью к иностранцам, которая во всем мире свойственна, кажется, одним лишь венцам. Он назвал Штаалю имена двух завтракавших в зале генералов, указал ему мундиры и знаки отличия имперских войск; сообщил также, что ближайшим образом участвовал в сражении при Неервиндене, которое, по его словам, являлось одной из величайших побед в истории мира. Самым замечательным эпизодом сражения была атака, произведенная полками имперской кавалерии, под командой генерала Бороса, на французские позиции между Обервинденом и Рокуром. Гусары Бланкенштейна, кирасиры Цешвитца и особенно они, драгуны Латура, покрыли себя в этот день бессмертной славой. Лейтенант Дитерихс фон Альтенштейн лично участвовал в атаке, причем у него в двух местах была прострелена пулями шляпа, а от удара копьем в грудь его чудом спас большой серебряный портсигар, подаренный ему белокурым Schatz’ем[124] в Вене; лейтенант хотел даже показать Штаалю погнувшийся портсигар, но тот как нарочно остался наверху в номере. Французы также недурно дрались, – особенно белые (линейные войска), а синие (волонтеры) куда похуже. В центре, говорят, сам Дюмурье водил пехоту в атаку. Вообще французы хороший народ, и ужасно жаль, что они затеяли эту глупую революцию. Впрочем, для него, Дитерихса фон Альтенштейна, не существует национальных предрассудков. Он любит и уважает все нации, – за исключением, разумеется, чехов, которых терпеть не может, потому что они действительно ужасно противны, все эти господа Поспешиль и Кшиванек (лейтенант совершенно уничтожающе, каким-то тоненьким фальцетом, нараспев произнес, растягивая по слогам, эти чешские имена). Русских Дитерихс также любил и признавал военное дарование Суворова, который в Турции оказал принцу Кобургскому очень серьезные услуги. Если б Суворов обладал теоретическими познаниями, из него мог бы выйти русский Даун или де Ласси. Принц Кобургский тоже прекрасный полководец, но Штаалю по знакомству можно сообщить, что в действительности всем в их армии руководит генерал-квартирмейстер полковник Макк. Называя это имя, Дитерихс умиленно возвел глаза к потолку: полковник Макк, фактический главнокомандующий имперской армией, автор плана бельгийской кампании, руководитель сражений при Неервиндене и Лувене, был, по словам лейтенанта и по общему мнению авторитетов того времени, самым блестящим военным гением века[125].
– Он душа нашей армии. Без него в ставке не делается ничего, – сказал Дитерихс, незаметно накладывая себе на тарелку третью порцию Zwetschkenknodel.
– Тогда, значит, и я к нему попаду, – заметил радостно Штааль. – У меня поручение в ваш главный штаб.
– Непременно попадете к Макку, – подтвердил лейтенант. – Впрочем, теперь скоро конец войне.
– Почему? – изумился Штааль. Лейтенант посмотрел на него и многозначительно поднял брови.
– Дюмурье, – медленно произнес он, одновременно наслаждаясь Zwetschkenknodel’ями и производимым эффектом.
В ответ на недоумевающее выражение лица Штааля Дитерихс с легкой улыбкой, относившейся к неосведомленности собеседника, сообщил, что генерал Дюмурье вступил в переговоры со ставкой принца Кобургского. Он предполагает двинуться на Париж с тем, чтобы восстановить монархию. Обо всем существенном уже договорились. Сегодня в главной квартире французов в Ате будет заключено окончательное соглашение.
– Вы не знали? Теперь это уже не секрет, и я потому вам сообщаю, – сказал, слегка улыбаясь, драгун (он сам услышал об измене Дюмурье часа два тому назад).
Штааль был совершенно озадачен. Конец войны!.. Знаменитый революционный генерал хочет восстановить монархию!.. Молодой человек еще не мог сообразить, как все это должно отразиться на его миссии; но что-то в сообщении Дитерихса было ему неприятно.
– Позвольте, это странно, – сказал он недовольным голосом. – Я три дня тому назад виделся с Питтом (вот тебе за «вы не знали?»), и он мне… и он еще ничего не знал.
Драгун опять улыбнулся.
– Однако если это так, как вы говорите, то мы, вероятно, через две недели будем в Париже?
– Даже наверное, – категорически подтвердил драгун. – Так думают в нашем штабе, а, вы понимаете, Макк недурно разбирается в делах. Приглашаю вас в Пале-Рояль на бутылку шампанского в тот день, когда Дюмурье – он будет, говорят, коннетаблем маленького короля – повесит Марата и Робеспьера. Надеюсь, что господа якобинцы еще не выпили всего вина прекрасной Франции… Ну, вы меня извините, я должен вас покинуть, я ведь приехал по делам нашего полка. Очень рад был познакомиться и надеюсь, наше знакомство продлится, – вы не уезжаете пока из этой гостиницы? Хорошо было бы вечером погулять по городу, а? Вообразите, я уже больше двух недель живу, как совершеннейший монах. Вы не верите? Что делать, поход… Брюссель, конечно, не Вена и не Париж, но, говорят, здесь есть хорошенькие женщины… Очень был рад…
Штааль не без сожаления расстался с говорливым венцем. Расплатившись за обед, он вышел на улицу. На Grande Place, поразившей его глаз непривычной позолотой домов, стояла большая толпа. Посредине площади дымился, плохо разгораясь на сыром воздухе, большой костер. Это народ, которому смертельно надоели французы, комиссары и революция, с криками «Vive l’Empereur!»[126] жег дерево свободы. Старый сторож площади руководил церемонией, давал указания и подкладывал сухого хвороста из хранившегося у него в сторожке запаса: старик имел привычку к таким делам, ибо на Grande Place постоянно что-либо жгли – в последнее время больше скипетры и изображения тиранов, а во времена молодости сторожа, случалось, и живых людей, что было гораздо интереснее (прежде всего было интереснее).
Штааль разыскал главную квартиру и справился о нужных ему лицах. Но его попросили прийти на следующий день, так как штабы еще не разместились. Макк не был в городе. Затем Штааль побродил по Брюсселю, посмотрел на думу, на Manneken Pis, на Porte de Hal, на другие достопримечательности и почувствовал, что ему крайне скучно и тоскливо в этой чужой толпе. Он зашел в кофейню, спросил рюмку ликера и велел подать газеты (давно ничего не читал). Лакей-фламандец с ошалевшим лицом дико на него посмотрел. Этого лакея накануне звали «citoyen», говорили ему «ты» – по-граждански, – «начаев» не давали, а за слово «monsieur» не так давно пригрозили предать его суду революционного трибунала. Теперь он был «garcon» или «Kellner», говорили ему имперские офицеры в третьем лице «Ег» (чего он уже совсем не понимал, хоть по-немецки знал лучше, чем по-французски), публика оставляла на чай, но за слова «Merci, citoyen»[127], сказанные им по приобретенной в последнее время привычке, какой-то кавалерийский офицер утром вытянул его хлыстом. Ошалевший фламандец теперь старался вовсе не говорить с публикой. Он принес Штаалю рюмку, бутылку и целую кучу газет. Здесь были «La chronique de Paris», «Le Moniteur», «La Gazette de France» и «La Batave»[128]. Штааль никогда не видел революционной прессы и жадно принялся было за нее, но к нему поспешно подошел хозяин и вполголоса, с умоляющим видом, попросил отдать газеты. Публика действительно начинала как будто коситься на молодого человека. Хозяин, отобрав газеты, немедленно сжег их в камине, громко повторяя: «Oh, les sales feuilles!..»[129] Штааль почувствовал себя неловко и вышел из кофейни.
По дороге домой он обдумывал свое положение. Окончание войны никак не освобождало его от принятого поручения. Конечно, Питт поступил с ним некорректно, не сообщив ему об измене Дюмурье: если британский премьер хотел, чтобы русский дипломат, рискуя головой, снабжал его важными сведениями, то и сам он должен был с ним делиться, – ну, не всем, так хоть самым главным, – а не ставить его, как сегодня, в нелепое положение. Но некорректные действия Питта не могли помешать ему, Штаалю, выполнить свой долг до конца. Долг же его заключался в том, чтобы попасть в Париж раньше имперских войск. Да, дело шло именно об этом: только в Париже он мог оказать союзникам настоящие услуги. Настал, очевидно, случай использовать паспорт американского гражданина Траси. Штааля неудержимо манила революционная столица. Опасность предприятия только усиливала соблазн. «A vaincre sans peril, on triomphe sans gloire»[130], – повторял Штааль вслух, не совсем, впрочем, ясно себе представляя смысл понятия «vaincre» в применении к его делу. Не пройдет месяца, союзники войдут в Париж. Оставалось только выяснить, как перейти через линию фронта. В этом ему должны были завтра помочь в имперском штабе.
Он очутился на Parvis Sainte-Gudule[131]. Кучки австрийских офицеров осматривали надругательства, произведенные недавно революционерами в старой церкви. Какая-то старушка, набожно крестясь, рассказывала, как нечестивые французы, поднявшие руку на драгоценности алтаря, были тут же на месте испепелены гневным взором Богородицы: так и попадали мертвые, рядом, один вслед за другим. Под лестницей, ведущей на перрон собора, били какого-то застрявшего в городе француза-комиссара, который, впрочем, клятвенно уверял, будто он не француз и не комиссар.
120
«Очень сожалею! Переполнено» (франц.).
121
Суп Конде и пулярка Монморанси (франц.).
122
Бульон а lа санкюлот и курица а lа Брут (франц.).
123
Сливовые клецки (нем.).
124
Сокровище (нем.).
125
Тот самый, который в 1805 году сдался в Ульме Наполеону со всей своей армией. – Автор.
126
«Да здравствует император!» (франц.)
127
«Гражданин»… «господин»… «человек»… «кельнер»… «он»… «спасибо, гражданин» (франц., нем.).
128
Названия газет: «Парижская хроника», «Наставник», «Французская газета» и «Батавия» (латинское название Голландии).
129
«Ox, мерзкие листки!..» (франц.)
130
Победа без опасности – триумф без славы (франц.).
131
Паперть церкви святой Гудулы (франц.).