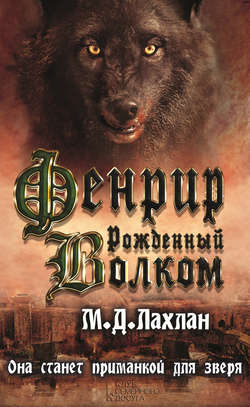Читать книгу Фенрир. Рожденный волком - Марк Лахлан - Страница 3
Часть первая. Век мечей
Глава вторая. Исповедник
ОглавлениеЖеан чувствовал запах начинающейся чумы, нотку гниения, заглушавшую смрад грязных улиц, и кислую вонь в дыхании умирающих с голоду людей.
Его вынесли из сгоревшего аббатства Сен-Жермен-де-Пре ночью, его одежда насквозь пропиталась запахом пожара. Он ощутил приближение к прохладной воде, затем монахи остановились, чтобы погрузить носилки с ним в лодку, после чего он почувствовал сильную качку, которая не прекращалась всю дорогу. Он улавливал исходившее от людей напряжение в их молчании, слышал осторожные движения весел, редкие и приглушенные, затем кто-то произнес свистящим шепотом пароль.
– Кто с вами?
– Исповедник Жеан. Слепой Жеан.
Ворота отворились, и началось самое опасное – высадка из маленькой лодки на узкую лестницу. Сначала братья пытались перенести его вместе с носилками, но тут же стало ясно, что из этого ничего не получится. Он сам разрешил проблему.
– Несите меня так, – сказал он. – Ну же, поторопитесь. Я не очень тяжелый.
– Ты сможешь забраться мне на спину, отец?
– Нет. Я калека, а не мартышка, разве ты не видишь сам?
– Но как же тогда я тебя понесу?
– На руках, как ребенка.
Его провожатые были в монастыре новичками – воины, посланные братией на южный берег, чтобы защищать аббатство Сен-Жермен от норманнов. Но к исповеднику Жеану они не успели привыкнуть, и он явственно ощущал их неуверенность, когда они поднимали его из лодки. До сих пор воинам не доводилось прикасаться к живому святому.
Ворота Пилигримов были очень узкими. Стены города, построенные римлянами, достигали девяти футов в толщину. Проход в них с севера был прорублен гораздо позже, чтобы избавить королевское семейство от толчеи в базарные дни. Ворота не ослабили, а, напротив, укрепили стену. Любой захватчик, ворвавшийся в эти ворота, вынужден был двигаться боком, не имея возможности выхватить оружие. И этот проход не без причины прозвали Переулком Мертвеца.
Поэтому, хотя несущий его монах двигался осторожно, Жеан то и дело ударялся о стены и обдирал о них кожу.
Его подняли по ступенькам. Он услышал, как ворота закрылись за спиной, раздались шаги, его спутников спросили о чем-то вполголоса. Сырой запах весенней реки сменился сыростью узкого прохода и вонью мочи, а затем, когда они поднялись выше, в воздухе разлился насыщенный и странно приятный запах кипящей смолы и раскаленного песка. Совершенно очевидно: если викинги захотят попытать счастья и войти в эти ворота ночью, защитники готовы их встретить.
Монах снова положил Жеана на носилки, и тот почувствовал, что их поднимают. Носилки поплыли по узким переулкам. Они явились сюда в самый глухой ночной час, чтобы скрыться не только от взглядов врагов, но и друзей тоже. Исповедник не смог бы пройти через город днем, когда кругом столько больных и отчаявшихся, – слишком многие просили бы его о целительном прикосновении.
Носилки остановились, Жеан почувствовал, как его опускают. Легкий ветерок принес с собой запах гнили. До него доходили слухи, что покойников негде хоронить и тела лежат на улицах в ожидании достойного погребения. «Если меня позвали из-за этого, – подумал он, – то людям подобное зрелище только на пользу». Душе полезно столкнуться с реальностью в лице смерти, узреть неизбежный конец, чтобы задуматься о собственных грехах. Но он все равно ощущал жалость. Как, должно быть, тяжко потерять любимых людей, да еще и каждый день проходить мимо их бренных останков, отправляясь на работу.
Исповедник знал, что запросто может застрять на острове. На обоих берегах реки оставались участки, свободные от данов, их удерживали, чтобы доставлять провизию в осажденный город, и вылазки, подобные сегодняшней, были опасны, но все же возможны. Однако люди ослабели и пали духом после четырех месяцев сражений. Если бы северяне захватили дома за городскими стенами вместо того, чтобы сосредоточиться на мостах, мешавших подняться по реке, защитники берегов не устояли бы и в город не поступал бы провиант, и тогда даже маленькая лодка без фонарей не смогла бы пройти по реке среди ночи.
– Отец?
Он узнал голос.
– Аббат Эболус…
– Благодарю за то, что вы пришли. – Голос звучал у самого уха, потому что аббат наклонился к Жеану. Исповедник ощущал запах, исходивший от аббата: пот битвы, дым и кровь. Когда монах-воин придвинулся еще ближе, от него пахну́ло, словно от мясника. – Скажите, вы поможете ей?
– Конечно же, меня позвали, чтобы помочь всем нам, а не только ей.
Присевший на корточки Эболус шевельнулся. Жеан услышал звон металла. Аббат еще не снял доспехи.
– Вам известно, для чего вы здесь?
– За мной прислал граф Эд, потому я здесь. Его сестра Элис нездорова.
– Именно так. Она в доме Отца нашего, в церкви Сент-Этьен. Она спасается там.
– От чего, от заразы?
– Девушка страдает не столько телесно, сколько смятением духа и ума. Она удалилась в собор и наотрез отказалась выходить. Граф Эд понимает, что это плохо сказывается на настроении народа. Людям необходимо, чтобы правители были в добром здравии и полны уверенности.
– Так выведите ее и прикажите улыбаться. Женщина не имеет права отказываться от исполнения обязанностей, когда долг требует, чтобы она вышла к людям.
– Она заявила, что ее преследуют и что мои люди не заставят ее выйти из церкви даже силой.
– Кто ее преследует?
– Этого она не скажет. Она утверждает, что нечто явилось за нею, и она чувствует себя в безопасности только в церкви.
Исповедник на мгновение задумался.
– Она всегда жила при дворе?
– Нет, она воспитывалась в почти дикой местности, в замке Лош на Эндре.
– В таком случае она просто вбила себе в голову какие-то деревенские предрассудки. Их полно в тех краях, где люди по ночам пляшут голыми у костров, а с восходом солнца идут в церковь.
– Элис христианка.
– Но она женщина. Она поверила в какие-то крестьянские бредни, вот и все. Я согласен, что подобное поведение вселяет тревогу, но неужели из-за этого надо было тащить меня в осажденный город?
Аббат понизил голос:
– Есть и еще кое-что, – признался он. – Графу Эду было сделано предложение.
– Язычники требуют денег за то, чтобы уйти?
– Нет. Они хотят забрать девушку. Если ее уговорят пойти с ними, они клянутся, что немедленно снимут осаду.
Жеан принялся качаться взад-вперед – размышляя или же страдая от приступа своей болезни, Эболус не смог определить.
– Сестра графа… Законный брак с ней принесет мир и безопасность, может быть, даже обращение язычников в истинную веру. Тогда как серебро для викингов все равно что ягненок для волка – он вернется за новым. Вы уверены, что северяне уйдут, если получат ее? – спросил исповедник.
– Они поклялись, а я знаю по опыту, что когда они так клянутся, то держат слово.
– Они клялись и тогда, когда наш толстый император откупился от них, вместо того чтобы встретиться с врагами Христа на поле боя, однако же они вернулись.
– Мне кажется, сейчас происходит совсем другое. Возможно, мы не понимаем причины, по которой они явились на этот раз. Ходят слухи, что они пришли именно за девушкой. Они и не собираются идти выше по реке, и, если Элис отдадут им, они уберутся.
– Сестра графа кажется мне слишком жалкой добычей для короля викингов, – заметил Жеан.
– Она благородного рода и славится своей красотой. А для их королей и наша крестьянка уже хороша.
– И все же… – сказал Жеан.
Эболус переступил с ноги на ногу:
– И все же…
Исповедник размышлял вслух:
– Значит, девушка может снять осаду, спасти свой народ от чумы и отправить врагов по домам, если только выйдет замуж за язычника, но она не согласна. Неужели она настолько горда?
– Тут имеется одна загвоздка…
Эболус тут же умолк, заслышав на улице шум. Кто-то приближался. Тяжелые шаги по меньшей мере десятка человек, идущих в ногу, решил Жеан. Солдаты. Шаги затихли рядом с ним. Жеан ощутил, что кто-то стоит сбоку и смотрит на него, кто-то, из-за кого прекратились все разговоры вокруг, в присутствии которого, кажется, даже животные замерли.
– Монах…
– Граф Эд, – отозвался Жеан.
– Хорошо, что ты здесь.
Тон графа был точно таким, как помнил его Жеан: он говорил резко, отрывисто, давая понять, что времени в обрез и его ждут неотложные дела.
– Когда Эд Парижский приказывает, братья аббатства Сен-Жермен исполняют.
Раздался короткий смешок.
– Вовсе нет, иначе ваши монахи были бы здесь и защищали мои стены, вместо того чтобы отсиживаться по деревням, запрятав свои сокровища еще глубже, чем свои грехи.
– Исповедник все еще живет в аббатстве, – вставил Эболус.
– Ты был там, когда норманны грабили монастырь?
– Нет. Но я вернулся сразу после этого. Даже Зигфрид не может сжечь уже сожженное.
– Жаль, что твои собратья не такие храбрецы.
– Полагаю, храбрость уже не потребуется, если вашу сестру заставят исполнить свой долг и выйти замуж за этого язычника. Я с радостью отправлюсь с ней к норманнам, чтобы привести их к Господу.
Граф ничего не ответил, и улицы вокруг как будто замерли из почтения к его молчанию. Когда он снова заговорил, в его тоне угадывалась сдержанная злость.
– Они не утверждали, что он хочет взять ее в жены.
– Я не успел рассказать все, отец исповедник, – вставил Эболус. – Язычники…
Кажется, он никак не мог подобрать слово.
– Так что же? – спросил Жеан.
Эболус продолжал:
– Наши лазутчики говорят, что дело как-то связано с их богами. – В голосе аббата угадывалось смущение.
Жеан молчал. Где-то вдалеке плакал ребенок.
Наконец исповедник заговорил.
– Это, – произнес он, – совершенно меняет дело. Речь идет о жертвоприношении? Мы ни за что не отдадим наших дочерей на погибель, чего бы нам это ни стоило.
– Об этом не может быть и речи, – сказал Эд.
Заговорил Эболус:
– Но почему? Разве у нас есть выбор? Если народ узнает об этом предложении – а люди обязательно узнают, – ее вытащат из церкви и швырнут язычникам, не раздумывая, принесут ли те ее в жертву или нет. Вы не видели наших улиц, брат исповедник. Чума забрала столько народу, что мы не можем похоронить своих мертвецов. У нас нет серебра, чтобы откупиться от варваров, король уже двадцать лет платит норманнам. Нам необходимо выиграть время, а затем нанести по язычникам удар.
– Я не отправлю сестру на смерть, – заявил Эд.
– А скольких воинов мы отправили на смерть? Я уже потерял одного брата, и это только начало. С ее стороны это будет так благородно, – сказал Эболус.
– А что будут говорить об Эде? – спросил граф. – Он настолько слаб, что отдал единственную сестру на поругание и погибель? Да я лучше выйду один на битву с ними, когда этот город обратится в пепел, чем допущу такое!
Исповедник ощутил, как в нем нарастает раздражение. Ему хотелось двигаться, метаться из стороны в сторону, стучать по стенам – словом, как-то выказать темперамент, вложенный в него Господом. Однако тело этого не позволяло.
– Переверни меня, – велел он монаху, сопровождавшему его.
– Отец?
– У меня нога затекла. Переверни.
Монах исполнил приказание, перекатив Жеана на другой бок и поправив под ним подушку.
Жеан минуту молчал, молясь, чтобы утих гнев, а потом сказал:
– На такие уступки язычникам мы не пойдем ни за что. Выдать девушку замуж за короля-безбожника – это одно, это даже благое дело. Ведь тогда своей молитвой, своим смирением и верой она, как можно надеяться, приведет неверующего к Христу. Но совсем другое – подвергнуть опасности ее бессмертную душу, подвергнуть опасности все наши бессмертные души, сознательно отдавая ее идолопоклонникам. Et tulisti filios tuos et filias tuas quas generasti mihi et immolasti eis ad devorandum numquid parva est fornicatio tua immolantis filios meos et dedist illos consecrans eis.
Он проговорил последние слова так быстро, что Эболус, хотя и прекрасно владевший латынью, подался к нему, чтобы расслышать.
– Что?
Исповедник раздраженно дернул головой и пояснил:
– Говоря народным языком, «и взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей Моих заколала и…»[1]
Эболус перебил:
– Я знаю латынь не хуже вас, отец, если что меня и подвело, так только слух.
– Так услышьте вот что, – продолжал исповедник, чувствуя, как кровь приливает к лицу. – Отдадите девушку норманнам – и погубите не только ее душу, но и свою собственную. Лучше тысяча праведных смертей, чем одна, но та, которая отвратительна Богу. Вы правы, что защищаете сестру, граф. Благочестие правителя в том, чтобы защищать своих подданных.
– Однако ваш Бог суров, исповедник, – заметил аббат.
– Он просто Бог.
– Тогда ступай к ней и заставь выйти на улицу, – предложил Эд. – Это все, о чем я прошу.
– Должен же найтись выход, который понравится всем нам, – сказал Эболус.
– Только если жирный император Карл вылезет наконец из сортира и пришлет сюда войска, – сказал Эд.
Эболус испустил тяжкий вздох.
– Это будет настоящее чудо, а Господь нечасто творит чудеса. Вряд ли это случится. Послушайте, мы не можем отправить к северянам девушку против ее воли. Иначе мы уподобимся Синедриону, отправившему Христа к Пилату. Но она может сделать это по доброй воле. Тогда она станет мученицей. Есть немало примеров, когда святые по собственному желанию шли на гибель от рук язычников, чтобы защитить свою веру. И вы, Эд, не покажетесь от этого слабым. У вас в роду появится мученица. Разве вы откажете ей в праве выказать ту же храбрость, какую сами выказываете каждый день на крепостной стене?
– Она моя сестра, – сказал Эд.
– А это ваш город. Если Париж падет, что тогда скажут об Эде? Захотите ли вы быть королем франков, если они обратятся в прах? – спросил Эболус.
Аббат посмотрел Эду в глаза, пытаясь понять, какие чувства вызвали у графа его слова. Ничего не увидел, поэтому приободрился и продолжил:
– Кроме того, у нас имеется пример для подражания. Святую Перпетую растерзали на римской арене дикие звери, когда она отказалась отречься от Господа. А ведь то тоже был, можно сказать, языческий ритуал.
Жеан чувствовал, как подергивается его тело.
– Это софистика, – заявил он, – и меня вовсе не радует, что мы прибегаем к философским оправданиям, чтобы убить несчастную девушку.
– А что бы вы сделали, брат исповедник, если бы они жаждали вашей крови? – спросил Эболус.
– Я пошел бы к ним, – ответил монах.
– Вот именно. В таком случае неужели вы считаете, что у женщины недостанет сил для мученичества и она недостойна награды?
Исповедник немного подумал.
– Нет, я так не считаю.
– Тогда вы поговорите с ней? – спросил Эболус.
– Просто уговори ее улыбнуться и выйти к народу, – сказал Эд. – Этого будет довольно.
– Но вы не станете возражать против того, чтобы исповедник напомнил девушке о ее обязанностях по отношению к городу? Вы не позволите эгоистичной гордости затмить для вас здравый смысл? – вставил Эболус.
– Я не позволю ее принуждать.
– Никто и не говорит о принуждении, – возразил Эболус, – мы просто хотим напомнить ей, что ее обязанность как христианки заключается в том, чтобы ставить интересы своих собратьев выше собственных интересов. Брат исповедник, вы сможете поговорить с ней?
И снова исповедник ответил молчанием. Выдержав паузу, он произнес:
– Я поговорю с ней, но ни в чем убеждать не стану. Решение должна принять она сама.
– В таком случае не будем мешкать, – сказал Эболус.
Жеан ощутил прикосновение могучей руки к своему плечу.
– Главным образом постарайся убедить ее выйти к народу, монах. Но если я узнаю, что ты каким-то образом принудил ее, то не жди, что уйдешь из города живым.
Жеан улыбнулся.
– Я вовсе не жду, что уйду откуда-либо живым, граф. Подобное ожидание означало бы, что мне известна Божья воля. Но я прямодушный человек и буду откровенно говорить с вашей сестрой.
– Тогда ступай.
Жеана положили на носилки. Его пронесли через город. Он слышал плач голодных детей, кашель умирающих от чумы, рыдания и даже пьяное пение. «Все это, – подумал он, – музыка отчаяния». Он мечтал, чтобы она умолкла, но знал, что его способность исцелять весьма ограничена. Временами он вообще сомневался, делает ли хоть что-нибудь, когда простирает руки, чтобы снять боль, вернуть разум безумцу или, в случае с умирающими, дать им понять, что их время здесь истекло и им пора отправляться на небеса. Они верили, что он святой, поэтому им становилось лучше, разум возвращался, или же – иногда – они умирали. Искренне верующие получали больше всего пользы. Действительно ли через него действует Бог? «Ну конечно, это Он, – думал Жеан, – кто еще это может быть?»
Он ощутил, что его несут в гору; монахи, тащившие носилки, поскальзывались на соломе, расстеленной поверх булыжника. Соломы было много, часть ее пахла свежестью, часть уже сгнила. И то и другое было скверным знаком – солому постелили из уважения к жителям ближайших домов, чтобы заглушать топот копыт и скрип колес. Подобную вежливость проявляли к тем, кто лежал на смертном одре. Он молился за них – и о том, чтобы они выжили, но еще больше о том, чтобы они узрели Господа. Смерть не имеет власти над праведными людьми.
«А у меня здесь еще много работы», – подумал Жеан: он обязан причащать умирающих, готовя их к путешествию после смерти, отпуская грехи, наставляя на пути к небесам. Эболус сказал, что девушка может спасти город. Нет. Город может спасти себя сам, склонившись перед Господом, умоляя о прощении, впуская Его в свое сердце. Тогда физическая смерть будет не страшна живущим здесь, как не страшна ему, Жеану.
Солома для сохранения тишины. «Это же символ, – подумал он, – символ бессмысленной привязанности человека к земным вещам, тоненькой оболочке реальности. Иисус однажды придет – Иисус разрушающий, Иисус ниспровергающий, Иисус, который знает все грехи и заставит ответить за них. Где тогда окажутся наше притворство, наши оправдания, наши утешения и индульгенции? Они будут словно солома на ветру».
И все же девушка может положить конец бойне. Жеан понимал, как рассуждает Эболус. Жизнь одной девушки за жизнь целого города. Для всех будет лучше, если он сумеет ее убедить. Но исповедник считал иначе. Жизнь одной девушки и вечное проклятие или же смерть и возможность спасения. Здесь даже нечего выбирать.
– Сент-Этьен, отец.
Они находились у главной церкви Парижа. Жеан почти ощущал перед собой ее громаду, как будто строение искажало воздух вокруг себя, точнее, темноту – сгущая и углубляя ее, превращая в нечто такое, что Жеан осязал на коже, словно капли воды. С тех пор как Жеан ослеп, он научился чувствовать давление, которое здания и даже люди оказывают на воздух. Его подмывало даже признать, что он обрел новое чувство, однако он был человек практического склада. Проведя столько лет во тьме, считал он, его разум просто научился находить новые раздражители. И, разумеется, он помнил церковь еще с тех времен, когда был зрячим. Эта церковь была едва ли не первым, что он увидел, оказавшись в Париже, когда монахи привезли его в город из огромных лесов на Рейне. Наверное, поэтому он до сих пор ощущает отголоски ее образа.
Жеан почти не помнил своего детства. Он был найденышем. И эта постройка стала едва ли не первым его воспоминанием. Он помнил, как громадный восьмиугольный купол поднимался над ним, покоясь на многогранном основании. Он никогда не видел ничего подобного. Монах, привезший его с востока, вошел внутрь, чтобы решить дальнейшую судьбу мальчика, и оставил Жеана стоять на суетливой парижской улице. Он помнил, как обходил церковь, гладя стены руками и считая грани – двенадцать, и на каждой фреска с изображением человека, точнее, как он знал теперь, апостола. Он помнил темные окна, глубоко вдавленные в стены, громадные камни, а потом, когда он уже вошел, сводчатый потолок и мрамор на полу, такой сияющий, что было боязно ступать, – ему казалось, что это водная гладь. И еще, пока он ждал братьев из аббатства Сен-Жермен, чтобы они забрали его, ему запомнились лучи закатного солнца, льющиеся в окна, из-за которых тени по углам казались глубокими, словно колодцы.
– Девушка в церкви одна?
– Да, все давно разошлись.
– Внесите меня туда и оставьте рядом с ней.
Монахи сняли его с носилок и внесли в церковь. Он ощутил, как монах-воин оступился, перешагивая порог.
– Осторожнее, – сказал исповедник.
– Прошу прощения, отец. Мы сейчас все как слепцы, здесь так темно.
Исповедник засопел. Из-за осады церковь отказалась от свечей, кроме того, с чего бы зажигать их ночью?
– Ты ее видишь?
– Нет.
– Я здесь, кто бы меня ни искал.
Голос прозвучал твердо и отчетливо, с легкой ноткой раздражения – обычно так те, кто привык повелевать, и разговаривают с нижестоящими. Жеан узнал этот тон. Высокородные особы посещали их монастырь, хотя мужчины бывали гораздо чаще женщин. Правда, благородные дамы интересовались святыми, и он встречался с сестрой графа, в те времена двенадцатилетней девочкой. Ему тогда было восемнадцать. Теперь же восемнадцать исполнилось ей, ее голос изменился, сделался звучным и глубоким, однако он все равно его узнал. Тогда, будучи девочкой, она спросила Жеана, почему он так уродлив. Он ответил, что такова Божья воля и он благодарит Господа за это.
Исповедник сделал глубокий вдох, чтобы от запаха ладана и воска успокоиться и привести мысли в порядок. С чего ему начать? Сейчас он не знал, знал только, чего нельзя говорить: что она должна выйти, что это ее обязанность. Нет, он объяснит, какие есть варианты, а решение останется за ней.
– Это Жеан исповедник, госпожа.
– О, ко мне прислали святого, – сказала она.
Ее голос вовсе не был голосом испуганной деревенской дурочки, голова которой набита предрассудками. Перед ним была настоящая знатная дама, одна из тех образованных дам, которые любили подразнить монахов своим знанием Библии, даже поспорить – хотя и с притворной застенчивостью – по поводу толкований текста.
– Я пока еще не умер, госпожа, потому не знаю, каким считает меня Создатель.
– Ты же целитель, брат-исповедник. Ты пришел исцелить меня от решимости?
Жеан, привыкший полагаться на слух, уловил в ее голосе нотку страха. «И ничего удивительного, – подумал он. – Ей предстоит весьма нелегкий выбор».
– Я пришел поговорить с тобой, госпожа, вот и все.
Снаружи донесся шум: крики, визг, звон колоколов и пение рогов. Жеан знал, что это звуки битвы.
– Норманны атакуют? – спросил исповедник.
– По всему выходит, что так, отец, – отозвался принесший его монах.
Раздался мощный удар совсем рядом с церковью. Монах изумленно ахнул.
Жеан сказал:
– Господь улыбается тем, кто гибнет, защищая Его имя, брат. Едва ли это серьезное нападение, наверное, Эду просто пытаются помешать чинить башню. Неси меня дальше, как было сказано.
Монах прошел через громадное пространство церкви. Жеан услышал чирканье кресала по кремню, ощутил запах трута, а затем горящего воска. Еще он услышал, как сестра графа ахнула, увидев его.
– Боюсь, годы не сделали меня краше, госпожа Элис.
– Надеюсь, они сделали меня вежливее, – отозвалась она.
Девушка была искренне потрясена его видом; исповедник слышал, что она пытается овладеть своим голосом.
– Можно мне немного посидеть с тобой?
– Конечно.
Снаружи снова донеслись крики. Исповедник подумал, что защитникам сейчас приходится сражаться без доспехов. У них просто не было времени надеть их. «Весь этот разговор, – подумал он, – очень скоро окажется совершенно бессмысленным, если северяне ворвутся в город». Сколько их там? Тысячи. А сколько вооруженных защитников у Парижа? Двести пятьдесят? Пока держатся башни на мостах, им ничто не грозит. Если же башни падут, город будет уничтожен. Ничего не поделаешь, остается ждать и полагаться на волю Божью, как он делал всегда.
– Опусти меня, – велел он монаху, – потом возьми меч и ступай на стену, чтобы исполнить долг христианина.
Монах опустил его на пол и ушел, неуклюже двигаясь от колонны к колонне, когда пламя свечи осталось у него за спиной.
– Ты… – Элис замолкла.
– Еще хуже, чем был? Нет смысла это скрывать, госпожа. Это просто факт.
– Мне жаль.
– Не стоит жалеть. Это дар Господа, и я ему рад.
– Я буду молиться за тебя.
– Не надо. Хотя нет, молись так, как молюсь я. Благодари Господа за то, что он сделал меня таким и даровал возможность доказать свою веру.
Элис поняла, что он подразумевает. Он считал себя благословенным, потому что Господь испытывал его веру. И ей следует считать так же. Но только она не могла.
Девушка поглядела на того, кто сидел перед ней, озаренный пламенем свечи. Когда она видела его в первый раз, он уже был слеп и прикован к стулу. Ее тогда поразили его глаза, которые не сосредотачивались ни на чем, а беспечно блуждали по сторонам, словно следя за полетом надоедливой мухи. И лицо его постоянно искажала гримаса. Хотя она сочла его уродом, в базарный день в Париже ей доводилось видеть куда более жутких калек. «Теперь же, – подумала она, – он мог бы стать королем нищих, если бы пожелал». Его тело как будто иссохло, руки сморщились и скрючились, голова запрокидывалась назад, словно он то и дело глядел вверх. Она слышала шутку о том, что исповедник вглядывается в небеса, однако, увидев его воочию, вовсе не сочла это смешным. Монах покачивался взад-вперед, разговаривая с ней, как будто погруженный в глубокие размышления. Элис поняла, что его присутствие вселяет в нее неуверенность.
Даже когда она была еще ребенком и, конечно, потом, став взрослой, она умела воспринимать людей по-особенному, выходя за пределы пяти обычных человеческих чувств. Она словно слышала суть человека, как музыку, ощущала его, как цвет или образ. Она выросла среди воинов, видела их шрамы, слышала рассказы о доблестных сражениях с викингами. Пока воины вели свои речи, она мысленно видела все оттенки металла, мечи и доспехи, темное небо над полем битвы. Брат представлялся ей сжатым кулаком в латной перчатке, жестким, не знающим компромиссов, однако даже он казался нематериальным по сравнению с Жеаном исповедником. Пусть тело монаха было изломанным, однако его дух, его воля походили на вздымающуюся во тьме громадную гору, прочную и недвижную.
Элис взяла свечу и подошла к алтарю. Золото подсвечников и чаш для причастия засверкало и заиграло в пламени, когда она приблизилась к ним. Аббат не позволил спрятать драгоценную утварь, ведь это означало бы, что он допускает возможность падения Парижа. Сначала они надеялись, что монахи аббатства Сен-Жермен пришлют свои реликвии для защиты города. Едва ли они привезли бы мощи самого святого Германа, но ходили слухи, что сто́лу святого Винсента могут прислать в Париж. Однако аббат Сен-Жермена заявил, что северяне уже трижды разграбляли аббатство, и стола все равно никак не помогла.
Элис опустилась перед алтарем на колени.
– Господь испытывает и меня, хоть и не так сурово. Должна ли я благодарить Его за это?
Жеан старательно обдумал свои слова.
– Мы должны быть благодарны за все, что исходит от Господа.
Исповедник был для нее всего лишь голосом во тьме.
– Я не боюсь норманнов, – сказала Элис.
– В таком случае чего же ты боишься?
Элис перекрестилась. Жеан услышал, как она вполголоса произносит молитву. Голос ее срывался, хотя она делала усилие, чтобы он звучал ровно, не желая выказать свою слабость перед человеком низкого происхождения.
– Что-то пришло за мной, и я знаю, что, если соглашусь уйти с северянами или хотя бы просто выйду из церкви, оно найдет и заберет меня. Оно принесет беды всем нам.
– Ты же не можешь прятаться в церкви всю жизнь, – заметил исповедник. – Что явилось за тобой?
Она секунду молчала. Затем ответила:
– Когда ты ослеп, отец, тебя посещали видения?
– Да.
– И Дева Мария?
– Да.
– Ты разговаривал с ней?
– Нет.
– Тогда как ты узнал, что это она?
– Просто знал. И еще понял по тому дару, который она пробудила во мне.
– Пророчествовать?
– Да.
Жеан помнил тот день, когда жизнь его переменилась. Когда ему было лет пять или шесть, его нашли в лесу охотники, а затем доставили в один монастырь в Австразии[2], в восточных землях франков. Он пребывал тогда в исступлении. Единственное, что он знал наверняка, – кто-то научил его народной латыни и он пережил чудовищное потрясение, лишившее его почти всех воспоминаний. Странствующий монах увез его на запад, в Париж, и здесь его отдали в аббатство Сен-Жермен, на милость Церкви. Его выздоровление было удивительным и быстрым. В девять лет он уже помогал монахам, учился, играл и смеялся. Он во многом превосходил своих сверстников. Легкость, с какой он писал, была бы удивительной даже для ребенка, которого учили с самого младенчества. Языки тоже давались ему запросто: народная латынь, язык франков, на котором говорили при дворе, официальная латынь, греческий, даже языки данов и саксов, которым научили его миссионеры. Но еще больше поражала способность мальчика к игре в шахматы. Он увидел, как играют монахи, а затем сел, чтобы попробовать. В первой же партии он победил одного из лучших шахматистов аббатства. Этот мальчик, считали все, благословлен свыше.
Затем ему явилась Дева Мария. Лето стояло в разгаре, голодный месяц июль, и ему было нечем заняться, только гулять по полям с недозрелыми злаками. Солнце золотило колосья, небо было пронзительно-голубым. Когда монахи рассказывали о видениях, ему всегда представлялось, что ангел или Мария появляются в облаке или в дымке. Однако она стояла перед ним такая настоящая и живая, что он мог бы прикоснуться к ней. Она заговорила с ним, точнее, он услышал в голове ее голос, хотя никому в том не признавался, сомневаясь, правильно ли понял Пречистую Деву. Он много лет размышлял над ее словами и никому не рассказывал о них.
– Не ищи меня.
Он воспринял это как предостережение, чтобы он не впадал в грех гордыни, не старался казаться святым и не ставил себя выше других людей из-за своего благочестия. Искать Небес, чувствовал он, это верный способ лишиться их.
Пречистая уходила от него, и он побежал за ней, но тут же ослеп, а после его нашли блуждающим среди ульев на пасеке – счастье, что он не опрокинул ни один из них и его не покусали пчелы.
Пророчества его сбывались – набеги на побережье, пожар в Руане, разрушенные Байе, Лан и Бове, истребленные сыны Церкви. Аббат объявил его живым святым, исповедником, и Господь благословил его дальнейшими несчастьями и новыми видениями.
– Тебя объявили святым, потому что ты ее видел?
– Да, поэтому. И еще потому, что монастырю хотелось, чтобы у него был собственный исповедник. Для этого имелись основания, и это была уже политика, – ответил он.
– Кем бы они тебя объявили, если бы ты увидел… – Она не смогла договорить.
Жеан молчал, позволяя ей собраться с силами.
– Ты хочешь испросить епитимью?
Элис коротко рассмеялась.
– Мне не в чем каяться, святой отец, нет греха, который надо отпустить, однако же, если бы я вышла к пастве, назвала то, что видела, грехом и попросила священника о прощении, моя жизнь оборвалась бы раньше, чем я вышла бы из церкви. Могу я рассказать тебе лично? Ты поклянешься никому не говорить о том, в чем я признаюсь?
– О епитимье полагается просить публично, – сказал Жеан.
– Мне не о чем сожалеть. Ты поклянешься?
– Путь, усыпанный терниями, – пробормотал исповедник вполголоса. А вдруг эта женщина скажет, что прелюбодействовала или, хуже того, совершила убийство? Он не сможет, конечно, молчать о таком.
Звуки борьбы на улице все приближались. Неужели норманны захватили башню на мосту? Едва ли такое возможно без взрывов, подумал он. Враги уже пытались захватить ее, однако безуспешно.
Крики и проклятия заставили исповедника сосредоточиться на своем задании.
– Я поклянусь, – сказал он.
– Тебя объявили святым, потому что ты видел Деву, – сказала Элис. – Как бы тебя назвали, если бы ты видел дьявола?
– Простой народ, наверное, объявил бы меня ведьмаком, – сказал исповедник, – хотя верить в ведовство – это ересь. Некоторых объявляют еретиками, однако видение есть видение. Само по себе оно еще ничего не значит.
– Так как бы ты меня назвал?
– А ты видела дьявола?
– Да. Значит, я ведьма и сама об этом не знаю?
– Христос видел дьявола в пустыне, разве он ведьмак?
Она опустила голову.
Жеан сглотнул комок в горле и начал раскачиваться быстрее.
– Для подобных явлений существует множество объяснений. Например, болезнь, воспаление мозга. Часто это просто сон, госпожа, фантазия, которая никак не связана с повседневными событиями.
– Он снится мне наяву. Он постоянно здесь.
Снова раздались крики. Жеан услышал, как кто-то проревел на языке данов: «Умри!»
Он не стал мешкать.
– Как ты поняла, что это дьявол?
– Он волк. Человек и волк одновременно. Он выходит из тени, я вижу его боковым зрением. Он рядом со мной, когда я засыпаю, он оказывается рядом, как только я проснусь. Он волк, и он говорит со мной.
– Что он говорит?
Элис снова перекрестилась.
– Говорит, что любит меня.
Грохот раздавался уже за дверями собора. Сражение приближалось. Элис подняла голову. Тьма вокруг слабого пламени свечи как будто плыла и клубилась – жидкая чернота. Раздался тяжелый удар в дверь, такой сильный, что показалось, будто она вот-вот разлетится в щепы.
– Нам суждено умереть, исповедник? – спросила Элис.
– На все воля Божья, – отозвался Жеан.
– Тогда помолись за нас.
– Нет, – сказал он. – Молись за наших врагов, чтобы они узрели свет Христа в своих сердцах раньше, чем наши солдаты убьют их и лишат надежды на спасение. Мы верим, у нас больше шансов отправиться к Богу.
Она поднялась, и Жеан услышал, как она резко выдохнула. Для Элис тьма обрела новое качество. Она как будто взъерошилась, задвигалась, едва ли не заблестела, словно щетина на загривке у свиньи. Затем на краю круга, отбрасываемого пламенем свечи, тень обрела форму, шевельнулась и вышла на свет.
Девушка задохнулась. Перед ней, подобно существу, сотканному из мрака, возвышалась фигура волкодлака; его косматая голова тянулась к ней из темноты, бледная кожа блестела, покрытая пятнами крови.
– Он здесь, – сказала она. – Здесь!
– Кто?
– Да волк же! Дьявол явился!
Жеан повернул голову. Слева он почуял темный звериный запах. Теперь он различал дыхание кого-то третьего, слышал, как девушка, охваченная ужасом, пытается успокоиться.
– Мы одеты в доспехи Господа, сатана. Ты не причинишь нам зла, – сказал монах. Его голос звучал уверенно и спокойно, в нем угадывалась едва ли не скука, как в голосе учителя, который в очередной раз отчитывает озорника.
– Domina, – проговорил волк.
Он вытолкнул из себя слово, будто оно застряло у него в глотке; голос у него был гортанный и очень странный.
– Domina.
Элис пыталась собраться с мыслями. Она изучала латынь с раннего детства, но никак не могла заставить себя перевести это простое слово. Монах, однако, нисколько не утратил присутствия духа.
– Не смей обращаться к даме, дьявол, тебе придется иметь дело со мной.
Исповедник тоже говорил на латыни.
Человек-волк не обращал на него внимания.
– Domina. Меня зовут Синдр, это означает Миркирульф, и я здесь, чтобы защитить тебя.
Наконец-то Элис вспомнила латынь.
– От чего?
– От этого, – ответил он, и церковные двери с грохотом распахнулись.
1
Иезекииль 16:20, 21. (Здесь и далее примеч. пер., если не указано иное.)
2
Австразия – северо-восточная часть франкского королевства (в противоположность юго-западной – Нейстрии). (Примеч. ред.)