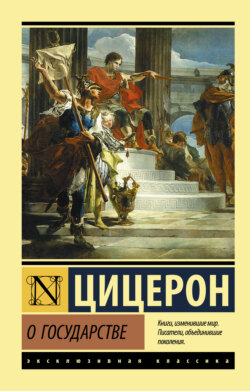Читать книгу О государстве - Марк Туллий Цицерон - Страница 3
О государстве
Первый день
Книга первая
Оглавление[Если бы предки наши не ставили блага государства превыше всего, то Марк Камилл не] избавил бы Рима от нашествия [галлов, Маний Курий, Гай Фабриций и Тиберий Корунканий не спасли бы его от нападения Пирра1,] (I, 1) Гай Дуелий2, Авл Атилий3 и Луций Метелл 4 – от ужаса, который Риму внушал Карфаген, а двое Сципионов5 кровью своей не потушили бы начинавшегося пожара Второй Пунической войны, Квинт Максим6 не добился бы перелома в военных действиях, когда они возобновились после увеличения сил врага, Марк Марцелл 7 не сломил бы противника, а Публий Африканский8 не перенес бы войны в стены вражеских городов, отбросив ее от ворот нашего города.
Далее, Марку Катону9, человеку малоизвестному и новому10, который всем нам, проявляющим такие же стремления, как бы подает пример настойчивости и доблести, право, было дозволено наслаждаться досугом11 в Тускуле, здоровой местности близ Рима; но он, человек безрассудный, как думает кое-кто12, предпочел, хотя его и не заставляла необходимость, до глубокой старости носиться по волнам в бури13, а не вести приятнейшую жизнь в тишине и на досуге. Не говорю уже о бесчисленном множестве мужей, из которых каждый служил благу нашего государства; о тех, кто [не] забыт нашим поколением, я упоминать не стану, дабы никто не мог посетовать на то, что я пропустил его или кого-нибудь из его родных. Утверждаю одно: природа наделила человека столь великим стремлением поступать доблестно14 и столь великой склонностью служить общему благу, что сила эта одерживала верх над всеми приманками наслаждений и досуга.
(II, 2) Но отличаться доблестью, словно это какая-то наука, недостаточно, если не станешь ее применять. Ведь науку, хотя ее и не применяешь, все же возможно сохранить благодаря самому знанию ее; но доблесть зиждется всецело на том, что она находит себе применение, а ее важнейшее применение – управление государством и совершение на деле, а не на словах, всего того, о чем кое-кто твердит в своих углах. Ведь философы не говорят ничего такого (я имею в виду то, что говорится действительно по справедливости и чести), что не было бы создано и подтверждено людьми, составлявшими законы для гражданских общин. И в самом деле, откуда возникло понятие о долге и кем была создана религия? Откуда появилось право народов15 и даже наше право, называемое гражданским, откуда правосудие, верность, справедливость? Откуда добросовестность, воздержность, отвращение к позорным поступкам, стремление к похвалам и почету? Откуда стойкость в трудах и опасностях? Да ведь все это исходит от тех людей, которые, когда это благодаря философским учениям сложилось, обычаями подтвердили одно, другое укрепили законами. (3) Более того, Ксенократ16, один из самых известных философов, на вопрос о том, чего достигают его слушатели, будто бы отвечал: они добровольно делают то, что им велят делать законы. Следовательно, тот гражданин, который своим империем17 и страхом перед карой по закону заставляет всех людей делать то, к чему философы своей речью могут склонить разве только немногих, заслуживает предпочтения перед самими любителями наставлять, обсуждающими такие вопросы. И в самом деле, какую их речь, как бы отточена она ни была, можно было бы предпочесть правильному устройству гражданской общины, основанному на публичном праве 18 и на обычаях? И в самом деле, как «большие и могущественные города» (как их называет Энний19), по моему мнению, следует предпочитать деревенькам и крепостцам, так тех, кто благодаря своей мудрости и авторитету стоит во главе этих городов, следует именно за их мудрость ставить гораздо выше людей, чуждых какой бы то ни было государственной деятельности. А так как нас неудержимо влечет к умножению средств существования человеческого рода и мы, помыслами и трудами своими, стараемся сделать жизнь людей более безопасной и более богатой, причем искать этой радости нас побуждает сама природа, то будем держаться пути, по которому всегда шли все лучшие люди, и не станем слушать призывов тех, кто трубит к отступлению, желая повернуть вспять даже тех, кто уже продвинулся вперед.
(III, 4) Этим столь определенным и столь ясным доводам люди, не согласные с нами, противопоставляют труды, которые приходится совершать в защиту государства; для бдительного и деятельного человека это, конечно, препятствие небольшое и не только на таком важном поприще, но и при занятиях обыденных и при выполнении обязанностей частного человека или даже в личных делах заслуживающее пренебрежения. Говорят они и об опасностях, грозящих жизни, причем на позорный страх смерти указывают храбрым мужам, которым естественное угасание в старости кажется уделом более жалким, чем случай, когда им пришлось бы жизнь свою, которую рано или поздно придется отдать природе, именно за отечество отдать20. В этом вопросе они признают себя особенно красноречивыми, когда перечисляют несчастья, постигшие прославленных мужей, и обиды, нанесенные им неблагодарными согражданами. (5) Отсюда и примеры из истории греков: Мильтиад, победитель и усмиритель персов, когда у него еще не зажили те раны на груди, что он получил в час величайшей победы, жизнь свою, сохраненную им от вражеских копий, окончил в оковах, наложенных на него согражданами21; Фемистокл, с угрозами изгнанный из отечества, которое он спас, бежал не в гавани Греции, сохраненные им, а в глубь варварской страны, которую он когда-то сокрушил22. Ведь в примерах непостоянства афинян и их жестокости к виднейшим гражданам недостатка нет. Такие события, происшедшие там и часто повторявшиеся, – говорят эти люди, – многократно совершались также и в нашем могущественном государстве. (6) Упоминают и об изгнании Камилла23, и о злобном отношении к Агале24, и о ненависти к Насике25, и об изгнании Лената26, и об осуждении Опимия27, и о бегстве Метелла28, и о величайшем несчастье, постигшем Гая Мария29, [а по его возвращении] об убийстве первенствовавших людей, и о происшедшей вскоре после этого резне, унесшей много жертв30. При этом теперь не избегают называть также и меня и, пожалуй, именно потому, что мудростью моей и ценой грозившей мне опасности считают себя спасенными для этой мирной жизни, еще сильнее и с большей любовью ко мне сетуют на мои злоключения31. Но мне трудно сказать, почему, когда сами они, для получения образования или ради ознакомления, ездят за море… [Лакуна]
(IV, 7) [Когда] я, слагая с себя полномочия консула, на народной сходке поклялся в том, что государство было спасено, причем римский народ поклялся в том же32, я, пожалуй, был вполне вознагражден за волнения и тяготы, связанные со всеми обидами. Впрочем, в злоключениях моих было почета больше, чем лишений, и не столько было тягот, сколько славы, и я от тоски, испытываемой честными людьми, почувствовал радость бо́льшую, чем была боль, причиненная мне радостью бесчестных33. Но если бы, как я уже говорил, случилось иначе, то как мог бы я сетовать на это, когда на мою долю не выпало ничего такого, чего я не предвидел ранее, и – в сравнении с моими столь великими деяниями – ничего более тяжкого, чем я ожидал? Ведь я был таким человеком, что я, – хотя мне ввиду разнообразных приятных занятий, которым я предавался с отроческих лет 34, либо можно было получать от своего досуга плоды бо́льшие, чем те, какие получают другие люди, либо, если бы всех постигло более тяжкое несчастье, пришлось бы испытать не какие-то особенные превратности судьбы, но равные тем, какие испытали бы и другие, – что я, ради спасения граждан, не поколебался встретить грудью сильнейшие бури и чуть ли не удары молний и, сам подвергаясь опасностям, принести спокойствие всем остальным35. (8) Ибо отечество36 породило, вернее, взрастило нас не с тем, чтобы не ждать от нас никакой поддержки и только, служа нашим выгодам, создавать для нас безопасное убежище для жизни на досуге и спокойное место для отдохновения, но для того, чтобы оно само, себе на пользу, взяло в залог многие и притом величайшие силы нашего духа, ума, мудрости и предоставляло нам для наших личных потребностей лишь столько, сколько может оставаться после удовлетворения его собственных нужд37.
(V, 9) Далее, к тем отговоркам, к каким эти люди прибегают для оправдания, дабы им еще легче было полностью наслаждаться досугом, конечно, менее всего следует прислушиваться, раз, по их словам, к государственной деятельности большей частью стремятся люди, совершенно недостойные честного дела, люди, равняться с которыми унизительно, а сражаться, особенно когда толпа возбуждена, опасно и чревато несчастьем. Поэтому, по их мнению, мудрому человеку не следует принимать бразды правления, раз он не в силах сдерживать безумные и неукротимые стремления черни, а свободному, борясь не на жизнь, а на смерть с подлыми и свирепыми противниками, незачем подвергаться ударам оскорблений или ожидать несправедливостей, нестерпимых для мудрого; как будто у людей честных, храбрых и наделенных большим мужеством, может быть какое-нибудь основание посвятить себя государственной деятельности, которое было бы более справедливым, чем желание не покоряться бесчестным людям и не позволять им раздирать государство на части38, [чтобы не оказаться в таком положении,] когда они сами уже не будут в силах ему помочь, даже если и захотят.
(VI, 10) Но кто может одобрить этот отказ от деятельности? Ведь, по их словам, мудрый не станет принимать никакого участия в делах государства, если только обстоятельства и необходимость не заставят его39. Словно кто-нибудь может столкнуться с большей необходимостью, чем та, с какой столкнулся я!40 Что смог бы я тогда сделать, не будь я в то время консулом? Но как мог бы я быть консулом, если бы с отроческих лет не держался в жизни того пути, идя по которому, я, происшедший из всаднического сословия, достиг высшей почетной должности?41 Следовательно, хотя государству и грозят опасности, возможность прийти ему на помощь не появляется вдруг или по нашему желанию, если не занимаешь такого положения, что так поступить ты вправе. (11) Но в высказываниях ученых людей мне обычно кажется наиболее странным то, что они, когда море спокойно, держать кормило отказываются, так как не обучались этому и никогда не старались овладеть таким умением, но что они же объявляют о своем намерении встать у кормила, когда на море разыграется сильнейшая буря. Ведь они склонны открыто говорить и даже превозносить себя за то, что никогда не обучались ни устроению, ни защите государства, не обучают этому других и полагают, что знание всего этого следует предоставить не людям ученым и мудрым, а искушенным в этом деле. Как, в таком случае, возможно обещать государству свое содействие только тогда, когда тебя к этому принудит необходимость, раз ты – что было бы гораздо проще – управлять государством при отсутствии необходимости не умеешь? И право, если бы и было верно, что мудрый не склонен добровольно снисходить до занятий делами государства, но в том случае, когда обстоятельства заставят его сделать это, в конце концов все же не отказывается от этих обязанностей, то я все-таки полагал бы, что пренебрегать познаниями в государственных делах мудрому человеку отнюдь не следует, так как он должен овладеть всем тем, что ему, пожалуй, рано или поздно еще придется применять.
(VII, 12) Я изложил все это весьма обстоятельно по той причине, что решил выступить в этих книгах с рассуждением о государстве. Чтобы оно не оказалось бесполезным, я прежде всего должен был устранить сомнения насчет того, следует ли вообще заниматься государственной деятельностью. Но все же, раз существуют люди, которые считаются с авторитетом философов, то пусть они на короткое время возьмут на себя труд послушать тех, чьи авторитет и слава в глазах ученейших людей величайшие. Хотя некоторые из этих последних сами государственными делами не ведали, я лично – так как они рассмотрели много вопросов и много писали о государстве – все же думаю, что они выполнили некое обязательство перед государством. И право, тех семерых, кого греки назвали мудрецами42, я, можно сказать, воочию вижу в самой гуще государственных дел. Ведь ни в одном деле доблесть человека не приближается к могуществу богов более, чем это происходит при основании новых государств и при сохранении уже основанных.
(VIII, 13) Поэтому, так как мне посчастливилось, ведя дела государства, достигнуть некоторых успехов, достойных того, чтобы о них помнили, а развивая положения о гражданственности, приобрести некоторую подготовку благодаря не только своей деятельности, но и своему стремлению учиться самому и обучать других, … [Лакуна] [то задачу, взятую мною на себя, я нахожу для себя посильной.] …авторитеты, между тем как из моих предшественников одни были весьма изощрены в рассуждениях, но их деяния нам неизвестны, а другие за свою деятельность снискали одобрение, но в изложении своих взглядов были неискусны. Мне же предстоит не установить свои собственные, новые, мною самим придуманные положения, а по памяти привести беседу между прославленными мудрейшими мужами нашего государства, принадлежавшими к одному поколению. О этой беседе мне и тебе 43 в наши юные годы сообщил Публий Рутилий Руф, когда мы провели вместе с ним в Смирне несколько дней, причем он, по моему мнению, не пропустил ничего такого, что имело большое значение для этого вопроса в целом.
(IX, 14) Когда, в консульство Тудитана и Аквилия, знаменитый Публий Африканский, сын Павла, проводил дни Латинских празднеств44 в своей загородной усадьбе, а его ближайшие друзья обещали ему часто навещать его в эти дни, во время самих празднеств к нему рано утром первым явился Квинт Туберон, сын его сестры. С радостью увидев его, Сципион ласково сказал: «Что же ты, Туберон, так рано?45 Ведь эти празднества, пожалуй, дали тебе полную возможность предаться своим литературным занятиям».
ТУБЕРОН. – Книги мои в моем распоряжении в любое время; ведь они никогда не бывают заняты; но застать тебя на досуге – дело непростое, тем более при нынешних волнениях в государстве46.
СЦИПИОН. – Но ты все-таки меня застал, однако, клянусь Геркулесом, на досуге скорее от дел, чем от размышлений.
ТУБЕРОН. – Все же тебе следует отдохнуть также и помыслами. Ведь мы – а нас много – готовы (если только это тебе приятно) воспользоваться вместе с тобой этим досугом, как мы и намеревались.
СЦИПИОН. – Я, конечно, буду рад, что мы, наконец, сможем вспомнить кое-что из философских учений.
(X, 15) ТУБЕРОН. – И вот, так как ты как бы приглашаешь меня и подаешь мне надежду на твое участие, то не согласишься ли ты, Публий Африканский, чтобы мы, пока соберутся остальные, сперва поговорили о втором солнце47, о котором было доложено в сенате? Ведь нашлось немало и притом далеко не легковерных людей, которые, по их словам, видели два солнца, так что следует не столько отказывать им в доверии, сколько искать объяснения этому явлению.
СЦИПИОН. – Как я сожалею о том, что среди нас нет нашего Панэтия!48 Ведь он склонен тщательнейшим образом изучать, помимо других вопросов, также и эти небесные явления. Но я (тебе, Туберон, я скажу откровенно, что́ думаю) во всем этом вопросе не вполне согласен с этим нашим другом, который утверждает, что все то, свойства чего мы можем только предполагать на основании догадок, он воочию видит и чуть ли не трогает рукой. Тем бо́льшую мудрость склонен я признавать за Сократом, так как он отказался от всякого стремления постигнуть все это и заявил, что вопросы о явлениях природы либо недоступны человеческому разуму, либо не имеют отношения к жизни людей49.
(16) ТУБЕРОН. – Не понимаю, Публий Африканский, почему нам сообщают, что Сократ вообще отказался рассуждать об этом и был склонен рассматривать вопросы только о жизни и нравах людей. Можем ли мы сослаться на более авторитетное свидетельство о нем, чем свидетельство Платона? Ведь в книгах Платона, во многих местах, Сократ, рассуждая о нравах и добродетелях и даже о государстве, все же старается связать с этими вопросами числа, геометрию и гармонию, следуя Пифагору50.
СЦИПИОН. – То, что ты говоришь, – правильно, но ты, Туберон, думается мне, слыхал, что после смерти Сократа Платон, для приобретения знаний, поспешил сперва в Египет, а затем в Италию и Сицилию, чтобы тщательно изучить открытия Пифагора, что он много общался с Архитом Тарентским и с Тимеем Локрийским51, раздобыл записи Филолая и, так как в те времена слава Пифагора была велика в этой стране, общался с его учениками и посвятил себя этим занятиям. Поэтому, так как он глубоко почитал Сократа и был готов приписать ему все, он и сочетал в себе обаяние и тонкость рассуждений Сократа со свойственной Пифагору темнотой и его хорошо известной глубиной в большинстве областей знания.
(XI, 17) Сказав это, Сципион вдруг увидел, что к ним идет Луций Фурий. Поздоровавшись с Фурием, Сципион дружески взял его за руку и предоставил ему место на своем ложе. А когда в это же время пришел Публий Рутилий, сообщивший нам об этой беседе, Сципион, поздоровавшись также и с ним, предложил ему сесть рядом с Тубероном.
ФУРИЙ. – Что вы обсуждаете? Неужели наш приход прервал вашу беседу?
Да нет же, – сказал Публий Африканский, – ведь ты усердно занимаешься вопросами этого рода, которые Туберон недавно начал изучать; что касается нашего друга Рутилия, то он даже под стенами Нуманции не раз беседовал со мною о таких вещах.
О чем же была речь? – спросил Фил.
СЦИПИОН. – Об этих двух солнцах. Я очень хотел бы, Фил, узнать твое мнение о них.
(XII, 18) Едва Сципион сказал это, как молодой раб возвестил, что к нему направляется Лелий, который уже вышел из дому. Тогда Сципион, надев башмаки и верхнее платье 52, вышел из спальни и, походив некоторое время по портику53, встретил приближавшегося к нему Лелия и сопровождавших его Спурия Муммия, которого он очень любил, и Гая Фанния и Квинта Сцеволу, зятьев Лелия, образованных молодых людей в возрасте квесториев54. Поздоровавшись с ними всеми, Сципион повернул назад по портику и повел Лелия рядом с собой; ибо в их дружбе соблюдалось своего рода правило: в походах Лелий как бога почитал Публия Африканского за его исключительную военную славу, дома же Сципион, в свою очередь, как отца, чтил Лелия, старшего летами. Затем, после того, как они немного походили взад и вперед по портику, причем Сципион испытывал огромную радость от их прихода, им захотелось, так как время было зимнее, посидеть на лугу, ярко освещенном солнцем. Когда они уже собирались это сделать, к ним подошел Маний Манилий, сведущий муж, к которому все они относились с большим расположением и любовью. Сципион и другие встретили его дружескими приветствиями, и он сел рядом с Лелием.
(XIII, 19) ФИЛ. – Не вижу причины, почему мы из-за прихода друзей должны искать другого предмета для беседы. Думаю, что нам следует обсудить этот вопрос более тщательно и высказать нечто достойное их внимания.
ЛЕЛИЙ. – Что именно вы обсуждали, вернее, о чем была беседа, которую мы прервали?
ФИЛ. – Сципион спросил меня, каково мое мнение насчет того, что были видны два солнца, как все знают.
ЛЕЛИЙ. – Что ты, Фил? Разве мы уже изучили все то, что относится к нашим домашним делам и к государству, и потому хотим знать, что́ происходит на небе?
ФИЛ. – Неужели ты не считаешь для нас важным знать, что́ происходит и совершается в доме, которым является не пространство, ограниченное нашими стенами, а весь этот мир, данный нам богами как жилище и общее с ними отечество55, – тем более что, если мы не будем знать всего этого, мы окажемся несведущими во многих и притом важных вопросах? Но ведь меня да и тебя самого, клянусь Геркулесом, Лелий, и всех жаждущих мудрости радует само познание и рассмотрение.
(20) ЛЕЛИЙ. – Я не против этого, тем более что теперь дни у нас праздничные. Можем ли мы, однако, что-нибудь послушать или же мы пришли чересчур поздно?
ФИЛ. – Пока еще мы ничего не обсудили, и так как мы еще не начинали, то я охотно дам тебе, Лелий, возможность высказать свое мнение.
ЛЕЛИЙ. – Да нет же, послушаем тебя, если только Манилий не сочтет нужным составить интердикт насчет двух солнц, – дабы они владели небом по тому праву, по какому каждое из них вступило во владение56.
МАНИЛИЙ. – А ты, Лелий, не перестаешь издеваться над той наукой, в которой, во-первых, ты сам превосходишь других, и без которой, во-вторых, никто не может знать, что́ принадлежит ему и что чужое? Но об этом – немного погодя. Теперь послушаем Фила, которого, вижу я, спрашивают о вещах более важных, чем те, о каких советуются со мной или с Публием Муцием57.
(XIV, 21) ФИЛ. – Я не сообщу вам ничего нового или придуманного или открытого мною самим. Ведь я помню, как Гай Сульпиций Галл58, ученейший человек, как вы знаете, когда была речь о таком же наблюдении, а он случайно был в доме у Марка Марцелла, который вместе с ним когда-то был консулом, велел принести сферу, которую дед Марка Марцелла, завоевав Сиракузы, вывез из этого богатейшего и роскошно украшенного города, в то же время не доставив оттуда в свой дом ни одного другого предмета из столь значительной военной добычи. Хотя я очень часто слыхал рассказы об этой сфере, так как с ней было связано славное имя Архимеда59, сама она не особенно нравилась мне; более красива и более известна в народе была другая сфера, созданная этим же Архимедом, которую тот же Марцелл отдал в храм Доблести60. (22) Но когда Галл начал с большим знанием дела объяснять нам устройство этого прибора, я пришел к заключению, что сицилиец обладал дарованием бо́льшим, чем то, каким может обладать человек. Ибо Галл сказал, что та другая, сплошная сфера без пустот была изобретена давно и что такую сферу впервые выточил Фалес Милетский61, а затем Евдокс Книдский62, по его словам, ученик Платона, начертал на ней положение созвездий и звезд, расположенных на небе; что спустя много лет Арат 63, руководясь не знанием астрологии, а, так сказать, поэтическим дарованием, воспел в стихах все устройство сферы и положение светил на ней, взятое им у Евдокса. Но – сказал Галл – такая сфера, на которой были бы представлены движения солнца, луны и пяти звезд, называемых странствующими и блуждающими64, не могла быть создана в виде сплошного тела; изобретение Архимеда изумительно именно тем, что он придумал, каким образом, при несходных движениях, во время одного оборота сохранить неодинаковые и различные пути. Когда Галл приводил эту сферу в движение, происходило так, что на этом шаре из бронзы луна сменяла солнце в течение стольких же оборотов, во сколько дней она сменяла его на само́м небе, вследствие чего и на небе сферы происходило такое же затмение солнца, и луна вступала в ту же мету65, где была тень земли, когда солнце из области… [Лакуна]
(XV, 23) СЦИПИОН. – …так как я и сам почитал этого человека, и знал, что отец мой Павел66 особенно уважал и любил его. Помнится, в моей ранней юности, когда мой отец, в то время консул, находился в Македонии и мы стояли лагерем, наше войско было охвачено суеверным страхом вследствие того, что в ясную ночь яркая и полная луна вдруг затмилась. Тогда Галл, бывший нашим легатом – приблизительно за год до того, как его избрали в консулы, – на другой день не поколебался во всеуслышание объявить, что это вовсе не было знамением и произошло и всегда будет происходить через определенное время – тогда, когда солнце окажется в таком месте, что его свет не сможет достигнуть луны.
Правда? – спросил Туберон, – он смог объяснить это, можно сказать, невежественным людям и перед неискушенными решился выступить с такой речью?
СЦИПИОН. – Да, и он сделал это с большой… [пользой для нашего войска.]
(24) …и это не было ни дерзкой похвальбой, ни словами, не подобающими человеку, занимающему высшее положение; ведь он достиг большого успеха, заставив встревоженных людей отбросить пустой суеверный страх.
(XVI, 25) Нечто подобное, по преданию, произошло и во время той величайшей войны, которую афиняне и лакедемоняне вели между собой, напрягая все свои силы67: знаменитый Перикл68, первый в своем государстве по авторитету, красноречию и мудрости, когда солнце померкло и внезапно наступила тьма, а афинян охватил ужас, будто бы объяснил согражданам то, что сам он узнал от Анаксагора69, чьим учеником он был, – что это происходит в определенное время и неизбежно всякий раз, когда вся луна заслоняет нам круг солнца; вот почему это, хотя бывает, правда, не в каждое новолуние, возможно только в определенные новолуния. Рассмотрев этот вопрос и дав объяснения, он избавил людей от страха, охватившего их; ибо это было необычное и в те времена неизвестное объяснение – что затмение солнца происходит вследствие промежуточного положения луны; как говорят, первый это открыл Фалес Милетский. Впоследствии это не ускользнуло от внимания нашего Энния; как он пишет, на триста пятидесятом году по основании Рима.
Ночь и луна закрыли солнце в июньские ноны70.
И в этом вопросе достигнута такая точность расчетов, что, начиная с того дня, как мы видим, указанного Эннием и записанного в «Больших анналах»71, было вычислено время предшествовавших затмений солнца, начиная с того, которое в квинтильские ноны произошло в царствование Ромула среди этого мрака природа, правда, похитила Ромула, с тем чтобы он окончил свое человеческое существование, но его доблесть, говорят, вознесла его на небо72.
(XVII, 26) ТУБЕРОН. – Не правда ли, Публий Африканский, то, насчет чего у тебя совсем недавно было иное мнение, …
[Лакуна] СЦИПИОН. – …то, что могут видеть другие. Но что может считать великим в делах человеческих тот, кто обозрел эти царства богов, или же долговременным тот, кто познал, что́ вечно, или же достославным тот, кто увидел, как мала земля – прежде всего земля в целом, а затем та часть ее, которую населяют люди? Ведь по ней, как надеемся мы, утвердившиеся на ее незначительной части, хотя и совершенно неизвестные большинству племен, имя наше должно летать и широко распространяться. (27) Но сколь счастливым следует находить человека, не склонного ни считать, ни называть богатствами ни земельные угодья, ни постройки, ни скот, ни неизмеримые запасы серебра и золота, так как выгода от них кажется ему ничтожной, польза – малой, права собственности – ненадежными, причем часто всем этим, не зная меры, владеют самые дурные люди! Ведь ему одному действительно дозволено не на основании квиритского права73, а на основании права мудрых притязать на это, как на свою собственность, и притом в силу не гражданского обязательства74, а общего для всех естественного закона, запрещающего, чтобы какая бы то ни было вещь принадлежала кому-либо, кроме людей, умеющих с ней обращаться и ею пользоваться. Каким счастливым следует считать человека, полагающего, что империй и наши консульские полномочия следует брать на себя для совершения дел необходимых, а не желательных, что их следует добиваться ради выполнения долга, а не ради наград или славы75; словом – человека, который может сказать о себе то же, что, как пишет Катон, говаривал дед мой Публий Африканский76, – что он никогда не делает больше, чем тогда, когда не делает ничего, и никогда не бывает менее один, чем тогда, когда он один. (28) Ибо кто действительно поверит, что Дионисий77, отняв с величайшими усилиями у своих сограждан свободу, достиг чего-то большего, чем его согражданин Архимед, изготовив эту самую, уже упомянутую нами, сферу, когда он, казалось, ничего не делал? Но кто не согласится с тем, что люди, у которых нет никого, с кем они, находясь в толпе, заполняющей форум, хотели бы поговорить78, более одиноки, чем те, которые, не подвергаясь ничьему суду, беседуют сами с собой или как бы присутствуют в собрании ученейших людей, наслаждаясь их открытиями и сочинениями? Поистине, кто сочтет кого-либо более богатым, чем человека, не испытывающего недостатка ни в чем таком, чего требует его природа, или более могущественным, чем человека, достигающего всего того, к чему он стремится, или более счастливым, чем человека, избавленного от всяческих душевных волнений79, или более удачливым, чем того, кто владеет лишь таким имуществом, которое он, как говорится, может унести с собой даже после кораблекрушения?80 И какой империй, какие магистратуры, какую царскую власть возможно предпочесть положению, когда человек, презирая все человеческое и находя это менее ценным, чем мудрость81, не помышляет ни о чем, кроме вечного и божественного, и убежден в том, что, хотя другие и именуются людьми, но люди – только те, чей ум изощрен в знаниях, свойственных просвещенному человеку? (29) Таким образом, известные слова Платона (а может быть, это сказал и кто-нибудь другой) кажутся мне весьма удачными. Когда буря вынесла его из открытого моря к берегам неизвестной ему страны и выбросила на пустынный берег, то он, между тем как его спутники были объяты страхом, не зная, куда они попали, говорят, обнаружил начертанные на песке какие-то геометрические фигуры; заметив их, он воскликнул, что спутники его могут быть спокойны, так как он видит признаки присутствия людей; он, очевидно, усмотрел их в наличии не посевов, а признаков учености. Вот почему, Туберон, мне были всегда по душе и ученость, и образованные люди, и твои занятия.
(XVIII, 30) ЛЕЛИЙ. – Я не решаюсь, Сципион, в ответ на это сказать, что ты, или Фил, или Манилий в такой мере… [Лакуна]
ЛЕЛИЙ. – …к роду его отца принадлежал наш известный друг, достойный подражания, —
Редкостный ум и опыт в делах – таков был Секст Элий82.
Ведь человеком редкостного ума и опытным в делах Энний назвал его не потому, что Секст Элий искал того, чего никогда не мог бы найти, но потому, что он давал ответы, избавлявшие тех, кто его спрашивал, от забот и затруднений, а когда Секст Элий осуждал занятия Галла83, то у него на устах всегда были известные слова Ахилла из «Ифигении»84:
Астрологов знаки в небе, смысл их он понять желает:
Капра, Скорпион восходят, с ними и другие звери.
Что́ у ног, никто не видит, озирает страны неба.
Однако этот же муж (ведь я подолгу и охотно слушал его) говорил, что известный Зет у Пакувия85 относился к учености чересчур враждебно; ему больше был по душе Неоптолем у Энния, говоривший, что «философствовать он хочет, но немного, так как вообще это ему не нравится»86. Но, хотя учения греков так нравятся вам, существуют и другие, более простые и более доступные всем, и мы можем применять их либо в своей частной жизни, либо с пользой для государства. А ваши науки, если они чего-нибудь и сто́ят, то только в том отношении, что они немного обостряют и как бы изощряют умы молодежи, чтобы ей было легче изучать более важные вопросы.
(XIX, 31) ТУБЕРОН. – Не спорю с тобой, Лелий, но хотел бы знать, что́ ты считаешь более важным.
ЛЕЛИЙ. – Скажу это, клянусь Геркулесом, и ты, пожалуй, станешь меня презирать, так как именно ты спросил Сципиона об этих небесных явлениях. Но я полагал бы, что больше следует изучать то, что, как нам кажется, находится перед нашими глазами. И в самом деле, почему внук Луция Павла87, родившийся в знатнейшей ветви рода и в нашем столь славном государстве, в присутствии этого вот своего дяди спрашивает здесь, каким образом были видны два солнца, но не спрашивает, почему в одном государстве существуют два сената и, можно сказать, два народа? Ибо, как вы видите, смерть Тиберия Гракха и еще раньше все его стремления как трибуна88 разделили единый народ на две части. А хулители и завистники Сципиона, после того, как этому положили начало Публий Красс89 и Аппий Клавдий90, даже после их смерти поддерживают в одной части сената несогласие с вами, причем этим руководят Метелл 91 и Публий Муций, а этому вот человеку92, который один в силах это сделать, они, подняв союзников и латинян93, нарушив союзные договоры, не позволяют оказать государству помощь, когда мятежные триумвиры94 изо дня в день замышляют перевороты, а честные мужи находятся в смятении из-за столь опасных событий. (32) Поэтому, если вы, юноши, меня послушаетесь, вы не станете бояться второго солнца; ведь оно либо не может существовать, либо, пусть даже существует, – раз его видели, – только бы оно не было людям в тягость; либо мы не состоянии познать это, а если и приобретем величайшие познания, все же, благодаря этим знаниям, не сможем стать ни лучше, ни счастливее. Но то, чтобы у нас были один сенат и один народ95, – осуществимо, и очень огорчительно, если этого нет, а что этого действительно нет, мы знаем и понимаем, что мы, если это будет достигнуто, сможем жить лучше и счастливее.
(XX, 33) МУЦИЙ. – Что же мы, по твоему мнению, Лелий, должны изучать, чтобы быть в состоянии совершать именно то, чего ты от нас требуешь?
ЛЕЛИЙ. – Такие науки, которые могут сделать нас полезными государству; ибо это, по моему мнению, самая славная задача мудрости и величайшее проявление доблести и ее обязанность. Поэтому для того, чтобы эти праздничные дни были нами посвящены беседам, полезнейшим для государства, попросим Сципиона нам разъяснить, какое государственное устройство он считает наилучшим. Затем рассмотрим и другие вопросы. Обсудив их, мы, надеюсь, постепенно дойдем до нынешнего положения вещей и разберем сущность того, что нам теперь предстоит рассмотреть.
(XXI, 34) Когда Фил, Манилий и Муммий это вполне одобрили, … [Лакуна]
Не существует образца, с которым мы предпочли бы сравнить государство (Диомед).
… поэтому спустись, пожалуйста, в своей речи с неба и обратись к этим, более близким вещам. (Ноний, 85, 19).
ЛЕЛИЙ. – …я пожелал этого не только потому, что было бы разумно, чтобы о государстве говорил первенствующий в нем человек, но также и потому, что ты, как я помню, очень часто рассуждал об этом с Панэтием в присутствии Полибия96 (а оба эти грека были, пожалуй, самыми искушенными в вопросах государственного устройства), и ты приводил много соображений и учил, что наилучшим является государственный строй, оставленный нам предками. Так как ты подготовлен к такому рассуждению лучше, чем мы, то ты (скажу также и от лица присутствующих), изложив нам свое мнение о государстве, обяжешь всех нас.
(XXII, 35) СЦИПИОН. – Я, право, должен сказать, что я никаким иным размышлениям не предаюсь столь усердно и охотно, как именно этим, о которых ты, Лелий, мне говоришь. И право, когда я вижу, что всякий выдающийся мастер своего дела направляет все свои думы, помыслы и заботы только на то, чтобы лучше овладеть им, то, коль скоро мои родители и предки оставили мне одно это занятие – заботы о государстве и управление им97, не придется ли мне признать, что я менее деятелен, чем любой мастер, если к величайшему искусству приложу меньше труда, чем тот труд, какой мастера прилагают к самым малым? (36) Но я и не удовлетворен теми сочинениями по этому вопросу, какие нам оставили выдающиеся и мудрейшие люди Греции, и не решаюсь ставить свои взгляды выше их воззрений. Поэтому прошу вас слушать меня как человека, и не совсем чуждого учения греков, и не предпочитающего их нашим, – тем более в этом вопросе, – но как одного из носящих тогу98, получившего благодаря заботам отца весьма широкое образование и уже в отрочестве загоревшегося стремлением к учению, однако изощрившего свой ум гораздо больше благодаря своей деятельности и наставлениям, полученным дома, чем благодаря чтению книг.
(XXIII, 37) ФИЛ. – Я, клянусь Геркулесом, не сомневаюсь, что тебя, Сципион, умом не превзошел никто; опытом своим в важнейших делах государства ты превыше всех; каким занятиям ты себя всегда посвящал, мы знаем. Поэтому если ты, по твоим словам, направил также и помыслы свои на эту науку и как бы искусство, то я глубоко благодарен Лелию; ибо надеюсь, что сказанное тобою будет для нас гораздо полезнее, чем все, написанное греками.
СЦИПИОН. – Право, ты возлагаешь на мои слова огромные надежды – тяжелейшее бремя для всякого, кто будет говорить о важных вещах.
ФИЛ. – Хотя мы и питаем великие надежды, ты все же их превзойдешь, по своему обыкновению. Ибо не приходится опасаться, что тебе, когда ты станешь рассуждать о государстве, изменит красноречие.
(XXIV, 38) СЦИПИОН. – Я исполню ваше желание, как сумею, и приступлю к рассуждению, руководясь правилом, которым, полагаю, следует руководствоваться при обсуждении всех предметов, если хотят избегнуть ошибки: если насчет названия предмета исследования все согласны, то надо разъяснить, что́ именно обозначают этим названием; если насчет этого тоже согласятся, то только тогда будет дозволено приступить к беседе; ибо никогда нельзя будет понять свойства обсуждаемого предмета, если сначала не понять, что́ он собой представляет. Поэтому, так как мы исследуем вопрос о государстве, рассмотрим сперва, что́ собой представляет именно то, что мы исследуем.
Когда Лелий это одобрил, Публий Африканский сказал:
Но я, рассуждая о предмете, столь знаменитом и столь известном, не стану обращаться к тем первоначалам, из которых в подобных вопросах обыкновенно исходят ученые люди, и мне незачем начинать с первой встречи между мужчиной и женщиной99, затем говорить о продолжении рода и каждый раз определять сущность предмета и то, какими способами возможно обозначить его отдельные свойства. Так как я говорю перед людьми просвещенными, в походах и на родине вершившими важными делами государства, то я постараюсь, чтобы моя беседа была не менее ясной, чем тот предмет, о котором я рассуждаю. Ведь я не брал на себя задачи подробно изложить все до конца, как это делает школьный учитель, и не обещаю, что в этой беседе не будет пропущена ни одна мелочь.
ЛЕЛИЙ. – Я, со своей стороны, жду именно такого изложения, какое ты нам обещаешь.
(XXV, 39) СЦИПИОН. – Итак, государство есть достояние народа100, а народ не любое соединение людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и общностью интересов. Первой причиной для такого соединения людей является не столько их слабость101, сколько, так сказать, врожденная потребность жить вместе102. Ибо человек не склонен к обособленному существованию и уединенному скитанию, но создан для того, чтобы даже при изобилии всего необходимого не… [удаляться от подобных себе.]
И чтобы сама природа к этому не только призывала, но также и принуждала (Ноний, 321, 16).
(40) Что такое государство, как не достояние народа? Итак, достояние общее, достояние, во всяком случае, гражданской общины. Но что такое гражданская община, как не множество людей, связанных согласием? У римских авторов мы читаем:
Вскоре множество людей, рассеявшихся по земле и скитавшихся по ней, благодаря согласию превратилось в гражданскую общину (Августин, Послания, 138, 10).
Усматривали не единственную причину для закладки города. Одни говорят, что люди, первоначально происшедшие из земли, блуждая по лесам и полям, не будучи связаны друг с другом ни речью, ни правом и пользуясь ветками и травой как ложем, а пещерами и ямами – как домами, оказывались добычей диких зверей и более сильных животных; затем, что те люди, которые спаслись, хотя и получили ранения, и видели, как их близкие были растерзаны зверями, присоединились, поняв грозившую им опасность, к другим людям и молили их о защите; вначале они объяснялись знаками, затем стали делать первые попытки говорить; потом они, давая названия тем или иным отдельным вещам, понемногу усовершенствовались в своей речи. Видя, что им не защитить народа от диких зверей, они начали даже строить города, дабы обеспечить себе покой ночью и отвращать нападения диких зверей, не вступая с ними в схватки, а строя валы. (18) Иным людям это объяснение показалось нелепым, каким оно и было, и они говорили, что причиной объединения был не страх быть растерзанным дикими зверями, но скорее сама человеческая природа, и что объединились они потому, что человеческая природа избегает одиночества и стремится к общению и союзу (Лактанций, «Institutiones divinae», VI, 10, 13–15, 18).
(XXVI, 41) … [Ибо, не будь у человека], так сказать, семян [справедливости], не возникло бы ни других доблестей, ни самого́ государства. Итак, эти объединения людей, образовавшиеся по причине, о которой я уже говорил, прежде всего выбрали для себя в определенной местности участок земли, чтобы жить на нем. Использовав естественную защиту и оградив его также и искусственно, они назвали такую совокупность жилищ укреплением, или городом, устроили в нем святилища и общественные места.
Итак, всякий народ, представляющий собой такое объединение многих людей, какое я описал, всякая гражданская община, являющаяся народным установлением, всякое государство, которое, как я сказал, есть народное достояние, должны, чтобы быть долговечными, управляться, так сказать, советом, а совет этот должен исходить прежде всего из той причины, которая породила гражданскую общину. (42) Далее, осуществление их следует поручать либо одному человеку, либо нескольким выборным или же его должно на себя брать множество людей, то есть все граждане. И вот, когда верховная власть находится в руках у одного человека, мы называем этого одного царем, а такое государственное устройство – царской властью. Когда она находится в руках у выборных, то говорят, что эта гражданская община управляется волей оптиматов. Народной же (ведь ее так и называют) является такая община, в которой все находится в руках народа103. И каждый из трех видов государства – если только сохраняется та связь, которая впервые накрепко объединила людей ввиду их общего участия в создании государства, – правда, не совершенен и, по моему мнению, не наилучший, но он все же терпим, хотя один из них может быть лучше другого. Ибо положение и справедливого и мудрого царя, и избранных, то есть первенствующих граждан, и даже народа (впрочем, последнее менее всего заслуживает одобрения) все же, – если только этому не препятствуют несправедливые поступки или страсти, – по-видимому, может быть вполне прочным.
(XXVII, 43) Но при царской власти все прочие люди совсем отстранены от общего для всех законодательства и принятия решений, да и при господстве оптиматов народ едва ли может пользоваться свободой, будучи лишен какого бы то ни было участия в совместных совещаниях и во власти, а когда все вершится по воле народа, то, как бы справедлив и умерен он ни был, все-таки само равенство это не справедливо, раз при нем нет ступеней в общественном положении. Поэтому хотя знаменитый перс Кир104 и был справедливейшим и мудрейшим царем, все же к такому «достоянию народа» (а это, как я уже говорил, и есть государство), видимо, не стоило особенно стремиться, так как государство управлялось мановением и властью одного человека. Если массилийцами, клиентами нашими105, с величайшей справедливостью правят выборные и притом первенствующие граждане, то все-таки такое положение народа в некоторой степени подобно рабству. Если афиняне в свое время, отстранив ареопаг106, вершили всеми делами только на основании постановлений и решений народа, то, так как у них не было определенных ступеней общественного положения, их община не могла сохранить своего блеска.
(XXVIII, 44) И я говорю это о трех видах государственного устройства, если они не нарушены и не смешаны один с другим, а сохраняют черты, свойственные каждому из них. Прежде всего, каждый из этих видов государственного устройства обладает пороками, о которых я уже упоминал; далее, ему присущи и другие пагубные пороки; ибо из указанных видов устройства нет ни одного, при котором государство не стремилось бы по обрывистому и скользкому пути к тому или иному несчастью, находящемуся невдалеке от него. Ведь в упомянутом мною царе, терпимом и, если хотите, достойном любви, – Кире (назову именно его) – скрывается, так как он волен изменять свои намерения, всем известный жесточайший Фаларид107, по образцу правления которого единовластие скользит вниз по наклонному пути и притом легко. К знаменитому управлению государством, осуществлявшемуся в Массилии малым числом первенствовавших людей, близко стоит сговор клики тридцати мужей, некогда правившей в Афинах108. Что полновластие афинского народа, когда оно превратилось в безумие и произвол толпы, оказалось пагубным, …[показали дальнейшие события.]
(XXIX, 45) [Лакуна] …[государственное устройство] наихудшее, и из этой [формы правления] обыкновенно возникает правление оптиматов, или тиранической клики, или царское, или (даже весьма часто) народное и опять-таки из него – один из видов правления, упомянутых мною ранее, и изумительны бывают круги и как бы круговороты перемен и чередований событий в государстве109. Если знать их – дело мудрого, то предвидеть их угрозу, находясь у кормила государства, направляя его бег и удерживая его в своей власти, – дело, так сказать, великого гражданина и, пожалуй, богами вдохновленного мужа. Поэтому я и считаю заслуживающим наибольшего одобрения, так сказать, четвертый вид государственного устройства, так как он образован путем равномерного смешения трех его видов, названных мною ранее110.
(XXX, 46) ЛЕЛИЙ. – Я знаю, что таково твое мнение, Публий Африканский! Ибо я часто слыхал это от тебя. И все же, если это тебе не в тягость, я хотел бы узнать, какой из этих трех видов государственного устройства ты находишь наилучшим. Ведь будет полезно для понимания… [Лакуна]
(XXXI, 47) СЦИПИОН. – … и каждое государство таково, каковы характер и воля того, кто им правит111. Поэтому только в таком государстве, где власть народа наибольшая, может обитать свобода; ведь приятнее, чем она, не может быть ничего, и она, если она не равна для всех, уже и не свобода. Но как может она быть равной для всех, уж не говорю – при царской власти, когда рабство даже не прикрыто и не вызывает сомнений, но и в таких государствах, где на словах свободны все? Граждане, правда, подают голоса, предоставляют империй и магистратуры, их по очереди обходят, добиваясь избрания112, на их рассмотрение вносят предложения, но ведь они дают то, что должны были бы давать даже против своего желания, и они сами лишены того, чего от них добиваются другие; ведь они лишены империя, права участия в совете по делам государства113, права участия в судах, где заседают отобранные судьи114, лишены всего того, что зависит от древности и богатства рода. А среди свободного народа, как, например, родосцы115 или афиняне116, нет гражданина, который… [сам не мог бы занять положения, какое он предоставляет другим.] [Лакуна]
(XXXII, 48) …когда в народе находился один или несколько более богатых и более могущественных человек, тогда – говорят они117 – из-за их высокомерия и надменности118 и создавалось вышеуказанное положение, так как трусы и слабые люди уступали богатым и склонялись перед их своеволием. Но если народ сохраняет свои права, то – говорят они – это наилучшее положение, сама свобода, само благоденствие, так как он – господин над законами, над правосудием, над делами войны и мира, над союзными договорами, над правами каждого гражданина и над его имуществом119. По их мнению, только такое устройство и называется с полным основанием государством, то есть достоянием народа. Поэтому, по их словам, «достояние народа» обычно освобождается от владычества царей и «отцов», но не бывает, чтобы свободные народы искали для себя царей или власти и могущества оптиматов. (49) И право, говорят они, ввиду пагубных последствий, связанных с необузданностью народа, не следует отвергать вообще всего этого вида свободы для народа; нет ничего более неизменного и более прочного, чем народ согласный и во всем сообразующийся со своей безопасностью и свободой; но легче всего согласие это достижимо в таком государстве, где всем полезно одно и то же; из различия интересов, когда одному подходит одно, а другому другое, возникают раздоры120; поэтому, когда властью завладевали «отцы», государственный строй никогда не бывал прочен; но еще менее бывает так при царской власти, когда, по утверждению Энния121,
… ни общности во власти нет священной, ни верности.
Поэтому, если закон есть связующее звено гражданского общества122, а право, установленное законом, одинаково для всех, то на каком праве может держаться общество граждан, когда их положение не одинаково? И в самом деле, если люди не согласны уравнять имущество, если умы всех людей не могут быть одинаковы, то, во всяком случае, права граждан одного и того же государства должны быть одинаковы. Да и что такое государство, как не общий правопорядок?
(XXXIII, 50) …[Лакуна] …А остальные государства, по их мнению, не следует называть теми именами, какими они сами желают называться. И в самом деле, почему мне называть царем – по имени Юпитера Всеблагого – человека, жаждущего владычества и исключительного империя и властвующего над народом, угнетаемым им, а не называть его тираном?123 Ведь и тиран может быть милосерден в такой же мере, в какой царь нестерпим, так что для народов имеет значение лишь одно: у милостивого ли властителя они в рабстве или у сурового; но совсем не быть в рабстве они не могут. Каким же образом прославленному Лакедемону в те времена, когда его государственное устройство считалось образцовым, удавалось обладать хорошими и справедливыми царями, если приходилось иметь царем всякого, кто только происходил из царского рода?124 Далее, кто стал бы терпеть оптиматов, которые присвоили себе это наименование не с согласия народа, а в своих собственных собраниях? В самом деле, на каком основании человека признают «наилучшим»?125 Ввиду его образования, интереса к наукам, стремлений… [Лакуна]
(XXXIV, 51) Если [государство] будет руководиться случайностью, оно погибнет так же скоро, как погибнет корабль, если у кормила встанет рулевой, назначенный по жребию из числа едущих126. Поэтому если свободный народ выберет людей, чтобы вверить им себя, – а выберет он, если только заботится о своем благе, только наилучших людей, – то благо государства, несомненно, будет вручено мудрости наилучших людей127 – тем более что сама природа устроила так, что не только люди, превосходящие других своей доблестью и мужеством, должны главенствовать над более слабыми, но и эти последние охотно повинуются первым.
Но это наилучшее государственное устройство, по их словам, было ниспровергнуто вследствие появления превратных понятий у людей, которые, не зная доблести (ведь она – удел немногих, и лишь немногие видят и оценивают ее), полагают, что богатые и состоятельные люди, а также и люди знатного происхождения – наилучшие. Когда, вследствие этого заблуждения черни, государством начинают править богатства немногих128, а не доблести, то эти первенствующие люди держатся мертвой хваткой за это наименование – оптиматов, но в действительности не заслуживают его. Ибо богатство, знатность, влияние – при отсутствии мудрости и умения жить и повелевать другими людьми – приводят только к бесчестию и высокомерной гордости, и нет более уродливой формы правления, чем та, при которой богатейшие люди считаются наилучшими. (52) А что может быть прекраснее положения, когда государством правит доблесть; когда тот, кто повелевает другими, сам не находится в рабстве ни у одной из страстей129, когда он проникся всем тем, к чему приучает и зовет граждан, и не навязывает народу законов, каким не станет подчиняться сам, но свою собственную жизнь представляет своим согражданам как закон? И если бы такой человек один мог в достаточной степени достигнуть всего, то не было бы надобности в большом числе правителей; конечно, если бы все сообща были в состоянии видеть наилучшее и быть согласными насчет его, то никто не стремился бы иметь выборных правителей. Но именно трудность принятия решений и привела к переходу власти от царя к большому числу людей, а заблуждения и безрассудство народа – к ее переходу от толпы к немногим. Именно при таких условиях, между слабостью сил одного человека и безрассудством многих, оптиматы и заняли среднее положение, являющееся самой умеренной формой правления. Когда они управляют государством, то, естественно, народы благоденствуют, будучи свободны от всяких забот и раздумий и поручив попечение о своем покое другим, которые должны о нем заботиться и не давать народу повода думать, что первенствующие равнодушны к его интересам. (53) Ибо равноправие, к которому так привязаны свободные народы, не может соблюдаться (ведь народы, хотя они и свободны и на них нет пут, облекают многими полномочиями большей частью многих людей, и в их среде происходит значительный отбор, касающийся и самих людей, и их общественного положения), и это так называемое равенство в высшей степени несправедливо130. И действительно, когда людям, занимающим высшее, и людям, занимающим низшее положение, – а они неминуемо бывают среди каждого народа – оказывается одинаковый почет, то само равенство в высшей степени несправедливо; в государствах, управляемых наилучшими людьми, этого произойти не может. Приблизительно вот это, Лелий, и кое-что в таком же роде обыкновенно и приводят в доказательство люди, особенно превозносящие этот вид государственного устройства.
(XXXV, 54) ЛЕЛИЙ. – А ты, Сципион? Какой из упомянутых тобою трех видов государственного устройства ты одобряешь больше всего?
СЦИПИОН. – Ты с полным основанием спрашиваешь, какой из трех видов государственного устройства наиболее одобряю я; ведь ни одного из них самого по себе, взятого в отдельности, я не одобряю и предпочитаю каждому из них то, что как бы сплавлено из них всех, взятых вместе. Но если бы понадобилось выбрать какой-нибудь один строй в чистом виде, то я одобрил бы царскую власть [и поставил бы ее на первое место.] [Если говорить о видах власти,] названных здесь, то имя царя напоминает мне как бы имя отца, заботящегося о согражданах, как о своих детях, и охраняющего их тщательнее, чем… [Лакуна] …вас поддерживает заботливость одного наилучшего и выдающегося мужа. (55) Но вот встают оптиматы, чтобы заявить, что они делают это же самое лучше, и сказать, что мудрости будет во многих больше, чем в одном, а справедливость и честность та же. А народ, оглушая вас, кричит, что он не согласен повиноваться ни одному, ни немногим, что даже для зверей нет ничего сладостнее свободы, и что ее лишены все те, кто находится в рабстве, независимо от того, чьи они рабы – царя или оптиматов. Так благоволением своим нас привлекают к себе цари, мудростью – оптиматы, свободой – народы, так что при сравнении трудно выбрать, чего можно желать больше всего.
ЛЕЛИЙ. – Разумеется; но, если ты не доведешь своего рассмотрения до конца, нам едва ли удастся разобраться во всем остальном.
(XXXVI, 56) СЦИПИОН. – Итак, уподобимся Арату, который, приступая к рассуждению о важных предметах, считал нужным начинать с Юпитера131.
ЛЕЛИЙ. – Почему с Юпитера? Лучше сказать, какое сходство со стихами Арата имеет наша беседа?
СЦИПИОН. – Лишь такое, что мы с полным основанием можем начать свою речь с того, кого одного и все ученые, и все неученые люди единогласно признают царем всех богов и людей.
Почему? – спросил Лелий.
СЦИПИОН. – По какой же иной причине, как не потому, что это очевидно? Если первенствующие в государствах люди ради житейской пользы заставили всех верить, что на небе есть единственный царь, наклонением головы сотрясающий весь Олимп, как говорит Гомер132