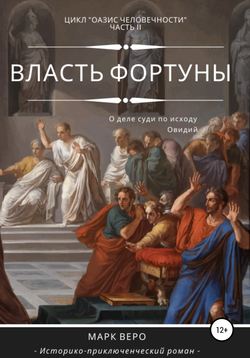Читать книгу Оазис человечности. Часть2. Власть фортуны - Марк Веро - Страница 2
Глава II. ПОПРАННАЯ ЛЮБОВЬ
Оглавление«Всякая любовь истинна и прекрасна по-своему,
лишь бы только она была в сердце, а не в голове»
В.Г.Белинский
Миновали долгие две недели после тех мрачных событий. Они теперь стали тенью, неприятными воспоминаниями, к которым не хотелось возвращаться. Время унесло все, развеяло по земле, как и те холодные ветра, что нескончаемыми ночами носились по городу, подобно дикой обезумевшей толпе.
Быстротечные дни неудержимо промчались мимо. Человек для них оставался всего крохотным муравьем, которого вынесло неугомонной стихией в безбрежный океан, незаметной пылинкой на завораживающей мозаике вселенского храма. Дни унесли с собою в прошлое чувства, мысли и желания, потушили огонь треволнений, что родился из сердца в минуту открытости, терзая его и призывая действовать без промедления. Одно время этот огонь горел, голос сердца звучал – пока к нему прислушивались. Но есть ли сила, что не утихает с течением времени, если к ней привыкаешь и начинаешь попросту не замечать, отказывая во внимании, оставаясь глух к ее крикам? Есть ли сила, что трубила бы беспрерывно, сама себя порождая и находя продолжение в себе самой, имея начало, но не имея конца? Любой вздох, любой пустяк, вздор, глупость, любое слово, любое движение – все, что рождается в человеческом существе, получает свою самостоятельную жизнь. Но можно ли сказать, что эта жизнь будет длиться бесконечно, сама себя продлевая? Все это обретает смысл только на краткий миг бытия и теряет его, когда обрывается дыхание его жизни. Вздох пропадает, движение замирает, слово уносится в неведомые дали, оставляя после себя лишь воспоминания, которые со временем все тускнеют, обесцвечиваются и в один день из-за не востребования канут в глубокую беспроглядную бездну человеческой памяти. Так и звуки сердца, что начала слышать Аврора, затихли незаметно и смиренно, когда молодая женщина отвергла боль и страдания, перешагнула их с былой невозмутимостью, поранив ступни ног. Мелодия души стала едва слышимой.
В один день, в один час гордая девушка отказалась от мучивших ее дум, от терзавших ее мыслей, легкомысленно махнув на них рукой. Непреклонно отвернула от стучавших в ее окно душевных порывов, слезно моливших услышать их наконец. Аврора заперла ставни своего сердца. Жизнь возвращалась на круги своя, в привычную колею. Голоса умолкли. В душе наступило желанное спокойствие. Непостижимая для ума загадка была отброшена с той жестокой изворотливостью, какую она позволяла себе по отношению к своим любовникам. Наступившее затишье было так мило наивной душе, что она даже не бралась вопрошать, как долго оно продлится. Пребывая в беспечности, те далекие дни казались ей теперь надуманными. Дом тети, уличная стычка, тюрьма – то было всего-навсего жутким сном, который не повторится. Она почти убедила себя в том, что все пережитое тогда ей привиделось. Это было не на самом деле. Она отказала воспоминаниям в праве на существование в этом мире среди живых. Таким воспоминаниям одно место: среди тех, кого они не смогут потревожить.
Зима знала за собой одно удивительное свойство: как и раскаленные ассирийские пески, она могла занести все то, что человек хотел забыть, а иногда даже и то, что хотел бы помнить всегда. По невнимательности, досадному упущению, или намеренно, но оброненное мигом заносилось, погребалось под толстыми слоями снега, откуда выбраться не суждено. И само это место затеряется среди однородной массы, погребенное без почестей, без признания заслуг. Неожиданный холод ударил, а снег закружил причудливый хоровод бесконечно долгих дней.
Но Аврора не знала скуки и уныния, которые обычно накатывались морозными темными вечерами, когда беспросветное будущее по своей безнадежности уступает лишь отчаявшемуся настоящему. Непреклонная девушка с холодными гордыми глазами целиком окунулась в мир, полный самонадеянного веселья, беззаботного смеха, пустых разговоров и увлечений. Это ей приносило удовольствие и возможность забыться. Ей казалось, что это удалось сделать.
Девушка вся сгорала от кипучей энергии, что вдруг забила в ней фонтаном, забурлила от безудержных чувств, охвативших все ее трепещущее существо; страсть к мирской жизни заполнила ее, покорила волю. Мелодия души звучала в ней, но с каждым днем, прожитым в пустом удовольствии, становилась все тише и тише.
Но, как и во всяком противостоянии, в борьбе человеческих страстей и стремлений души выпадала счастливая минута, когда сам рок терял власть, и только человеческая воля, неодолимая и могущественная, могла склонить чашу весов в ту или иную сторону. Но для Авроры она еще не наступила. Или она не заметила ее наступление. Вполне могло оказаться, что вся жизнь человеческая состоит из подобных минут, когда решается дальнейшая судьба, когда определяется дальнейший путь. Каждую минуту человек мог незаметно для себя делать выбор, который предопределит его жизнь. Выбор, который или уведет его еще дальше в сторону или приблизит к идеалу. Но такие минуты так не заметны будничному взгляду, привыкшему наблюдать сквозь пальцы за всем происходящим, не замечая ни себя, ни других людей – тех, кто меняют себя, делая свою жизнь лучше или хуже, принося в нее радость или горе.
Солнце давно перевалило за середину неба и приняло, как и то, бурый оттенок. Как-то однообразно оно было сегодня и скучно, но напрасно старалось передать свое настроение Авроре – девушка была бодра и деятельна, как никогда. Она рылась в своей богатой мебели из орехового и вишневого дерева, подбирала благовония и украшения по цвету и форме так, чтобы они подошли к ее притягательному наряду: плотной тунике цвета весны – зеленой с белыми рукавами, оплетенными бахромой и яркими цветистыми узорами; к ослепительно белым сандалиям, что своей чистотой и изыском могли поспорить с самыми изящными лебедями. Ее настолько увлекли наряды, что еще один час пролетел незаметно. Весело смеясь и ни о чем не заботясь, она выпорхнула из своей комнаты.
Аврора бежала по знакомым с детства ступенькам родного дома и радовалась: жизнь не забыла о ней, закружила в танце, и разве можно было остановиться? Воспоминания о нескольких прожитых днях, когда внутри нее что-то пробудилось – это не было ее желанием. А раз так, то этого не могло произойти с ней на самом деле! Она будет меняться только так, как сама того пожелает, станет той, какой сама себя пожелает видеть! И так будет!
Привычные чувствования и видения мира вновь возвращались к ней. Вот и очередное послание от Деметрия, что жаждал с ней встречи непременно сегодня – лишнее тому подтверждение. Драгоценный свиток остался лежать в ее комнате, запрятанный глубоко в сундуке под ее нарядами. Она с упоением и восторгом читала его целое утро, и сейчас глаза ее блестели от осознания собственной важности, от уважения и любви, которые она питала к себе. И этим днем, уже не таким холодным, как прежние, цветы цвели в ее сердце. За окном была зима, но разве чувства человеческие подвластны временам года? Об этом когда-то говорил ей Деметрий.
Она спускалась по широкой лестнице, убранной восточными коврами, глядела на картины древних мастеров, висевшие на стенах, но ее глаза в затейливом узоре их линий читали лишь отдельные строки взволновавшего ее душу письма. Они выплывали внезапно и уносились так же стремительно, как пугливая и робкая лань от глаз охотника.
«Мой ангелочек, мое трепещущее сердце!
Смею ли я к вам обращаться подобным образом, моя богиня, светоч моих дней? Прошло столько времени с той поры, когда я с вами виделся в последний раз, что едва не разуверился: осталась ли подобная почесть за мною? И поверил только благодаря лишь надежде, что родилась от моей безграничной любви к вам, неохватной, как сами звездные просторы, непотопляемой, как бескрайнее море, свободной, как ветры в степи, мечтательной, как сны первого мужчины на земле о своем идеале.
И если существует во вселенной идеал, то этот идеал – вы, моя жизнь, смысл всего моего существования! И все эти одинокие ночи я не видел вас, согреваясь от холода зимы лишь своей любовью к вам. Вы там, я это знаю! Вы помните меня, точно так же, как помню я вас! И все эти недели, показавшиеся бесконечными, я думал только о вас, в мыслях пребывая рядом с вами, играя вашими локонами, слушая ваш ласковый голос. Мне улыбаются ваши глаза, но вот любовь наполняет меня, и мне становится стыдно за себя, за то, что я так несовершенен, за то, что счастье обладать вами по праву могли б познать только боги, но не простые смертные, как я. И мне хочется разделить радость с вами. Одним смиренным взглядом заглянуть в вас и прошептать: «Я с вами, моя страсть! Я всегда буду с вами!» Иногда мне начинает казаться, будто ваши глаза отвечают мне. Вот блеснула искорка, вот две луны поменяли свой обычный обход, обрели величественное, едва уловимое для моего смертного ума, значение. О, как бы мне хотелось читать в вашем сердце! Но я так часто не вижу того, что видите вы, что и я должен был бы увидеть. Но разве мне, обычному смертному, могут быть доступны небеса, где, я уверен, вы обитаете? Но вот незадача! Мне не дано летать, подобно тем искусным грекам, мне не дано вознестись туда с равнодушными ветрами. Я потерял то, что когда-то имел: то счастье, которым владел, и свет этого мира померк, и тьма стала окружать меня повсюду!
Я нахожу свое спасение только в мыслях, где надежда никогда не покидает меня. Мои мысли кружат сейчас вокруг вас, гладят вашу прекрасную руку, опускаются и поднимаются, зовут с собой устремиться в далекие края, забыть обо всем, о напрасной суете жизни, о ненужных думах, о том, над чем мы не властны, и просто радоваться, улыбаться и смеяться! Ликовать, одурманившись ароматом свободы и чувства, не требующего взамен ничего!
Слышите ли вы мой зов? Откликнетесь ли вы на него? Где же вы сейчас? Но где бы вы ни были, можете быть уверенной в одном: в моей вечной и несгораемой любви к вам!
С надеждой, Деметрий».
Аврора выучила эти строки наизусть и, преисполненная самозабвенной радости, забежала к отцу в помещение, намереваясь предупредить его о своей вечерней отлучке, а заодно и повидать – именно поэтому и не стала звать слуг. В последнее время в семье что-то происходило: мать часто пропадает из дома под разными предлогами, отец весь погружен в дела, живет ими и общается со многими людьми, приходящими домой, на какие-то скучные темы; нередко засиживается до поздней ночи, а утром опять спешит на собрание сената – из-за всего этого она вообще перестала его видеть, полностью предоставленная в свое распоряжение, что ее, впрочем, целиком устраивало. Но иногда сердце щемило от какого-то назойливого тревожного предчувствия. Она смеялась над ним и отгоняла подальше от себя, но оно неизменно вновь ею завладевало и в минуты покоя, и в минуты беспечной радости, и в минуты торжества.
Отец был чем-то встревожен, какая-то забота нависла над ним, которая лишала его той уверенной и твердой, как его характер, улыбки. Он всегда при виде своей дочери улыбался: в его жизни это был теплый укромный уголок, но он не умел о нем заботиться. Аврора сразу почувствовала, что что-то не так: с близкими людьми, с которыми живешь долго, а то и всю жизнь, устанавливается какая-то незримая связь, протягиваются какие-то невесомые и невидимые ниточки, которые нельзя затронуть без того, чтобы это не почуяли остальные. В семье это особенно заметно. Любая перемена в настроении, состоянии близкого человека мигом улавливается какой-то частью своей души, что отдана ему. Будь это невольный взгляд, жест или непривычное движение, выражение лица, поза, даже то, как уложены волосы на голове, – все это безошибочно подсказывает чуткому человеку те перемены, что произошли в другом.
Валерий был расстроен, на сердце у него скребли кошки, ум горячился, перебирая сотни никуда не годных для разрешения задачи вариантов. Вот уже много недель подряд он, как ошалелый, брел в потемках, тщетно ища и не находя спасительного выхода. Словно в лихорадке, словно зараженный чумой, в горячке набрасывался он то на одно, то на другое, с неизменной жестокостью терпя поражение за поражением. Крушение надежд ожидало его повсюду, за какую бы идею он ни брался. Такое с трудом могла бы снести самая твердая и несгибаемая воля. Могучие его порывы были тщедушны и слабы: в одном случае ему не доставало хитрости и изворотливости, в другом – смелости и открытости. Он, как загнанный в глухой угол зверь, с пеной у рта, ощетинившись на злобный мир, несущий ему погибель, готов был биться и сражаться до последней капли крови, бегущей по его организму. Пока руки сильны. Пока они могут до поры до времени держать свою непосильную ношу, взятую добровольно: как и отважный муравей тащит в свой муравейник намного превосходящий его груз не потому, что это нужно ему, а потому, что в этом нуждаются другие. Пока его тяжелое дыхание будет стелиться поверх земли – он будет бороться.
Валерий с радостью встретил появление дочери: от этого уголка своего мира он никогда не откажется. Ему надо было развеяться, отвлечься, иначе рассудок мог и не вынести такого приговора. Кроме того, ему хотелось сейчас поговорить с живым существом, а не с сотнями свитков и папирусов, испещренных мелкими буквами – сообщениями, докладами, письмами важных людей, многочисленными сведениями чуть ли не о четверти империи, картами, схемами; его стол и все окружающее пространство, к счастью, вместительное, было завалено, обложено, и он среди них был подобен замурованному страдальцу, обреченному на ужасную голодную смерть. Когда он ел – Валерий и сам не смог сказать, как дочь ни пыталась это узнать. Она дала соответствующие распоряжения слугам, приказав сразу же после ее ухода накрыть стол едой, побранила их за нерасторопность, и подсела к отцу. В нем давно назрело желание высказаться, разделить с кем-то из людей, кому он доверял, свои тревоги и беспокойства.
Он доверительно посмотрел дочери в глаза, увидел в них свое отражение, и завел с ней беседу. Аврора рассказала ему, как провела день, о своих мыслях – тех, которые дочь может поведать отцу, и поинтересовалась, как дела у него. Валерий, словно ждал именно этого вопроса. Сколько сотен, тысяч раз за все годы ему приходилось отвечать на этот вопрос однообразно, невыразительно, говоря то, что всем было известно или что хотели услышать, и вот теперь он с нетерпением ожидал этих слов. Он накопил столько эмоций, как дождевая туча влагу, что не мог более нести их в себе: они грозили навсегда прижать своей массой к земле, заживо похоронить под почвою, где мрак и гниение оборвали бы его жизнь. Он рассказывал и рассказывал с задором и живостью, какую трудно было ожидать от него. После многих часов утомительной работы, когда силы то покидали его, то вновь возвращались, после недель непрерывного напряжения ума, непрестанно ищущего решения, он обрел второе дыхание и выдохнул из себя то, что сковывало его.
Аврора слушала отца, пытаясь вникнуть в пространное повествование: он поведал ей о своей внутренней жизни, известной не многим, о своих заботах и усилиях, о мыслях и волнении, о колоссальном средоточии всей воли на том, что его так беспокоило. Валерий Татий Цетег досадовал, что дела в сенате идут хуже некуда: три сотни виднейших мужчин, облаченных в тоги с широкими пурпурными полосами, не могли прийти к взаимному пониманию, швыряемые собственными мучителями в разные стороны. Валерий беззастенчиво обличал алчность и жадность, корысть и тщеславие, развращенность и изнеженность, спесь и властность, гордость и суетливость, зависть и высокомерие, предательство и обман, которыми жил сенат. Совсем немногие искренне заботились о государственном благе, которое в славные времена республики было важнейшей ценностью и достоянием, когда следование долгу перед государством считалось обязанностью каждого сознательного гражданина.
Сенат дробился от внутренних разногласий и противоречий, что мешали слышать друг друга, искать зерно правды в словах соратника. Забывалось, что общее дело-то оставалось одно – служение государству. Но личные интересы перевешивали, и под лозунгами «во имя Рима», «во имя великого народа» принимались решения и акты.
Валерий кипел гневом от того, что та картина жизни, которую он каждый день наблюдал, выходя ли из дома, пребывая ль в сенате, резко отличалась от той воображаемой, что жила в его представлении. Он клятвенно заверял дочь, при этом глаза его лихорадочно блестели, что будь он императором Римской империи, будь он властелином поднебесного мира, жизнь бы везде, в каждом уголке планеты, мигом бы преобразилась. В его голове так ясно проступал план того, как вернуть на землю золотое время, и люди снова стали бы героями повседневности и жили бы вместе с богами, общались с ними, праздновали, заключали браки.
– И всеобщее вселенское благоденствие и заря новой жизни наступили, если бы только так случилось! – заключил он восторженно.
По мере того, как он произносил свою пафосную возвышенную тираду, все большее возбуждение овладевало каждым его членом, разжигало желание своей речью зажечь небеса, чтобы они заметили его неистовое рвение и достойно вознаградили, претворив в жизнь его мечты. И правда: его речь могла воодушевить и оживить даже мрамор – искры устремленности, мальчишеский задор, верящий в сокрушение гор и опыт, накопленный за жизнь, – вкупе являли необычайную силу, способную воздействовать на ума и сердца людей.
Аврора не с начала внимала возвышенной речи отца: слишком довлели над ней ее собственные мысли, не дающие покоя, а потому усидеть и пытаться услышать слова другого человека, пусть и самого родного, понять их, для нее было крайне тяжело. Благодаря особому женскому чутью она хорошо видела эмоциональные оттенки речи, перепады настроения, расположение духа, красочную гамму человеческих чувств. Но чувства человека – это не он сам. Не он их породил, но их причина лежит в нем самом. И потому Аврора не могла понять отца, не могла услышать его слово, распознать тот свет, яркость и глубину которого он хотел открыть для любимой дочери. Он желал этого всей душой, но у него это не выходило: Аврора видела лишь огромные гребни волн; силу же, что породила их, она не могла разглядеть. Валерия было не удержать, он полыхал идеей борьбы во имя всеобщего блага, во имя торжества справедливости и старых добрых законов, данных некогда мудрыми людьми, но от того не потерявших свою истинную силу.
– Мыслить, бороться, стать свободными! Эти слова должны стать девизом каждого здравомыслящего гражданина, от которого зависит будущее всего государства, всего мира! Мыслить в правильном направлении, бороться за это и обрести свободу! Разумность или глупость – вот выбор, предоставляющийся каждому, каждый должен его сделать. Почему мы называемся людьми? В чем наше отличие от всех остальных живых существ на земле, чьи формы столь же пестры, как цветы в саду Мецената, и столь же разнообразны, как созвездия на темном небе? Но природа человека на ступень выше. Для того, чтобы в это верить, мне не нужно ничего знать, кроме того, что главное наше достоинство, самое существенное отличие – это возможность мыслить! Так почему же не пользоваться этим сполна? И пусть непонятна и туманна сама структура мысли: она эфемерна с одной стороны, как будто сотворена из иного материала, раз ее никто не видел, и реальна с другой, раз все верят в ее существование, хотя бы потому, что не раз замечали ее стремительный огненный полет у себя в глубине. Если мы мыслим, значит – живем. Если нет – просто существуем, плывем в напрасной суете, прожигаем то, что нам даровано таким необыкновенным образом. Бесценный дар!
Бороться! Знаешь, дочь моя, хотя бы: какую жизнь прожил Марк Аврелий? Какой мудрый человек стоял тогда у руля государства, как искусно он его направлял среди губительных скал в бушующем море жизни? А Сенека? Каким он стал выдающимся мыслителем и управленцем в свое время в Римской Империи, каким политиком? Не в том жалком понимании слова, что имеет хождение сейчас! Нет! Сейчас, когда упоминаешь слово «политик», то мне сразу представляется хитрый делец, сообразительный, проворный, как лисица, и хищный, как ястреб, иногда – глупый и несообразительный, попавший во власть подкупами ли из своего несметного состояния, или по умыслу другого, но многие из них рвутся к власти посредством преступлений, обманов, насилия, причем все эти способности они с течением времени и занятием все более высокого положения продолжают усердно развивать, причем – весьма успешно. И дорвавшись до власти, творят все те же беззакония, но теперь облаченные в мантии законности и вседозволенности. Немногие люди, имеющие власть, руководствуются иными соображениями, отличными от потребности удовлетворять свои низменные вожделения. Я все это знаю и вижу, потому что я вхож в эти круги, я варюсь в одном и том же соку, и знаю его цвет и вкус. А простым гражданам, видящим лишь лубочную картинку, но не саму суть, крайне непросто разобраться, на чьей же стороне находится правда, и кому вверить свою судьбу.
Бороться! В этом слове заключено все! Именно посредством этого человек перестает быть безответственным ребенком, привыкшим к исполнению своих ежеминутных желаний и потребностей, а становится кем-то большим, к которому прислушиваются люди и начинают питать уважение. И в том числе, из-за того, что он совершил много добрых дел. Как ты думаешь, Аврора, можно ли совершить добрые дела без борьбы? Можно ли помочь тем, кто остался позади, кто отстал, и уныло плетется по пыльной дороге жизни, не находя в себе силы стремиться вперед? Помочь стать им достойными людьми? Оставить после себя долгий и славный след в жизни других людей, который бы, как путеводная звезда, направлял их в дороге, помогал бы и им преодолеть инерцию, лень, беззащитность и бесхребетность, который бы помог стать им человечнее?
Свобода! Это сладкое слово, которое манит многих, кто хоть чуточку себя уважает. К ней извечно стремились все бунтари, все те, кто хотели изменить что-либо в своей жизни, либо в жизни того общества, в котором им посчастливилось родиться, вырасти, понять себя и свои устремления, обрести независимость и добиться в борьбе ее! Свобода слова, мысли, воли, движения. Свобода тела и души. Гармония во всех частях, надежда стать Человеком. Я не пойму того человека, который скажет, что ему безразлично – свободен он или нет, что ему наплевать, что будет с ним, с его судьбой, с его жизнью, с тем – кем он будет… Я не верю, что человек готов добровольно отдать свою свободу в чьи-либо руки. Но по-настоящему ужасно то, что истинно свободных людей считанные единицы! Немногие из несвободных задумываются о своем положении и состоянии. Совесть позволяет человеку не готовому к борьбе пребывать в блаженной уверенности относительно того, свободен он или нет. А может оставаться закованным в тугие цепи неволи и не замечать этого. Посмотреть на наш гордый и нечестивый сенат, в большинстве своем – собрание образованных глупцов. Разве можно оставаться спокойным и без возмущения взирать на эту самозабвенную вражду целых групп славных мужей великого Рима, сплоченных вокруг одного или нескольких славнейших. И каждая группа доказывает остальным, что их взгляды, их позиция – самые правильные, а их лидер – самый достойный и видный муж, а потому надо слушать именно его и его венчать диадемой из дюжины бриллиантов, как самого мудрого. И не могут потому прийти к согласию. А какое может быть согласие, когда они ставят свои интересы вперед всех остальных, свое слово – на самое почетное место, а других видят в роли прислужников? А те, кто сплотил эти группы – те самые страшные и опасные демагоги, потому как своими пустыми стремлениями к показному поделили сенат на части, и, если б не император над ними, то не преминули бы разделить и сам Рим, и весь его бесчисленный народ. Укрылись, как панцирем, они более слабыми сенаторами, которые, будучи не способны на великие дела, довольствуются покровительством тех неразумных, кто на них способен. Рабы их идей, рабы их заблуждений, влекомые более страшной волей, они не способны самостоятельно освободиться, не способны уклониться от цепких когтей несправедливости и гнета тирании. Они даже неспособны понять, что они, собственно, неспособны. И телом, и душой служат более сильным, ничем не отличаясь от рабов. Сенат погряз в своих мелких дрязгах, склоках и обидах. Они выясняют отношения и ищут власти, чтобы удовлетворить свое тщеславие, а тем временем наш мир очутился на пороге великих перемен. Я это чувствую, об этом говорилось и в пророчествах жрецов, и в предсказаниях пророков. Грядет новая эра, скоро мир изменится небывалым образом. Восстания захлестывают со всех сторон нашу Империю, шаткую, как поступь надменного силача, зашедшего в клетку со львами; они раздирают наше государство на зримые части, стоит послушать наших вестников, прибывающих в сенат с испуганными лицами. Вести вовсе не утешительные: волны массовых неповиновений охватили окраины. Египет, страна загадочных пирамид, находится во власти повстанцев, которые своей смертельной хваткой оттуда, подобно Веспасиану в свое время, душат Рим, перекрывая поставки зерна. А нет зерна – нет и хлеба. Все просто, только вот от осознания этого легче не становится. И пока не будет восстановлен контроль над этой жизненно важной артерией Империи, цены на хлеб будут все возрастать и возрастать, что мы сейчас и видим, а хлеб скоро начнут раздавать по крупице на человека, если в скором времени ничего не поменяется. Желанию этих перемен и посвящены всецело мои думы.
Он умолк, сплел пальцы рук и в глубокой задумчивости оцепенел. Взгляд его был грозным и значительным: даже смотря куда-то вниз, его мысли были много выше его самого. И они возвеличивали его, скрываясь под незаметной и жалкой плотью.
Аврора молча выслушала сетования и откровения отца. Сколько она ни старалась проникнуть в глубину его слов, это у нее не выходило. Дела государства важны, беспокойства других людей существенны, но что может быть значимей собственных невзгод, или собственных радостей? Деметрий наверняка ждет ее, теребя, как всегда, свои роскошные локоны, за которыми он ухаживает, подобно женщинам. Впрочем, он столько ждал – подождет еще лишний десяток минут: это пойдет ему только на пользу, а она сама будет от того лишь более желанной. Но отец что-то говорил о хлебе, да разве могут наступить для них дни, когда будет не хватать на хлеб? Едва ли. Аврора посмотрела на измученного отца.
– Знаешь, отец: в сенате хватает отъявленных негодяев и мерзавцев, которым самое место в глубинах подземелья, где они б осознали ценность человеческой жизни, ужаснувшись от того страха, что живет в их душе, не показываясь до поры. Но есть в нем и люди, что одной только своей самоотверженностью стоят выше всяких похвал, что своей нравственностью заслуживают памяти в потомках, и их имена будут греметь веками. Одного такого сенатора я точно знаю!
Аврора рассмеялась своим звонким смехом и обняла отца, возложа свою голову на его крепкие плечи. Она не увидела улыбку, что тронула краешки его губ в печальной торжественности, не видела заблестевших глаз, в которых какая-то боль сорвала с них едва различимую каплю, соскользнувшую на ткань тоги.
– Что ж, я побежала, отец. Не расстраивайся: все у тебя выйдет наилучшим образом, – она отпрянула от него, и, получив разрешение идти, выскользнула из помещения.
Когда дверь закрылась за ней, протяжно взвизгнув, и ее шаги стали все глуше и глуше, в отдалении напоминая чем-то ропот морских волн, Валерий тихо и уныло произнес, обращаясь к самому себе:
– Ничего не остается, кроме как еще раз повторить сакраментальное: сенат – чудовище, хотя сенаторы – люди достойные.
Валерий посмотрел на горы книг, заваливших его покои, на трогательное полотно, где какой-то сенатор времен республики смиренно простерся ниц перед народом, выказывая ему уважение и давая клятву вечно служить ему одному. Потом бросил взгляд на свои здоровые руки, на тогу, разрисованную блистающим пурпуром, что давала любому узнать его сенаторское достоинство, и совсем уж неслышно добавил:
– Но чудовища не рождаются на свет из ничего, значит, и они сами – тоже чудовища, внося по крупицам, кто больше, кто меньше, свои чудовищные частички души, не в силах насытить ненасытное брюхо деяниями зла. Люди достойные. Достойные той кары, что их ждет…
Аврора выпорхнула из дома, подобно чуду, подобно ожившей зимой бабочке, что казалось невероятным, но мало отличалось от правды: складки ее одежды, как зеленые крылышки воздушных существ, реяли в воздухе, подбрасываемые туда озорными ветрами. Ее полет был грациозен и непредсказуем: если она и меняла направление своего движения, то делала это так легко и так естественно, что, усомнившись в ее человеческой природе, можно было запросто поверить в ее родство с лесными феями или дриадами.
Она была великолепна. Повсюду, где бы ни пробегала ее легкая ножка, ее провожали восхищенные взгляды мужчин. Сама Венера, верилось, вдохнула в нее свой божественный дух, дав ей пылающие алым пламенем страсти юные щеки, женственные и манящие губы, выразительные и пронзительные глаза, наделенные властью править миром, с их небесным оттенком и глубокими переливами, так что иногда казалось, будто они изменили не только свое выражение, но и свой цвет. Ее нежный подбородок был идеально правильной формы, плавными линиями ничем не уступая солнечному ореолу. Лоб, не высокий и не низкий, не был покрыт ни одним свидетельством страстей и выраженных эмоций: он был гладок, как морская поверхность в полной тиши, когда ни одна ее черточка не шелохнется, не дрогнет от усмирившейся стихии. Волосы же ее, стройными рядами ниспадавшие на кайму туники, в сумерках вечера отливали пылающей зарей. Они и походили на танцующие языки пламени, по воле ветров изгибаясь в соблазнительном танце, бросаясь в стороны, подобно разъяренному льву, царственно и бесстрашно. Воплощение самой красоты, Аврора порхала в лучах заходящего светила.
День подходил к концу, и отмерив свой бег положенными шагами, намеревался уйти на заслуженный отдых и отдать бразды правления быстро надвигающейся ночи. Дева совсем не торопилась, хотя назначенный час свидания давно миновал, но разве истинно любящий может не дождаться своей возлюбленной, хотя бы и пришлось прождать несколько лишних часов?
«А красота, – рассуждала Аврора сама с собой, – на то и создана, чтобы никуда не торопиться. В суету легко впасть, а вот выбраться потом из нее… Красота, как хрупкий цветок: если нести ее слишком быстро – она растреплется, и легкие тонкие лепесточки мигом унесет буйный ветер».
Вскоре, когда лучи заходящего солнца стали из ярко-алых бледными с розовым оттенком, Аврора достигла цели своей прогулки – базилики, у входа в которую была условлена встреча. Базилика8 по форме своей напоминала удлиненный прямоугольник. Массивный цилиндрический свод опирался на боковые стены, так что свет вовнутрь проникал только с торцевых сторон. Из-за того все внутреннее пространство, разделенное колоннадами на протяженные нефы, было укрыто туманной непрозрачной дымкой. И разглядеть там кого-то в этой вечерний час было сложно, хотя когда Аврора подошла ко входу, и блеклые лучи светили прямо из-за ее спины, то она поняла – базилика безлюдна: ни единый шорох не был слышен, ни единого мелькания теней нельзя было заметить.
Девушка слегка удивилась, но не растерялась и прошла под длинные тени мраморных колонн, и ее шаги гулко отозвались далеким эхом. Тогда-то она и заметила чью-то фигуру возле одной из боковых колонн: она пришла в движение и приближалась к ней. Какой-то внутренний голод начал взывать к ней изнутри. Аврора почувствовала, как сердце заныло – какие-то мелкие когти начали царапать его, и оно кровоточило. Тень подплывала все ближе и ближе, пока, наконец, девушка не разглядела знакомое лицо Деметрия.
Деметрий был обижен и разочарован, хотя на лице его сияла блистательная улыбка. Как это Аврора поняла – она не могла бы объяснить. Такого с ней раньше не случалось. Вот он подходит, улыбаясь, и радуется встрече. Еще бы: ее появление могло осчастливить любого. Но что же тогда не так? Почему же она, как прежде, не упивается этим и не радуется в ответ?
Мужчина торжественно приветствовал, склонившись перед ней со всем изяществом и любовью, которую мог продемонстрировать. Его бархатные глаза напоминали россыпь зеленых звезд в темную ночь: так засияли они при виде девушки. Обворожительный красавец, под стать юной богине любви, он был преисполнен уверенности в своей неотразимости. Как и Аврора, он в свое время завоевал и разбил немало сердец: он упивался своим превосходством над всеми остальными, и был баловнем судьбы. И всякая дева, что вначале убегала от него, рано или поздно возвращалась и кидалась ему на шею – он знал секрет любви, но хранил его в тайне даже от своих друзей, которые время от времени хотели его выведать. Он умел им пользоваться, но неудовлетворенность, в конце концов, каждый раз настигала его, и в беспрестанном поиске чего-то неосознанного он с головой бросался в свою новую страсть, забывая все свои предыдущие похождения.
Аврору он встретил ранней осенью, когда все готовилось отойти на покой. Все, кроме людей. С ней все было иначе, не так, как с другими, и часто он сам путался и не понимал: кто он на самом деле – охотник или жертва? Он преклонялся перед ее красотой и готов был подчиниться малейшему ее желанию. Невыносимая страсть съедала его, и нередко после их расставания он ощущал себя выжатым, как лимон. Словно весь его сок, вся его любовь перетекала куда-то, а ему оставалось только одно внутреннее опустошение. Он познал Аврору не так давно, и после того дня они виделись еще некоторое время, после чего возлюбленная предложила «отдохнуть некоторое время друг от друга», заверяя его в самых искренних к нему чувствах. Что это значило – он не мог понять, и чувствовал себя не победителем, а побежденным. А он любил ее до изнеможения: этот прелестный образ, что раз за разом радовал его глаз, вскружил ему голову; этот румянец, походящий на лепестки красной розы, синева глаз, аромат ее дыхания, что так походил на запах фиалки, пробившейся к свету и жизни у горного ручья; эти отточенные линии нежных белых рук, гибких и стройных, как береза, стан, музыка ее слов; все в ней находило отклик в нем, все в ней восхищало его.
– Деметрий! Здравствуй! Что же ты медлишь, или мое появление удивило тебя? – Аврора первая приветствовала его, позволив поцеловать свои тонкие пальчики.
– Твое появление всегда удивительно для меня, роза моя! И сколько б я ни восторгался, душа моя уносится к далеким небесам, ища твою прекрасную душу там. Так непокорна она мне, и оттого я вымолвить не в силах все, пока не вернется она в мою скромную обитель, поразившись тем чудесам, пока не расскажет, что же там увидала!
Они вышли из базилики и стали прогуливаться по дорожке, а рядом топорщились ряды частых каштанов. Деметрий одной рукой ловко обвил стан Авроры, понемножку приближая ее к себе, а другой пышно и с великолепием изображал, как его душа восхищается на небеса, а затем, изумленная увиденной красотой, вновь возвращается к нему. Так они гуляли некоторое время, беседуя на разные темы.
– Сколько времени миновало уже с той поры, когда я видел тебя в последний раз! Казалось бы, что дни летят, как птицы в небе, кружа возле нас, лишь слегка задевая своим легким крылом, словно поддразнивая, маня чем-то таинственным, влекущим, а затем пряча это перед самым носом. Стоит только прочувствовать движение времени, как оно коварным образом обманывает, меняясь так, что и не узнаешь. И вот с удивлением для себя замечаешь, что прошло столько-то времени, что прошел день, что пролетели те часы, минуты, которые с таким упорством день за днем отсчитывают часы, улыбающиеся другому миру, миру, который они видят, в котором они живут всем своим существом. И это знание они не донесут ни до кого. Если не интересоваться этим самому – а как же так получается? Жить, воплощаясь в каждой минуте, ловя мгновения жизни, держа их на расстоянии взгляда. Мир без тебя стал тусклым и бесцветным, будто смотришь на жемчужину через мутное стекло: знаешь, что она на самом деле красива, но глазом это не можешь узреть. Тогда меня объяло лихорадочное беспокойство, и я тщетно искал свое место в этом жестоком мире – без тебя ничто не имело смысла. Куда бы я ни бросал свой взор, всюду видел лишь твои небесные черты. И тогда я перестал бояться мечтать наяву, как это делают люди, когда все надежды и смутные грезы ткутся ночными снами, как покрывало, укрывающее на ночной отдых землю, что дышит благоухающими цветами под светом миллионов звезд. Тогда замерло щебетанье птиц, спускались сумерки, и природа отходила ко сну. Все затихло, и в том ночном очаровании я восхищался чудеснейшими вещами: я услышал прекрасные звуки прохладного танца. Эти звуки нарастали по мере того, как наплывала ночь. И хотя безграничные небеса в своей благости сохранили в себе частичку растаявшего закатного огня, красота дня отходила. Зато пришла иная красота – красота ночи. В этот час люди начинают мечтать и ждать чуда. Как и я ждал его прихода. И оно пришло: я слышал песни звезд, зовущие сердце к себе. Они окрыляли, заставляли мечтать и верить. И я охотно им верил. Они говорили мне, что однажды ты придешь, когда я тебя позову, и разделишь со мной мою любовь. Я жил этой надеждой все это время, и лишь на одно уповал: что ты явишься на мой зов. Даже когда ты не пришла в условленный час, я не переставал терять надежду, и мое сердце все так же трепетало от одного лишь предвкушения встречи с тобой. Мое внимание целиком заключено в тебе. Ты так же выделяешься своей красотой, как самая ярчайшая звезда на небе, неизменная в своей прелести и очаровании! И мой слабый рассудок напрасно пытается открыть тайну любви к тебе: ей срок отпущен вечный, не состарится никогда она, не износится от пыльных дорог и суровых зим. Она не ведает сомнений, ведь вся она заключена в тебе! Как ты живешь в моей груди, так и она – в твоей. И в царстве обмана и лжи живет одной справедливостью души, служит узорам небес, их волю предвосхитив, несет к тебе все видения, не гордясь и не бесчинствуя. Нет такой меры, чтоб измерить мою любовь к тебе, нет такого преступленья, которого б я не совершил ради любви к тебе, нет и быть не может даров, на которые я б ее променял; ядов и болезней, страданий и мук, которых я бы не принял ради любви. И каковы бы ни были мои терзанья, на гребне бед своих желал тебе я только счастья б!
Деметрий все сильней пылал к ней. Едва сдерживаясь, он готов был перейти в наступление, когда Аврора легко, но сурово, без всяких игр, оттолкнула его от себя. Деметрий был несколько сбит с толку таким поворотом событий, но сдаваться не собирался, и, изобразив на лице прежнюю улыбку, попытался преодолеть возникшее недоразумение:
– Прими же меня в свои священные объятия, о, божественная Аврора! Не дай моей страсти погубить меня, ведь, не найдя выхода, она источит все изнутри своим жалом!
Но Аврора была непоколебима и холодна, как камень, на котором они стояли. За эти минуты, на протяжении которых Деметрий опутывал и обволакивал ее своими сладостными речами, околдовывал, как очередную жертву, с ней стряслось нечто странное и пронзительное, в ней поселился испуг. В ее душе пробудилось то, что она беспощадно отбросила десять дней назад. Тот голос, что она пыталась заглушить, и таки заглушила на время, снова взывал к ней, восстав из своего заточения. Он не был услышан в свое время, и, отброшенный в неравной схватке во тьму, набирался сил и рос, пока на него не обращали внимания.