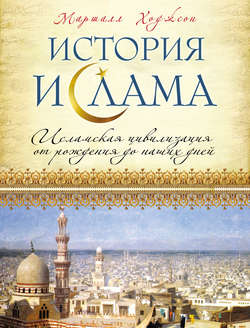Читать книгу История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней - Маршалл Ходжсон - Страница 113
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Книга II Цивилизация высокого халифата
Глава IV Личная религиозность: конфронтация с историей и эгоизм ок. 750–945 гг
Связь благочестия с религиозной лояльностью
А. Керигматическая ориентация
Шариатизм как выражение коранической религиозности
ОглавлениеСреди весьма серьезных и увлеченных людей этот религиозный опыт был, несомненно, сильнейшим доказательством исключительности ислама и поводом к исключению всех культовых образов и вообще всего символизма, способного соперничать с Кораном, и всех конкурирующих общин. И все же эти немногочисленные заинтересованные люди не могли сами осуществить это. Их чувства не возымели бы действия, если бы они не совпали с общими народными тенденциями, стимулируемыми в торговой среде: недоверие к аристократии, к роскоши, ко всему исключительному, в том числе ко всем отраслям науки и искусства; и замена этих излишеств высокой культуры в высшем обществе господствующим положением священного общества, в котором самый обычный человек реализовывал свое личное достоинство в повседневных личных отношениях. Поэтому духовные обвинения религиозных активистов были воплощены на практике только там, где народный дух в широком смысле подкреплял их религиозные чувства. Соответственно, самая роскошная форма изобразительного искусства, требующая высочайшего аристократического или духовного вкуса и ресурсов – скульптура – была почти полностью запрещена; между тем как искусство, которым могли заниматься представители любого класса – поэзия – почти никогда не предавалась анафеме. И все же, пожалуй, сам популистский импульс мог и не иметь столь обширного успеха, если бы его не поддержали религиозные идеи чрезвычайно чувствительных личностей; разумеется, эти чувства, связанные с исключительностью ислама, реализовывались в полной мере только в мечети, где такие люди обладали особым авторитетом.
В любом случае исключительность ислама родилась именно благодаря тому, что было универсального в его общей концепции, в силу его надежд на равенство и справедливость, и ответственности человека в рамках высших норм. Сама реакция на эту концепцию, позволившая ей воплотиться в живую традицию, и ответственность, и преданность, с которыми она воплощалась обществом, отгораживали ислам от конкурирующих ценностей и традиций. Коран, чьим текстом практически исчерпывался исламский символизм, стал единственным мощным и конкретным образом в данной религии.
Несмотря на непосредственное сильное влияние Корана, самого текста, по-видимому, было все-таки недостаточно, чтобы традиция столь строго сосредоточилась на нем, не будучи связана с жизнью общества. Во времена Мухаммада он соответствовал ходу событий того периода, объясняя и направляя их. Позже мусульманам пришлось искать эквивалент для собственного поколения. Одним из решений, которое способствовало воплощению коранического вызова в повседневной жизни, была разработка правил практической морали, отвечавших культу Корана. Так возник шариат – автономный свод законов, сформулированных для разных особых случаев. В процессе совершенствования этих правил (не прекратившемся по сей день) Коран играл центральную роль и активно входил в жизнь общества.
Шариат приобрел дальнейшую эмоциональную силу, поскольку выражал преданность мусульманскому обществу, чьи идеализированные механизмы он описывал. Заключенная в Коране эксклюзивность сразу дополнилась эксклюзивностью, опиравшейся на историзм мусульманской общины. В ходе событий после третьей фитны и триумфа Аббасидов эта общинная ориентация шариатского духа подчеркивалась с особой силой: имеется в виду преданность общине, исповедующей мусульманство, даже в ущерб любым другим ценностям. Она легко сочеталась с новым духом шариата, поскольку для религиозных активистов, отвергавших власть Марванидов и не любивших Аббасидов, отождествление с общиной могло означать только признание шариата.
В шиитских кругах этот дух помог дисциплинировать даже теоретиков-экстремистов гулата. Вскоре после восшествия на престол Аббасидов имам Джафар ас-Садик посчитал разумным отречься от своего известного сторонника гулатита Абул-Хаттаба за то, что тот слишком далеко зашел в отрицании нараставшего шариатского духа.
Его больше заботил внутренний символизм, чем юридическое применение закона. (Короткое время спустя аль-Мансур казнил Абул-Хаттаба за ересь.) В целом учения теоретиков гулата именно в это время – по крайней мере их словесное выражение – стали более умеренными, чтобы не оскорбить приверженцев шариата. Так, более поздние теоретики из числа шиитов-джафаритов возвышали своих имамов как «доказательства» (худжжа) Божия или носителей божественного света – оба эти понятия имели широкое метафизическое влияние на ираносемитскую традицию; но (в отличие от практики первого гулата) в знак почтения к тотальному правовому господству Пророка имамов больше никогда не называли даже самыми малозначительными «пророками» (наби), несмотря на то что значение данного термина позволяло это.
Схожий общинный дух возник и среди самих правоведов. В Багдаде Абу-Юсуф, ученик Абу-Ханифы, делал акцент на правовых нормах прежних времен при Марванидах почти в той же мере, что и аль-Авзаи, руководитель сирийской школы, который испытывал естественную тоску по дням сирийского господства. С помощью таких людей арабизм прежних лет в некоторой степени проник в шариат.
Но даже при этом одного только шариатского духа было недостаточно, чтобы обеспечить живое взаимодействие с Кораном и, таким образом, сформировать все содержание актуальной модели богослужения. Шариатизм в определенной форме был почти универсальным для всех исламских течений, выросших из религиозных фракций. Но каждое из них вносило свои компоненты.
Мы обсудим сначала разновидности пиетизма, возникшие среди тех, кто отказывался приобщаться к официальному мусульманскому порядку – среди хариджитов и особенно шиитов: шиитов-зайдитов с их постоянными политическими мятежами и главных радикальных шиитских групп – двунадесятников с их хилиастическими надеждами и исмаилитов с их эзотерическим и заговорщицким интеллектуализмом. Затем мы вернемся к тем, кто принял джамаа в ее официальной форме, в частности, к моралистам-мутазилитам и к их конкурентам – приверженцам хадисов, поборникам популизма и верноподданства и главным наследникам прежних религиозных объединений; и особенно к суфиям, чей мистицизм формировал главный фундамент мусульманской религиозной жизни в более поздние века. Я обязательно изложу здесь, как сам понимаю, эти несколько традиций и опущу то, что мне остается непонятным; поэтому все, о чем я говорю, кажется более аргументированным, чем есть на самом деле. Но только при более пристальном изучении религиозности отдельных лидеров и рядовых людей в каждой традиции мы можем надеяться на адекватное понимание того, что сейчас слишком часто является областью предположений.
Мы уже наблюдали, как к началу эпохи Аббасидов формировалось различие между шиа, сторонниками Али, стремившимися к очищению ислама, и джамаа, сторонниками сплоченности общины, желавшими сохранить то, что уже было достигнуто. Эти две позиции, соответственно, привлекали людей, более склонных рисковать всем ради идеала, и тех, кто был более склонен считать, что лучшего, чем то, что есть, уже не будет. Внутри каждого из этих широких направлений появились дальнейшие разделения – снова отразившие (внутри каждой группы) относительно идеалистическое требование совершенствования или относительно практическое требование консервации; либо выражавшие различие между теми, кто был больше склонен к общедоступной, экзотерической истине, и теми, кто предпочитал эзотерическую истину, доступную лишь элите. Из многообразных сочетаний этих и других тенденций возникло несколько сильных течений с собственным стилем почитания Бога, и некоторые из них сыграли важную историческую роль.
Два первых течения, долго сохранявшиеся на протяжении эпохи Аббасидов, были особенно характерными проявлениями строгости, свойственной религиозным диссидентам. Они требовали верности более высоким стандартам, чем те, что преобладали в обществе, от всего мусульманского общества, не питая снисхождения к человеческим слабостям. В период Высокого халифата они постепенно отошли в тень, а позже сохранились только в отдельных местах; но, пока для активного реформатора сильная централизованная империя представляла собой относительно простую политическую проблему, они предлагали убедительные альтернативы для людей определенного склада.
Самое известное своей социальной суровостью движение – хариджизм – отвергало даже шиа в качестве проводника реформ. Мы уже отмечали, что хариджиты предпринимали последовательные попытки сохранить абсолютное равенство и ответственность верующих внутри однородного сообщества, часто за счет ухода из мусульманского общества и создания непримиримых воинствующих банд. Они активно занимались шариатскими проблемами, но прежде всего настаивали на эффективном обеспечении благочестивого общественного порядка. Иногда они откровенно смотрели сквозь пальцы на поведение, которое другие религиозные группы в теории запрещали, чтобы сделать свое учение применимым на практике. Но в целом они отличались пуританским и чрезмерно воинственным нравом. Хариджиты-ибадиты сумели учредить среди значительного количества населения отдаленных районов, где большинство людей принадлежали к исламской вере (в частности, в Омане в Восточной Аравии), норму, которая хотя бы на поверхности казалась правильной. Однако после VIII века они постепенно утратили свою значимость везде, кроме этих отдаленных уголков.
Внутри шиитского движения очень похожую позицию заняли зайдиты. Со времен аль-Касима ар-Расси (ум. в 860 г.), их великого теоретика, они настаивали на том, что истинным имамом должен быть тот Алид (то есть потомок по линии Фатимы), который сочетал в себе владение правовым и религиозным учением, политическую инициативу и достаточную проницательность, чтобы возглавить вооруженное восстание против властей. Этот имам должен был принадлежать либо к роду Хасана, либо Хусайна и не обязательно являться сыном имама; также необязательным считалось постоянное наличие имама, если никто не подходил на эту роль. Результатом стала череда весьма компетентных имамов, правивших отдаленными областями, особенно в Йемене.