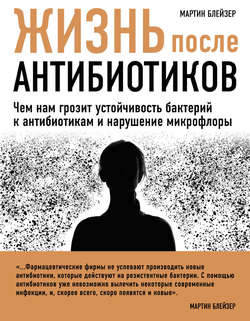Читать книгу Жизнь после антибиотиков. Чем нам грозит устойчивость бактерий к антибиотикам и нарушение микрофлоры - Мартин Блейзер - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 5. Чудо-лекарства
ОглавлениеВесенним утром в 1980 году я ехал на машине на работу; в Атланте тогда было еще холодновато. Я более двух месяцев проработал в жарких регионах Бангладеша и Индии и вернулся в Центр по контролю и профилактике заболеваний с большим облегчением. В офисе поздоровался со знакомыми, рассортировал почту и начал работать, но днем почувствовал странную ломоту в костях. Наверное, все дело в расстройстве биоритмов – прилетел только прошлой ночью и еще не акклиматизировался. Но самочувствие становилось хуже, лоб был горячим. Где-то через час все же решил поехать домой. Может быть, подхватил грипп в самолете или во время долгой пересадки в Англии? Мне не удалось вспомнить, когда до этого я чувствовал себя так плохо, что не мог работать. Надо полежать в кровати, и к утру станет лучше.
Не стало: температура поднялась до 38,3 ºС. В ЦКПЗ я был экспертом по инфекционным заболеваниям, так что знал, что малярия может начаться так же, как грипп: температура, головная боль, ломота в костях, мышечная боль. Мог ли я ее подхватить? Путешественники обычно умирают от этого заболевания, потому что слишком поздно его диагностируют и начинают лечить. Но, скорее всего, у меня просто грипп. Поразмыслив, я позвонил коллеге из отделения паразитических заболеваний, доктору Исабель Герреро, и попросил взять у меня мазок крови на малярию.
Через полчаса она приехала. Проколов палец, размазала немного крови по стеклянной пластинке и сказала, что сразу сообщит результаты.
Позвонила через час.
– У вас нет малярии.
Ободренный этими словами, я приготовился отлеживаться дома с гриппом. К этому времени начался небольшой кашель.
Утром в среду я все еще был болен. Чувствовал себя неплохо, но температура по-прежнему держалась. Жена посоветовала обратиться к врачу-инфекционисту Карлу Перлино. Он провел осмотр: за исключением того, что температура во время визита загадочным образом исчезла, все анализы показали, что я здоров. Даже кровь.
В четверг температура и слабый кашель тоже никуда не делись. Весь день пролежал в постели, а ночью увидел очень красочный кошмар. Не помню, кто именно за мной гнался, но проснулся в холодном поту. Простыня вся промокла. И даже в бреду сразу понял, чем же болен на самом деле: брюшным тифом! Я был в Бангладеш и Индии – там нечистоты иногда попадают в еду. Симптомы же, хоть и неясные, начались примерно через неделю после возвращения, температура держится несколько дней и повышается. Других вариантов не оставалось.
На следующее утро я был очень слаб. Температура поднялась до 40 ºС. Не было сил даже застегнуть рубашку или сесть в машине прямо, не опираясь на дверцу. Я знал, что без лечения антибиотиками могу с вероятностью 10–20 % просто умереть. Боли, потливость, упадок сил, отсутствие аппетита, несмотря на то, что я несколько дней не ел – все признаки острой стадии заболевания. Пока ехали тем прекрасным весенним днем по улице, засаженной цветущими магнолиями, я подумал, что умереть в тридцать один год будет не слишком приятно.
Когда доехали до больницы, я съежился и дрожал от холода. Меня пришлось посадить в кресло-каталку. Было страшно, что доктор Перлино не поймет, насколько сильна болезнь, и отправит домой. Ирония судьбы: я отлично знал, что и госпитали бывают опасны – пациенты падают с коек, получают не те лекарства, подхватывают новые болезни, – но отчаянно хотел, чтобы меня положили туда и начали лечить.
К счастью, врач посмотрел на меня и сразу сказал, что требуется госпитализация. Еще одна ирония: моя основная работа в ЦКПЗ – консультант по сальмонеллам. Врачи со всей страны звонили и спрашивали совета по пациентам и эпидемиям сальмонеллеза. И здесь врач спросил, каким антибиотиком хочу лечиться. Я знал, что с Salmonella typhi, главный возбудитель брюшного тифа, можно справиться при помощи ампициллина, продвинутой формы пенициллина. Он спас жизни миллионам людей. Но проблема заключалась в том, что к 1980 году этот антибиотик использовали так часто, что многие штаммы стали устойчивыми. Лечение могло оказаться совершенно неэффективным.
Так что порекомендовал новую сульфаниламидную формулу – котримоксазол. В нем объединялись два средства, разработанных в 1960-х годах и очень хорошо действовавших на S. typhi (впрочем, позже сопротивляемость развилась и к нему). Кажется, несмотря на высокую температуру, я не утратил способности соображать. Даже если был неправ насчет тифа, я был настолько тяжело болен, что врачи просто не могли не дать мне чего-либо на тот случай, если в моей кровеносной системе есть какие-то другие недружественные бактерии.
Пришли студенты-медики, чтобы взять образцы крови для микробиологической лаборатории. Если это брюшной тиф, то в чашках Петри вырастут Salmonella typhi. Затем поставили капельницу. Я понял, что шансы растут. Вероятность смерти уменьшалась с каждым часом. Вот оно, чудо антибактериальных средств, которые впервые открыли в начале 1930-х.
Я уснул и проспал долго. Но на следующее утро лучше не стало. Все еще страдая от боли, я спросил врачей:
– Что там в культурах моей крови?
– Ничего не растет.
Неужели я ошибся в собственном диагнозе? Это не тиф? Но анализы взяли всего часов двенадцать назад, так что, может быть, еще слишком рано. В странном двойственном положении пациента и врача-специалиста я порекомендовал продолжить курс лечения, и лечащая команда согласилась.
На следующее утро врачи пришли в палату.
– Анализ положительный, в крови сальмонеллы. Микробы растут.
Все-таки тиф.
На следующий день меня ждал небольшой сюрприз. Это была не Salmonella typhi, обычный возбудитель брюшного тифа, а Salmonella parotyphi A, по сути, близнец. Но учебники говорят, что течение болезни практически неотличимо, и я за это ручаюсь.
Благодаря лечению, несмотря на некоторые осложнения, постепенно началось выздоровление. Через неделю меня выписали, а еще неделю я провел дома, восстанавливаясь. Три недели – серьезная была болезнь. Страшно даже представить, что бы со мной было, если бы не лекарство.
Спустя несколько лет мы обсуждали этот случай с коллегой, много лет работавшим в Азии. Я сказал, что, насколько помню, единственная пищевая неосторожность, которая была допущена за несколько недель до болезни, случилась жарким вечером в Бомбее. Я тогда шел по улице и увидел лоточника, торговавшего арбузными дольками. Его лоток не очень внушал доверие, так что пришлось попросить отрезать мне кусочек от целого арбуза. Я посчитал, что такая предосторожность защитит. Это было дней за девять до болезни – классический инкубационный период.
– Разумеется дело в арбузе, – ответил коллега. – Видите ли, в Индии их продают на вес. Так что фермеры впрыскивают воду, чтобы те весили больше. А жидкость, естественно, берут из рек и ручьев, текущих рядом с полями.
У меня похолодело в животе: арбуз был загрязнен нечистотами. Брюшным тифом заражаются, съев пищу или выпив воды, зараженные фекалиями носителя болезни.
Я вспомнил самую знаменитую носительницу, Мэри Маллон, более известную как Тифозная Мэри – ирландскую эмигрантку, которая работала поварихой в богатых семьях Нью-Йорка в начале ХХ века. После того как в доме, где она работала, начиналась эпидемия тифа, женщина переходила в другую семью. И там, рано или поздно, тоже начиналась эпидемия, и т. д. Знала ли она, что является их причиной, не совсем ясно. Тогда тиф был довольно распространенным заболеванием; госпитали были заполнены, примерно четверть умирала. Известный медик-детектив Джордж Сопер сумел обнаружить, что причиной эпидемий являлась Мэри, и заставил ее отказаться от работы поваром. Она была носителем: чувствовала себя совершенно здоровой и была совершенно здоровой. Носители не болеют, а лишь переносят микроорганизмы.
Женщина отрицала какую-либо связь с предыдущими случаями и вскоре нарушила свое обещание. Начались новые эпидемии. Сопер снова нашел ее. Возникла сложная дилемма: она была совершенно здорова, но при этом представляла угрозу обществу, причем не меньшую, чем стрельба по толпе из ружья. Тиф – это тяжелейшая болезнь; несколько человек, поев приготовленную еду, умерли. В конце концов, судья принял решение: Мэри посадили на карантин на острове Норт-Бразер, который расположен в нью-йоркском проливе Ист-Ривер. Она провела там всю оставшуюся жизнь, уверяя всех в своей невиновности. В наше время мы, наверное, смогли бы вылечить ее, удалив желчный пузырь и дав антибиотики. Да и всех, кого она заразила.
Перенесемся из Атланты вперед на двенадцать лет, в май 1992 года, когда меня попросили выступить на конференции, посвященной успехам в понимании и лечении инфекционных заболеваний. Темой стала выявленная связь между недавно открытой желудочной бактерией Helicobacter pylori и раком желудка – распространенной и трудноизлечимой злокачественной опухолью{55}. Мы считали, что это новый патоген, и людям было интересно узнать о нем больше.
Симпозиум в Йельском университете устроили в честь пятидесятой годовщины первого применения пенициллина в США. Ведущий начал с рассказа о случае с Энн Миллер, 33-летней медсестрой, у которой в 1942 году случился выкидыш. Она целый месяц страдала от тяжелой болезни, с температурой до 41,6 ºС, бредом и симптомами стрептококковой инфекции. У нее была родильная горячка, или, по врачебной терминологии, послеродовой сепсис. Эта печально известная болезнь убила многих молодых женщин. Миллер лежала при смерти и то теряла сознание, то приходила в себя.
Благодаря невероятной удаче ее врач сумел получить доступ к одной из первых маленьких партий пенициллина, который еще даже не поступил к тому времени в коммерческую продажу. Лекарство с помощью самолета и полицейских доставили в госпиталь Йеля – Нью-Хейвена – и ввели Миллер.
Выздоровление началось через несколько часов. Температура спала, бред закончился, она смогла поесть, а через месяц полностью восстановилась. Это был научный эквивалент чуда. Все изменили 5,5 грамма пенициллина, около чайной ложки, которые добавили в ее физраствор. Лекарства тогда было так мало, что мочу Миллер сохранили и отправили обратно в фармацевтическую компанию Merck в Нью-Джерси, где из нее выделили пенициллин, который затем дали другому пациенту.
Пока ведущий рассказывал подробности этой драматичной истории, в зале было так тихо, что упади скрепка – было бы слышно. А затем, после небольшой паузы, он сказал: «Пациент, встаньте, пожалуйста».
Я обернулся. В третьем ряду поднялась миниатюрная, изящная пожилая женщина с короткими седыми волосами и оглядела зал своими яркими глазами. Энн Миллер, которой было уже за восемьдесят – чудо пенициллина подарило ей пятьдесят лет жизни. Я все еще помню эту скромную улыбку. Она прожила еще семь лет и умерла в девяносто.
Когда девушку спасли, медицина только училась бороться с бактериальными инфекциями. Пневмонию, менингит, абсцессы, инфекции мочевых путей, костей, носовых пазух, глаз, ушей – да в общем все болезни еще лечили малоэффективными и сомнительными методами. Когда у Джорджа Вашингтона началась инфекция в горле, хирург пустил ему кровь. Этому методу лечения очень доверяли, но, возможно, он лишь ускорил гибель президента. Кровопусканием лечили и в XX веке.
Некоторые методы помогали, но не сильно, а побочные эффекты патентованных средств были чуть ли не хуже, чем сами болезни. Во многих содержалось большое количество мышьяка. Несмотря на значительное улучшение техники, хирургам приходилось постоянно беспокоиться из-за инфекций – они могли превратить успешную операцию в катастрофу. У особенно невезучих пациентов удаление вросшего ногтя приводило к ампутации всей ступни. Эндокардит был смертелен в 100 % случаев – хуже, чем рак.
Во время Гражданской войны в США от брюшного тифа и дизентерии умерло больше солдат, чем от пуль. Никто не был защищен. Леланд Стэнфорд-младший, сын губернатора Калифорнии, в честь которого назван университет, умер от брюшного тифа в Италии. Ему было пятнадцать лет. В Первую мировую войну статистика была примерно такой же. В 1918 и 1919 годах по миру прокатилась эпидемия «испанки»; заразились 500 миллионов человек, около четверти тогдашнего мирового населения. 20–40 миллионов умерло, зачастую из-за осложнений вроде бактериальной пневмонии.
Ученые в конце XIX и начале XX века лихорадочно работали над методами борьбы с инфекционными заболеваниями. У них была единственная путеводная звезда: теория микробов, идея, что многие болезни вызываются присутствием и действиями микроорганизмов, особенно бактерий.
Небольшая группа великолепных ученых, титанов в своих отраслях, показала дорогу всем. В 1857 году французский химик Луи Пастер доказал, что ферментация и гниение вызываются невидимыми организмами, парящими в воздухе. Он продемонстрировал, что гниение мяса вызывается микробами, а болезни можно объяснить размножением вредных микробов в теле. Последовав примеру венгерского врача Игнаца Земмельвейса, который потребовал от акушеров мыть руки и тем самым немало сократил количество смертей от родильной горячки, британский доктор Джозеф Листер совершил революцию в хирургии, введя новые принципы чистоты. Вдохновленный Пастером, он начал замачивать повязки в карболовой кислоте (вид каменноугольной смолы с антисептическими свойствами), прежде чем накладывать их на раны, и улучшил тем самым их заживляемость. Наконец, Роберт Кох, немецкий врач, разработал методы определения, вызывает ли данный микроорганизм какую-либо конкретную болезнь; сегодня эти критерии известны как «постулаты Коха». Кроме того, он разработал красители для визуализации бактерий, вызывающих туберкулез и холеру, под микроскопом.
Теория микробов, конечно, привела к улучшению санитарии и понимания болезней, но вот революцию не произвела. То, что бактерии теперь можно было видеть и даже самостоятельно выращивать еще не значило, что так же просто найти способы избавиться от них. Еще один первопроходец, Пауль Эрлих, работавший в бактериологической лаборатории Коха, искал «волшебные пули» – краски, яды, тяжелые металлы, – которые будут не только окрашивать конкретные микробы, но и убивать их.
Никто и не подумал искать в природе живые организмы, способные уничтожать патогены. Зачем? Это сейчас мы начинаем понимать, насколько потрясающе разнообразен мир микробов.
Именно такими были настроения в научном обществе, когда Александр Флеминг, носивший галстук-бабочку шотландец, работавший в лондонском госпитале Святой Марии, совершил открытие, изменившее мир. Как и многие современники, он искал способы убийства бактерий и проводил классические эксперименты: помещал желеобразную среду для выращивания (агар-агар и подогретую кровь) в неглубокие круглые прозрачные блюдца, которые называются «чашками Петри», а затем делал посев бактерий. Микроорганизмы, слишком маленькие, чтобы их можно было видеть невооруженным глазом, очень любят есть агар-агар. А поедая его, размножаются. В конце концов, агломерации из миллионов бактерий формируют колонию, видимую невооруженным глазом. Помещая чашки в теплый инкубатор на ночь, Флеминг выращивал огромные, хорошо видные золотистые колонии Staphylococcus aureus и других, которые затем пытался убивать ферментами, выделенными из белых кровяных телец и слюны{56}.
В августе 1928 года Флеминг уехал в отпуск во Францию. Вернувшись в начале сентября, он нашел несколько чашек Петри, которые забыл выбросить. В них был посеян стафилококк, и они целый месяц простояли на рабочем столе. Выбрасывая бесполезные чашки, ученый обратил внимание на одну из них. Там была полоска сине-зеленого пушка – обычной хлебной плесени, грибка Penicillum. Он заметил, что роскошная поляна золотистого стафилококка, многослойная пленка из миллиардов бактериальных клеток, заполнившая чашку до краев, исчезла рядом с плесенью. Вокруг возник своеобразный ореол – некое вещество в среде словно мешало микроорганизму расти дальше.
Глаз у Флеминга был наметан, так что он сразу понял, что произошло. Плесень – грибок, которому тоже нравится есть агар-агар, – выработала некую субстанцию, проникшую в «лакомство» и убившую стафилококк. Эта субстанция, первый обнаруженный настоящий антибиотик, растворяла бактериальные клетки точно так же, как лизоцим, фермент, обнаруженный Флемингом в слюне во время экспериментов несколькими годами ранее. Он растворял микробы, не оставляя вообще ничего. Ученый посчитал, что его «плесневый сок» содержит фермент (вроде лизоцима), который мешает бактериям строить клеточные стенки, из-за чего они лопаются. Позже стало понятно, что это вовсе не фермент.
Чудодейственная плесень принадлежала к виду Penicillum notatum. На самом деле ее антибактериальный эффект был известен еще с XVII века, но не Флемингу и не его современникам-врачам. Древние египтяне, китайцы и индейцы Центральной Америки лечили ею инфицированные раны{57}. Но именно научная подготовка Флеминга помогла превратить грибок из народного средства в передовое лекарство.
За следующие несколько месяцев ученый сумел вырастить плесень в жидкой питательной среде, профильтровал ее и выделил жидкость, проявившую наибольшую антибактериальную активность. Он назвал ее пенициллином. Но произвести субстанцию в достаточном количестве оказалось трудно. Флемингу вообще очень повезло, что штамм, попавший в чашку Петри, его производил. Но выработка оказалась маленькой, нестабильной, короткоживущей и медленнодействующей. Так и не найдя способов сделать пенициллин полезным в медицине, ученый сдался. Опубликовав результаты своих экспериментов{58} и попробовав (безуспешно) применить неочищенный экстракт на нескольких больных, он сделал вывод, что это открытие не имеет никакого практического значения.
Но другие не были столь пессимистичны. Через несколько лет немецкий химик, работавший на гигантскую химическую компанию I. G. Farben, производившую аспирин и текстильные красители, решил найти краску, которая замедлит рост бактерий. В 1932 году Герхард Домагк открыл красную краску (которую назвал пронтозил), содержавшую полностью синтетическое антибактериальное средство – первый сульфаниламид{59}. За ним последовал целый класс сульфаниламидовых лекарств. Это были первые средства, которые оказывали заметное и повторяющееся действие на бактерии и при этом были не настолько ядовиты, чтобы люди страдали от побочных эффектов. В последующие несколько лет врачи стали применять их для лечения инфекций. Но спектр действия был ограничен. Лекарства были недостаточно хороши{60}.
После начала Второй мировой войны потребность в антибактериальных средствах стала неотложной. Тысячи солдат ждала смерть от боевых ран, осложнений от пневмонии, инфекций брюшной полости, мочевых путей и кожи. В 1940 году команда с факультета патологий имени сэра Уильяма Данна в Оксфордском университете, которую возглавляли Говард Флори и Эрнст Чейн, достала из запасников пенициллин Флеминга и начала искать способы его производства в большом количестве. Поскольку Лондон бомбили, они отправились со своим проектом в Рокфеллеровский фонд в Нью-Йорке, где провели переговоры с представителями нескольких фармацевтических компаний. Их встретили отнюдь не с распростертыми объятиями, потому что знали: производство пенициллина находится на ранней экспериментальной стадии. Выработка редко превышала четыре единицы на миллилитр питательной среды – капля в море.
Британские ученые отправились в Пеорию, штат Иллинойс, где новый ферментационный отдел Северной региональной исследовательской лаборатории проводил исследования на тему использования метаболизма плесени (ферментации) в качестве источника новых микроорганизмов. Опытные сотрудники собрали значительную коллекцию, но лишь немногие из штаммов производили пенициллин, к тому же в недостаточном количестве. Привлекли знакомых: присылайте образцы почвы, плесневелых зерен, фруктов, овощей. Одну женщину наняли, чтобы она прочесала магазины, пекарни и сыроварни Пеории в поисках образцов сине-зеленой плесени. Она так хорошо работала, что даже получила прозвище «Плесневелая Мэри». И в конце концов, какая-то домохозяйка принесла дыню-канталупу, изменившую ход истории. Плесень на ней производила 250 единиц пенициллина на миллилитр питательной среды. Один из мутировавших ее штаммов – 50 000 единиц. Все существующие ныне штаммы – потомки той самой плесени 1943 года.
В конце концов, ученые разработали методы производства этого более мощного лекарства в большом количестве. Позже фармацевтическая фирма Charles Pfi zer & Company стала выращивать пенициллиновую плесень на патоке{61}. Ко времени высадки в Нормандии в июне 1944 года производилось 100 миллиардов единиц пенициллина в месяц.
* * *
Он положил начало золотому веку медицины. Наконец-то появилось лекарство, способное лечить инфекции, вызываемые смертоносными бактериями. Поскольку эффективность была поразительной, его считали по-настоящему «чудесным». Ему все было под силу. Пресса провозгласила «новую эпоху в медицине, победу над микробами, которые лишаются возможности питаться и переваривать пищу, триумфальное шествие по военным госпиталям Америки и Англии».
В 1943 году из почвенных бактерий был разработан стрептомицин, первое эффективное средство против M. tuberculosis. За ним последовали и другие – тетрациклин, эритромицин, хлорамфеникол и изониазид. Наступила эра антибиотиков. В то же время начали появляться полусинтетические лекарства, полученные с помощью химической модификации натуральных веществ. Кроме того, началось производство чисто синтетических, неприродных составов. Сегодня для удобства мы называем все эти лекарства антибиотиками, хотя, строго говоря, – это вещества, которые производит одна форма жизни для борьбы с другой{62}.
Первые антибиотики и их потомки преобразили медицинскую практику и здоровье мира. Когда-то смертельные заболевания вроде менингита, эндокардита и родильной горячки стали излечимыми. Хронические костные инфекции, абсцессы и скарлатину научились предотвращать и лечить, как и туберкулез, и венерические болезни вроде сифилиса и гонореи. Даже от моего паратифа можно было вылечиться без нескольких месяцев страданий и риска смерти. Кроме того, все это оказалось отличным методом профилактики – вылеченный пациент уже не может заразить других.
Хирургия стала безопаснее. Пациентам еще до операций давали антибиотики, чтобы снизить риск инфекций. Появилась возможность проводить более сложные операции: удаление опухолей мозга, исправление деформированных конечностей, лечение волчьей пасти. Без этих лекарств не было бы операций на открытом сердце, трансплантации органов и экстракорпорального оплодотворения.
Химиотерапия, использующаяся для борьбы с раком, часто подавляет иммунитет и приводит к инфекциям. Без антибиотиков лейкемия и многие другие виды рака были бы неизлечимы. Химиотерапия была бы просто слишком опасна.
Как эти лекарства совершают чудеса? Антибиотики работают тремя основными способами. Первый – это пенициллин и его потомки: они атакуют механизмы, которые бактерии используют для строительства клеточных стенок. Те, у кого они дефектные, погибают. Что интересно, они часто совершают самоубийство: отсутствие клеточной стенки заставляет бактерию сделать «харакири». Мы не знаем точных биологических причин этого явления, но природа отобрала грибки вроде Penicillum, которые производят антибиотики и способны эксплуатировать эту слабость.
В 50-х годах правительство Китая решило уничтожить сифилис. Десятки миллионов людей получили дозы пенициллина длительного действия. И эта огромная кампания по здравоохранению сработала. Старую как мир болезнь практически уничтожили. Фрамбезию, ее древнюю родственницу, точно так же удалось искоренить на огромных просторах Африки благодаря серии похожих кампаний.
Второй – антибиотики мешают бактерии вырабатывать белки, выполняющие все важные функции. Без этого в клетке не будет жизни, потому что они нужны для переваривания пищи, строения стенок, размножения, защиты от непрошеных гостей и конкурентов, помощи в передвижении. Подобные лекарства атакуют средства производства белков, калеча бактерии, при этом практически не мешая их производству в человеческих клетках.
Третий – антибиотики мешают бактерии делиться и размножаться, замедляя рост популяции. Медленно развиваясь, они представляют не такую большую угрозу, так что носитель может подготовить иммунный ответ и легко с ними разобраться.
Если задуматься, это натуральные вещества, производимые живыми организмами – грибками и другими бактериями, – которые хотят испортить жизнь конкурентам. Бактериальные клетки соседей – маленькие машины со множеством движущихся частей. За миллиарды лет они научились множеству способов атаки. А бактерии научились множеству способов защиты, которые и лежат в основе сопротивляемости лекарствами. Эта гонка вооружений идет с изначальных времен.
Но вот для нас, людей, открытие антибиотиков можно сравнить с изобретением атомной бомбы. Они фундаментально изменили «игровое поле». Что интересно, и то и другое появилось практически в одно время: научные открытия 20-х и 30-х годов привели к их введению в действие в 40-е. Как и в случае с оружием, мы надеялись обнаружить панацею: могучие антибиотики раз и навсегда победят бактерии! Угроза атомной бомбы настолько велика, что мы больше никогда не станем воевать. Доля правды есть в обоих утверждениях, но ни атомная бомба, ни антибиотики не оправдали возложенных на них надежд, да и не могли. Это всего лишь инструменты, а фундаментальные причины войны людей друг с другом и с бактериями никуда не делись.
* * *
С распространением лекарств начались и побочные эффекты, поначалу незначительные – несколько дней жидкого стула, аллергическая сыпь. Почти во всех случаях они исчезали сразу после прекращения приема лекарства. У небольшого числа обнаружилась серьезная, иногда даже смертельная аллергия на пенициллин. Но риск умереть от нее меньше, чем от удара молнии. Это очень безопасное лекарство.
Другие же антибиотики вызывали куда более серьезные побочные эффекты. Одни повреждали слуховой нерв, другие нельзя было давать детям, потому что зубы покрывались пятнами. Часто используемый в 50-х годах антибиотик хлорамфеникол, как оказалось, мог подавлять способность костного мозга производить кровяные клетки, что приводило к смертельному исходу примерно в одном из сорока тысяч случаев. Но в некоторых местах хлорамфеникол прописывали сотням тысяч маленьких детей, у которых просто болело горло. Для них риск явно превышал выгоду, к тому же существовало много альтернатив. В конце концов, врачи практически распрощались с этим лекарством. Тем не менее я много лет говорил студентам, что если меня высадят на необитаемом острове и предложат взять с собой только один антибиотик, я выберу хлорамфеникол – всего лишь из-за силы.
Идея, что и у других есть побочные эффекты, заметные далеко не сразу, встречалась очень редко – больше того, ее даже всерьез не рассматривали. Если через несколько дней или недель после приема лекарства не развивалась аллергия, его считали безопасным.
Почти все великие достижения медицины во второй половине XX века и до сегодняшнего дня стали возможными благодаря применению антибиотиков. Тогда казалось, что их применение не наносит никакого вреда. Последствия объявились намного позже.