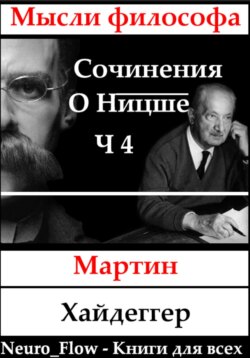Читать книгу Сочинение о Ницше часть 4 – Бытие как воля к власти - Мартин Хайдеггер - Страница 3
МЕТАФИЗИКА КАК ИСТОРИЯ БЫТИЯ (1948)
ОглавлениеНижеследующее можно было бы рассматривать как доклад об истории понятия бытия.
В таком случае существенное было бы упущено.
Однако в настоящее время об этом существенном, наверное, едва ли можно сказать как-то иначе.
«Бытие» означает, что сущее есть и не не есть. «Бытие» называет это «что» как решимость восстания против ничто. Эта решимость, которую излучает бытие, прежде всего, и здесь также в достаточной степени, заявляет о себе в сущем. В сущем проявляется бытие. Это не требует специального осмысления – настолько решительно бытие каждый раз влечет к себе (в бытие) сущее. Сущее же в достаточной мере сообщает о бытии.
Как «сущее» имеет силу действительное. «Сущее действительно». Этот тезис имеет двоякий смысл: во-первых, бытие сущего лежит в действительности. Во-вторых, сущее как действительное «действительно», то есть на самом деле сущее. Действительное есть осуществленное действие, которое само, в свою очередь, снова действует и является способным к действию. Действие действительного может ограничиваться способностью вызывать противодействие, которое оно по-разному может противопоставлять другому действительному. Поскольку сущее действует как действительное, бытие проявляется как действительность. Уже давно принято считать, что в «действительности» обнаруживается подлинная сущность бытия. Кроме того, часто «действительность» означает «существование». Кант, например, говорит о «доказательствах существования Бога», каковые должны показать, что Бог действителен, то есть что он «существует». Под «борьбой за существование» понимают борение за становление действительным и пребывание действительным всего живого (растений, животных, человека). В метафизике поднимается вопрос о том, является ли действительный мир (то есть теперь мы можем сказать: мир «существующий») самым лучшим из миров или не является. В слове «существование» (existentia) бытие как действительность действительного обнаруживает свое самое распространенное метафизическое наименование. На языке метафизики «действительность», «существование» и «existentia» выражают одно и то же, однако то, о чем эти термины говорят, ни в коем случае не является однозначным. Причина тому не в небрежном словоупотреблении, а в самом бытии. Мы охотно и легко говорим о том, что каждый во всякое время знает, что означают «бытие», «действительность», «существование» и «экзистенция», однако в какой мере бытие определяется как действительность в горизонте действования и делания, остается неясным. Кроме того, в метафизике «бытие» не было бы выражено вполне, если бы разговор о бытии сущего ограничился отождествлением бытия и существования.
С давних пор в метафизике проводится различие между тем, чтоесть сущее, и тем, есть ли оно или его нет. На языке метафизики это называется различием между сущностью (essentia) и существованием (existentia). Essentia подразумевает quidditas, то, что, например, делает дерево растением, живым организмом, деревом как таковым независимо от того, «существует» ли то или это дерево или нет. То, что делает дерево собственно деревом, здесь определяется как γένος в двойном значении происхождения и рода, то есть как έν в отношении к πολλά. Оно есть единое в смысле происхождения («откуда») и в смысле общего (κοννόν) по отношению ко многому. Essentia называет то, что может быть как существующее дерево, если таковое существует, называет то, что делает его возможным как таковое, то есть называет возможность.
В бытии проводится различение между что-бытием (сущностью) и что-бытием (существованием). Этим различением и подготовкой к нему начинается история бытия как метафизики. Метафизика усваивает это различение применительно к структуре истины о сущем как таковом в его целом. Таким образом, начало метафизики раскрывается как событие, которое состоит в принятии решения о бытии в смысле выявления различия между сущностью и существованием.
В определении существования (existentia) в качестве опоры используется сущность (essentia). Проводится различие между действительностью и возможностью. Можно было бы попытаться осмыслить различение бытия на что-бытие и что-бытие с помощью выявления того общего, что определяет различенное. Что за «бытие» остается, если отвлечься от «сущности» и «существования»? Если этот поиск максимально общего ведет в пустоту, то, быть может, в таком случае сущность надо понимать как некий вид существования или, наоборот, понимать существование как видоизменение сущности? Если бы ответ на этот вопрос был найден, тогда все равно остался бы нерешенным вопрос о происхождении этого различения. Быть может, оно исходит из самого бытия? Что «есть» бытие? Каким образом из него проистекает различение, каково его происхождение? Или, быть может, оно только примысливается бытию? Если да, то какое мышление делает это и на каком основании? Каким образом для этого при-мысливания ему дается бытие?
Даже если только в общих чертах продумать приведенные вопросы, сразу исчезнет видимость самопонятности различения essentia u existentia, характерного для всей метафизики. Это различение остается необоснованным, если метафизика продолжает непрестанно хлопотать только об обособлении различенных моментов и потчует нас перечислением способов возможности и видов действительности, каковые вместе с упомянутым различием, в котором они остаются, уносятся в нечто неопределенное.
Однако если допустить, что этим темным по своему происхождению различием сущности и существования метафизика обосновывает свою сущность и на нем утверждает ее, тогда надо признать, что она сама своими силами никогда не сможет постичь природу этого различения. Для начала было бы необходимо, чтобы само бытие, сокрытое в этом различии, намеренно коснулось ее. Однако бытие этого не делает и тем самым дает метафизике возможность утверждать свое сущностное начало – утверждать подготовкой и раскрытием этого различения. Происхождение различия между essentia и existentia и тем более происхождение таким образом различаемого бытия остается сокрытым или, по-гречески говоря, забытым.
В таком случае забвение бытия означает самосокрытие бытия, в котором проводится различие на сущность и существование, в пользу бытия, которое проясняет сущее как сущее и остается неопрошенным как бытие.
Различение между сущностью и существованием – не просто образчик метафизического мышления. Оно указывает на событие в истории самого бытия.Об этом следует подумать. Для такого памятующего мышления недостаточно свести распространенное различение между essentia и existentia к его происхождению из мышления греков, и этого тем более недостаточно, если таковое различение, ставшее определяющим в греческом мышлении, мы «разъясняем» с помощью сформировавшегося впоследствии и распространившегося в школьной метафизике построения, то есть по существу обосновываем основание из его следствий. Между тем контекст различения между essentia и existentia исторически легко воссоздать, обратившись к мышлению Аристотеля, который впервые выводит это различение на уровень понятия, то есть дает ему сущностное обоснование (после того как Платон, осознав притязание бытия, начал подготовку к этому различению и его разработку).
Essentia отвечает на вопрос τί έστιν, что есть (сущее)? Existentia говорит о сущем ότι έστιν, что оно есть. Различение называет различное έστιν. В этом проявляется είναι (бытие) в его различии. Каким образом бытие может впасть в это различение? Какая сущность бытия раскрывается в это различение как в открытое этой сущности?
В начале своей истории бытие проясняется как всхождение (φύσις) и раскрытие (άλήθεια). Затем на нем запечатлевается присутствие и постоянство в смысле пребывания (ούσία). Так начинается собственно метафизика.
Какое присутствующее появляется в присутствовании? Аристотель мыслит присутствующее как то, что, придя в это состояние, пребывает в постоянстве или, будучи приведенным в свое положение, предлежит. Постоянное и предлежащее, выступившие в несокрытость, предстают то как это, та как то, предстают как τόδε τι. Постоянное и предлежащее Аристотель понимает как каким-то образом покоящееся. Покой проявляется как особенность присутствия. Однако покой есть особый способ подвижности. В покое совершается движение.
Движимое приводится в состояние и положение присутствия, причем приводится в про-из-ведении (Her-vor-bringen). Последнее может совершаться как φύσις (отпускать что-либо от себя и давать ему возможность взойти) или как ποίησις (что-либо поставлять сюда и пред-ставлять). Присутствие присутствующего, будь оно покоящимся или подвижным, получает свое сущностное определение тогда, когда подвижность, а вместе с ней и покой постигаются (как основные черты бытия из присутствия) как один из его модусов.
Определение подвижности и покоя как особенностей присутствия, а также истолкование этих особенностей из изначально уясненной сущности бытия как всходящего присутствия в несокрытости Аристотель дает в своей «Физике».
Стоящий там дом есть, потому что он, будучи выдвинутым в свой эйдос (Aussehen), выставленным в несокрытое, находится в этом эйдосе. Находясь в нем, он покоится – покоится в той выставленности, которую дает его эйдос. Покой сюда-выставленного – не ничто, а собирание. Он собрал в себе все движения, характерные для вы-ставления дома, завершил их в смысле завершающего очертания (πέρας, τέλος), а не простого отграничения. Покой хранит совершение подвижного. Дом, который где-то там находится, естькак έργον. Под «произведением» подразумевается у-покоенноев покой из-смотрящего – в этом пребывающего, лежащего – у-покоенное в присутствие в несокрытом.
В ракурсе греческого мышления речь не идет о произведении в смысле последствия какого-то напряженного делания, равно как не имеется в виду некий результат или успех; речь идет о произведении в смысле чего-то выставленного в несокрытое его эйдоса и пребывающего как таким образом стоящее или лежащее. Пребывать здесь означает: спокойно присутствовать как творение.
Теперь έργον характеризует модус присутствования. Поэтому присутствие, ούσία, означает ένέργεια: сущность творения (сущность, понятая вербально), находящаяся в нем, или соделываемость (Werkheit). Последнее означает не действительность как результат действования, а в несокрытом вот-стоящее присутствование поставленного в разных ракурсах. Поэтому «энергейя» в греческом понимании этого слова не имеет ничего общего с позднейшей «энергией»; в крайнем случае, хотя тоже очень отдаленно, имеет силу обратное. Вместо ένέργεια Аристотель также употребляет им самим придуманное слово έντελέχεια. Τέλος есть завершение, в котором собирается движение сюда-поставления и туда-поставления, каковое завершение представляет присутствование о-конченногои за-конченного, то есть завершенного (в творении). Έντελέχεια есть (себя)-имение-в-завершении, есть сокровенное, оставляющее позади себя всякое установление и потому непосредственное, чистое присутствование: сутствие в присутствии. Ένέργεια, έντελεχεία όν значит то же самое, что έν τώ είδει είναι. То, что присутствует из «в-творении-как-творении-сущности», находится в настоящем благодаря виду (эйдосу) и через него. Ένέργεια есть ούσία (присутствие) наличествующего, данного нечто, того или этого.
В качестве этого присутствия ούσία означает: τό έσχατον, присутствие, которое содержит в себе свое, предельное и последнее присутствование. Этот высший способ присутствия также делает максимально актуальным все то, что пребывает как данное это или данное то в несокрытом. Если είναι (бытие) определяет высший модус своего бытийствования как ένέργεια, тогда таким образом определенная ούσία должна сообщить – а именно из своего собственного (Eigene) – о том, как она может впадать в различие сущности и существования и вследствие четко выраженного господства бытия как ένέργεια и должна впадать.
Становится необходимым провести различие в самой ούσία, указав на ее двоякость. Это различение Аристотель проводит в начале пятой главы своего трактата «О категориях».
Ούσία δέ έστιν ή κυριώτατά τε καί πρώτως καί μάλιστα λεγομένη, ή μήτε καθ' ύποκειμένου τινός λέγεται μήτε έν ύποκειμένω τινί έστιν, οίον τίς άνθρωπος ή ό τίς ίππος.
«В смысле первостепенно существующего, а также в соответствии с более всего сказанным (присутствием) присутствующее есть то, что не высказывается ни в отношении уже каким-то образом предлежащего, ни наличествует в уже каким-то образом предлежащем, например, человек, лошадь».
Присутствующее таким образом – не какой-то возможный предикат, не присутствующее в чем-либо другом или по отношению к нему.
В особом, первостепенном значении присутствие есть пребывание того или иного по себе пребывающего, предлежащего, пребывание когда-либо-бывающего, ούσία в отношении к καθ'έκαστον: то или иное «это», единичное.
От этого, таким образом определенного, присутствия отличается другое, чье присутствующее характеризуется так: δεύτεραι δε ούσίαι λέγονται, έν οίς εϊδεσιν αί πρώτως ούσίαι λεγόμεναι ύπάρχουσιν, ταΰτα τε καί τ τών είδών τούτων γένη οίον ό τίς άνθρωπος έν είδει μεν ύπάρχει τώ άνθρώπω, γένος δε τοΰ είδους έστί τό ζώον. δεύτεραι οΰν αύται λέγονται ούσίαι, οίον ό τε άνθρωπος καί τό ζώον (Categ. V, 2 а 11 sqq).
«Во-вторых, присутствующим называются те [обратим внимание на множественно число], в которых как способах вида уже господствует упомянутое (как там-то и там-то бывающее) присутствующее. Сюда относятся (названные) способы вида, а также роды этих способов, например, этот человек присутствует здесь в виде (эйдосе) человека, для которого вид „человек" является источником происхождения (его рода), „живое существо". Таким образом, присутствующими во втором случае называются: например, „человек" (вообще), а также „живое существа" (вообще)». Присутствие во втором значении есть себя-обнаружение эйдоса, вида, и сюда относится все то, в чем теперь то или иное пребывающее позволяет проявиться тому, благодаря чему оно присутствует.
Присутствие в первом значении есть бытие, выражающееся в ότι έστιν: что-бытие, existentia. Присутствие во втором смысле есть бытие, о котором спрашивают τί έστιν: что-бытие, essentia.
Что-бытие и что-бытиераскрываются как способы присутствования, основой чертой которого является ένέργεια.
Но не лежит ли в основе различия между ότι έστιν и τί έστιν другое, более широкое различие, а именно различие между присутствующим и присутствованием? В таком случае первое различие как таковое можно отнести к одной стороне различения между сущим и бытием. Ότι έστιν и τί έστιν называют способы присутствования, поскольку в них присутствующее присутствует в пребывании данного или остается в одном лишь самообнаружении эйдоса. Различение между сущностью и существованием исходит из самого бытия (присутствия). Присутствование имеет в себе различие: оно распадается на чистую близость пребывания и иерархическую структуру эйдоса. Но в какой мере присутствование имеет это различие в себе?
Насколько привычной является дистинкция сущности и существования вместе с дифференцией бытия и сущности, насколько темным является сущностное происхождение этих различий, настолько неопределенной остается структура их взаимопринадлежности. Наверное, метафизическое мышление по своей сути никак не может прояснить загадку этих различий, которые воспринимает как нечто само собой разумеющееся.
Однако поскольку Аристотель мыслит ούσία (присутствие) в первую очередь как ένέργεια, а это присутствие подразумевает не что иное, как то, что позднее в видоизменившемся истолковании называется actualitas, «действительность» и «существование», аристотелевское разъяснение упомянутого различения свидетельствует о предпочтении, которое отдается тому, что позднее будет названо existentia, перед тем, что предстанет как essentia. То, что Платон мыслил как подлинную и для себя единственную сущесть (ούσία) сущего, как присутствие в модусе идеи (είδος), теперь приобретает в бытии второстепенное значение. Для Платона сущность бытия сосредоточивается в κοινόν идеи и тем самым соотносится с έν, которое, однако, как единящее единое по-прежнему определяется со стороны φύσις и λόγος, то есть сосредоточивающего восхождения. Что касается Аристотеля, то для него бытие покоится в ένέργεια, заключенной в τόδε τι. В ракурсе ένέργεια эйдос (είδος) может мыслиться как модус присутствования. Напротив, с точки зрения идеи (ίδέα) данное сущее (τόδε τι) остается непостижимым в его сущести (Τόδε τι есть μή όν – и тем не менее όν).
Сегодня, правда, принято следующим способом объяснять историческую связь между Платоном и Аристотелем: в отличие от Платона, который считает «идеи» «истинно сущим», а единично сущее лишь кажущимся сущим (είδωλον), которое вообще-то не может быть сущим (то есть оно есть μή όν), Аристотель низвел свободно парящие «идеи» с их «надзвездного обиталища» и поместил в действительные вещи. При этом он переосмыслил эти «идеи», назвав их «формами», и стал понимать «формы» как «энергии» и «силы», обитающие в сущем.
Это примечательное, однако неизбежное в ходе развития метафизики объяснение взаимосвязи между Платоном и Аристотелем (в том, что касается мышления бытия сущего) заставляет задать два вопроса. Как вообще мог Аристотель поместить идеи в действительно сущее, не постигнув прежде отдельно данное как подлинно присутствующее? И как мог он прийти к понятию присутствия единично действительного, не помыслив сначала бытие сущего в горизонте изначально уясненного бытийствования бытия из присутствия в несокрытом? Аристотель не привносит идеи (как будто это некие вещи) в единичные вещи: сначала он осмысляет единичное как теперь пребывающее и мыслит его пребывание как особый вид присутствования, а именно присутствования самого эйдоса в предельной актуальности нечленимого, то есть больше не имеющего иерархии эйдоса (άτομον είδος).
То же самое бытийствование (сутствование) бытия, а именно присутствование, которое Платон мыслит как κανόν в ίδέα, Аристотель понимает как ένέργενα для τόδε τι. Поскольку Платон никогда не согласится признать отдельно сущее подлинно сущим, а Аристотель включает единичное в присутствование, можно сказать, что Аристотель мыслит более по-гречески, то есть в большем соответствии с изначально уясненной сущностью бытия, чем Платон. Тем не менее Аристотель может мыслить ούσία как ένέργεια только в противовес осмыслению ούσία как ίδέα и в результате вообще сохраняет είδος как второстепенное присутствие в присутствовании присутствующего. Говоря о том, что Аристотель мыслит более по-гречески, чем Платон, мы не имеем в виду, что он в большей степени приблизился к изначальному мышлению бытия. Между ένέργεια и изначальной сущностью бытия (άλήθεια—φύσις) стоит ίδέα.
Оба модуса, характерные для ούσία, то есть ίδέα и ένέργεια, в игре их взаиморазличения образуют костяк всякой метафизики, всякой истины сущего как такового. Бытие возвещает свою сущность двояко: бытие есть присутствие как самообнаружение эйдоса; бытие есть пребывание отдельно данного (τόδε τι) в этом эйдосе. Эта двойное присутствие основывается на присутствовании и поэтому сутствует как постоянство: про-дление, пребывание. Оба способа бытия можно мыслить только в том случае, если всякий раз, исходя из него и возвращаясь к нему, мы говорим о нем в смысле его сущности и существования. Внутри своей истории как «метафизики» бытие ограничивает свою истину (раскрытие) сущестью в смысле ίδέα и ένέργεια. При этом ένέργεια получает преимущество, однако это никогда не оттесняет «идею» как основную черту бытия на второй план.
В буквальном смысле понимаемое здесь про-должение (Fort-gang) метафизики из ее начала, знаменованного Платоном и Аристотелем, заключается в том, что эти первые метафизические определения присутствия претерпевают изменение, вовлекают в это изменение свое взаимообразное различение и наконец приводят к тому, что в их своеобразном смешении различие между ними вообще исчезает.