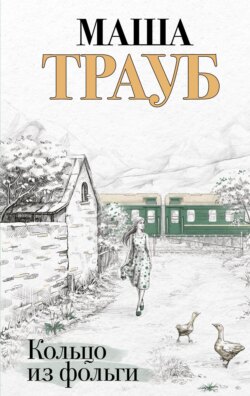Читать книгу Кольцо из фольги - Маша Трауб - Страница 2
ОглавлениеУ каждого своя память. Если сравнить воспоминания двух людей об одном и том же событии, получите две разные версии, зачастую противоречащие друг другу. И даже если эти люди находились в одном месте в одну и ту же минуту, все равно будут разные истории. Память – защитный механизм, вычищающий из подкорки все то, что может убить, но щедро оставляет то, что заставляет страдать. Тут на помощь приходит еще один защитный механизм – наш собственный взгляд, подчас фантазии, которые пусть медленно, но заменяют реальные воспоминания. И уже выдуманные детали обретают статус случившихся в действительности.
«Как ты не помнишь?» – может кричать один человек другому. Дочь матери. Сын отцу. Родственники. Любовники. Супруги. «Да не было такого!» – отвечает второй и говорит искренне. Его память уже постаралась, зачистив тот самый «больной» фрагмент.
«Ты назвала меня безмозглой дурой!» – «Никогда так тебя не называла! Это ты меня поливала матюгами и проклятиями!» – «Да что ты придумываешь?» Все заканчивается скандалом. Кто что сказал, кто как ответил. Что было, а чего не было. И ничего нельзя доказать. Каждый живет в своей памяти.
Почему так происходит? Мне кажется, это позволяет людям не сойти с ума, не скатиться в пучину безумия. Обычный механизм выживания.
«Кольцо из фольги» – абсолютно правдивая история, в которой я попыталась сравнить свои воспоминания с теми, что остались в памяти моей матери. Место одно – северокавказское село. И ее, и мое детство прошли именно там. Мама уехала из села в шестнадцать лет. Я покинула его в двенадцать. Мама никогда в жизни не хотела туда вернуться. Ни за что на свете, ни при каких обстоятельствах. Наоборот, вычищала из своей памяти годы, проведенные там. Вытравляла акцент, характерные, свойственные только той местности интонации, вбитые в голову правила поведения, жесты. Я же всю свою жизнь мечтала вернуться в то село. Бережно хранила воспоминания о том, что ела в детстве, какие пела песни, куда вели дороги. Как вскакивала со стула, если в доме появлялся мужчина, и убегала в свою комнату, считавшуюся женской половиной. Как смотрела в пол, когда меня представляли гостям, зная, что нельзя поднять глаза. Как подставляла щеки, чтобы меня расцеловали, ущипнули в знак нежности. Как уже в собственной семье подавала блюда и уходила на кухню, а гости не понимали, почему я не сажусь за общий стол. Как ходила по рынкам, вспоминая запахи и вкусы сельского базара, и все было не таким, подделкой. Даже еда имела другие запах и вкус.
Вспоминать было тяжело. Мамины фантазии давно заслонили реальность. Она сделала все возможное для того, чтобы забыть язык, на котором говорила с раннего детства, на котором читала и писала. Забыла рецепты блюд, на которых выросла. Забыла традиции, праздники. Удивительно, но у нее даже акцента никогда не было. Ни малейшего. Я же бережно хранила в памяти детали быта, ощущения на пальцах, когда прикасаешься к горячему пирогу, теплой печке, кусту крапивы, ягодам кизила или тутовника. Пирог, только из печи, смазанный сливочным маслом, не обжигает, а заманивает. Отдергиваешь руку, но тут же тянешь снова. Хватаешь кусок, перекладываешь из одной руки в другую. Понимаешь, что надо подождать всего несколько минут или хотя бы подуть. Но нет. Откусываешь, обжигая язык и нёбо картошкой с сыром, самой вкусной начинкой на свете. Сыр чуть солоноватый, домашний. Только из ведра, из рассола. А картошку сначала нужно растолочь до состояния пюре, добавить молока и сливочного масла не пожалеть. И чтобы ни одного комочка не осталось. Нет, через сито пюре не пропускали, все вручную, давилкой…
Кизиловое варенье, которое все варили во дворе. Помешать специальной деревянной ложкой, снять пенку, попробовать, обжечься. Наслаждение, невероятный вкус. Я пыталась сварить на кухонной плите, ничего не получилось. Точнее, получилось, но совсем другое. Городское, что ли, не деревенское. Я разрешала своим детям слизывать с ложки пенку или доедать из миски остатки крема – мои вкусы детства. Они не понимали, почему я счастлива. Как не понимали многих блюд, на которых я выросла, – кукурузные каши, лепешки, соусы к мясу и рыбе, фаршированные перцы, компоты, пироги с разными начинками.
Я готовила, предлагала хотя бы попробовать. Дети ели, но им было не так вкусно, как мне в детстве. Однажды отрезала кусок хлеба, намазала маслом и посыпала сверху сахаром. Дети недоуменно откусили по маленькому куску, и все.
* * *
Про правильное питание я знаю много, как и про всевозможные диеты. Но никогда не откажусь от по-настоящему вкусного блюда и, если уж очень захочется, съем ночью мороженое. Потому что я помню тетю Фати. Она всегда была худой, даже изможденной. И не сказать, что четверых детей родила. Тонкие ноги, руки-палочки, живот аж к позвоночнику прилип. Она доедала то, что осталось после обеда или ужина, приготовленных для мужа и детей. Да еще и делила остатки с кошками и собакой. Тетя Фати для себя никогда не готовила. Говорила: «Не умею для себя, как можно?» Не садилась за стол, пока не поедят родные.
После смерти мужа у тети Фати вдруг проснулся аппетит, причем зверский. Есть она хотела всегда, в любое время суток, и никак не могла насытиться. Она отбирала сладости у внуков, тайком откладывала себе лучший кусок мяса, прятала еду в своей комнате. За короткий срок тетя Фати раздалась в теле и перестала выходить на улицу – ей нечего было надеть, все платья стали малы. Она вдруг превратилась в капризного ребенка, которому запрещают есть сладости, но он находит способ их заполучить. Если близкие прятали от нее конфеты, тетя Фати начинала плакать и причитать, что ее никто не любит, держат на воде и хлебе. Забросив хозяйство и домашние дела, она думала лишь о том, где достать шоколад, халву, конфеты, печенье. Наша местная знахарка Варжетхан считала, что нужно проверить гормоны, сдать анализы, отвезти тетю Фати в городскую больницу для полного обследования. Но та категорически отказывалась, а родные не могли ее переубедить. Так что тетя Фати продолжала лакомиться сладостями, есть двойные порции на обед и ужин и чувствовала себя счастливой. Она перестала вставать с кровати, и близкие приносили ей еду в комнату. Умерла она тихо, в собственной постели, засыпанной крошками печенья, на белье, заляпанном вареньем.
Моя бабушка считала, что тетя Фати умерла от горя. Похоронив мужа, она не знала, как жить дальше. Ведь для него она готовила, вела хозяйство, рожала детей, подавала, уносила. Была его верной служанкой, старавшейся во всем угождать. А потеряв хозяина, не сумела жить для детей и внуков. Для себя, наконец. Вот и заедала свое горе. Варжетхан не спорила, соглашалась, но считала, что тете Фати можно было помочь, просто вовремя прописав нужные таблетки…
* * *
Печке нужно дать время. Тепло сначала медленно растекается по пальцам, потом по ладоням и поднимается все выше. И лишь потом нужно к ней прижаться спиной, икрами. Тогда тепло разливается по всему телу. Сверху накрыться пуховым одеялом и уснуть в то же мгновение. Даже взрослый человек в чем-то остается младенцем. Младенца, как учили молодых матерей в нашем селе, не нужно носить на руках, трясти, укачивая. Его надо согреть. Завернуть в пеленки, обязательно батистовые, выстиранные и отглаженные с двух сторон. Спеленать покрепче – сначала одну ручку прижать к телу, завернуть пеленочку под спинку, потом вторую. И не забыть про чепчик, который, конечно же, лучше связать самой. Сверху запеленать в плед, связанный из шерстяных ниток, или в маленькое одеяло, желательно тоже побывавшее в многочисленных стирках и потому мягкое. Укрыть еще одним. Но не синтетическим, а настоящим, пуховым. Малыш уснет, почувствовав себя в безопасности. Потом верхнее одеяло можно снять, иначе ему станет жарко. Можно открыть форточку. И тогда станет спаться еще слаще. Когда из-под одеяла торчит один сопящий носик.
Что должно быть в детской, помимо всего прочего? Одеяло на столе, приспособленное под глажку, и утюг. На ночь ни в коем случае нельзя одевать ребенка в холодные ползунки и распашонку. Прогладить с двух сторон, и только после этого – на ребенка, пока одежда еще теплая, только из-под утюга. Я была уже взрослой, но бабушка свято блюла этот ритуал, облачая меня на ночь в теплую ночную рубашку. Даже летом. Мой взрослый сын до сих пор спит с открытой форточкой даже в сильный мороз. Из-под одеяла торчит нос. В комнате разве что иней на стенах не лежит. А дочери я иногда на автомате грею ночную рубашку, чтобы было «только из-под утюга».
* * *
Кусты крапивы бывают разные. Если крапива молодая, ее листья не колются. Их можно смело трогать. Стебель тоже еще не колется, лишь слегка. А вот старая крапива совсем болючая, до зудящих здоровенных волдырей. Даже сквозь полотенце, намотанное на руку, колется. Молодая, майская, крапива шла на суп, а старая, уже осенняя, – на настойки, отвары. Стебли – для сока – срывали обязательно до цветения. Даже корни использовались. Крапивой лечили, кажется, все болезни – от ожогов до сбившегося менструального цикла. Мочегонное, кровоостанавливающее, желчегонное… Крапиву я рвала все свое детство. И крапивой же получала по попе за любой проступок. Детей в нашем селе не шлепали, не били ремнем. Для наказания использовалась крапива. Считалось, что даже полезно – получить крапивой.
Тетя Белла была в селе главным специалистом по крапиве – она на глаз умела определить, когда срывать молодую, а когда старую, когда стебли, а когда листья. Она сидела во дворе и, задрав халат, хлестала себя по ногам крапивным букетом. Говорила, что ей после этого «легче ходится». А потом просила кого-нибудь из девочек похлестать ее крапивой по спине – от радикулита.
Варжетхан признавала свойства крапивы как разогревающего средства, улучшающего приток крови. Но категорически возражала против использования крапивы для лечения мужской немощи. Тетя Белла же всем молодым женщинам, которые ходили с потухшим взглядом и, сгорая от стыда, признавались, что молодой муж очень хочет, но не может, советовала похлестать мужа крапивой по ногам и ягодицам. Варжетхан, к которой приходили женщины с вопросом, нет ли другого способа, выдавала настой на семенах или корнях крапивы, но хлестать очень не советовала. Женщины радостно соглашались на настой.
Кизил и тутовник. Это мое детство. Ягоды кизила – яркие, сверкающие, будто покрытые лаком. Кизиловое варенье готовилось в каждом дворе. Неповторимый вкус и запах, который я узнаю из миллиона других. Тутовник же всегда под рукой. Им невозможно наесться. Даже донести до дома не получится – ягоды слишком нежные. Лучше есть сразу, с дерева, сидя прямо на нем. Плоды темно-фиолетовые, почти черные, и белые, но не совсем, будто в белый цвет добавили немного бежевой краски, совсем чуть-чуть. В селе варили варенье из тутовника, но оно не передавало весь вкус ягоды.
Я лелеяла эти ощущения и воспоминания. Изо дня в день прокручивала в голове, чтобы помнить. Только бы не забыть. Повторить их я уже не смогла никогда, как ни пыталась.
* * *
Зачем нужны фотографии, напечатанные на бумаге? Старые семейные фотоальбомы? Вещи, которые принадлежали нашим бабушкам, дедушкам? Эти вещи – наша память. Без них все стремительно испаряется. Что сделать, чтобы забыть о некогда дорогом сердцу человеке – любовнике, бывшем муже? Просто выбросить все вещи, которые хоть как-то о нем напоминают. Смешной медведь, подаренный на Восьмое марта? На помойку. Даже если вы его засунете в дальний ящик с глаз долой, все равно будете знать, что он там. Сидит и ждет, когда вы на него наткнетесь случайно при уборке или вытащите специально. Стоит только достать – и водоворот воспоминаний не оставит шанса вынырнуть. Можно накрутить себя так, что те мгновения – дни, недели или месяцы – покажутся самыми счастливыми в жизни. И этот медведь станет символом того счастья. А бывает наоборот – плюшевая игрушка становится символом обиды, разочарования, душевной боли. Зачем тогда хранить то, что напомнит о слезах, криках, предательстве? Отрицательные эмоции тоже нуждаются в подпитке, некой вещи, материальной, которую можно потрогать. Тактильные ощущения – самый сильный провокатор, заставляющий вспомнить.
Кольцо, скрученное наспех из фольги или проволоки от шампанского… Какое же счастье тогда обрушилось на голову! То самое, настоящее, которое случается раз или два в жизни. Когда не видишь и не слышишь ничего, когда мозгом управляет не разум, а гормон окситоцин. Когда готов на любое безумство. Когда в сутках вдруг оказывается не двадцать четыре часа, а все сорок восемь, и ты успеваешь жить в два, три раза быстрее, поскольку не ходишь, а летаешь. Пусть недолго – этот гормон тоже имеет срок годности, – но паришь, не видя препятствий, готовый на все. Любимый позовет прыгнуть с обрыва вслед за ним, и ты прыгнешь не задумываясь. Влюбленные женщины бессмысленны и беспощадны. Они не видят перед собой препятствий. Да вообще ничего и никого не видят – лишь своего возлюбленного. Они строят грандиозные планы, сжигают мосты, бросают бомбу в свою прошлую жизнь. И все последующие попытки – лишь желание еще раз ощутить то самое счастье, тот драйв и азарт. То ощущение, когда ты способен на все. Заставить землю вращаться в другую сторону? Легко.
Впрочем, есть люди, которые способны испытывать это счастье с каждым новым возлюбленным или возлюбленной. Наверное, именно их и называют счастливыми, имея в виду – счастливые идиоты. Влюбленных по самую макушку людей обыватели сторонятся, те недалеко ушли от сумасшедших – в поступках, поведении, принятии решений. Они живут не здесь, не сейчас, а где-то в другом мире. А то, что творится в реальности – болезни родственников, потеря работы, другие насущные проблемы, – отскакивает от влюбленного человека, как мяч от стены. Все становится неважным… Правильно говорят, что во вселенских катастрофах выживут или сумасшедшие, или влюбленные. Они находятся в параллельной реальности. Потом, конечно, наступает прозрение, отрезвление, оказывающееся мучительнее, чем самое сильное похмелье. И человек задает себе вопрос – что это было? Пошлость ведь, причем кристаллизованная. Бред какой-то. Как вообще можно было связаться с таким идиотом или идиоткой? Тут гендерная разница не важна. А тогда… Все эти кольца, ракушки, календарики, амулеты и браслеты, шоколадки, покрывшиеся от времени белым налетом… У каждого своя память, свои триггеры воспоминаний, бережно хранимые. Достаешь, и в голове мечется только одна мысль – а вдруг такое случится еще раз? Чтобы до сумасшествия! До потери сознания!
Так бывает не только с любовью – со всем, особенно с предметами быта. Эмалированный ковш, увиденный в сельском магазинчике, куда забрел не пойми зачем. Точно такой же, как был в детстве. Или чашка с вишенками. Бабушка в такую наливала компот из яблок. Столовый сервиз с золотыми лепестками и золотой каемкой по ободку. Мама на него долго копила, доставала немыслимыми усилиями, а ты, маленький, случайно разбил чашку. И не понимаешь, почему мама плачет так горько, как никогда не плакала. Ты ждешь самого сурового наказания, но мама продолжает оплакивать чашку, будто кто-то умер. И тебе, ребенку, спустя многие годы будет казаться, что не чашка разбилась, а ты для мамы перестал существовать. Это ты для нее умер.
Или сифон, привезенный отцом из командировки, – что-то невероятное, настоящее чудо. Мама смеялась, папа хохотал, показывая, как заправлять в сифон баллон. Счастливейший семейный вечер. Домашний лимонад из малинового варенья даже пить было страшно. А потом, спустя недолгое время, мама увидела точно такой же сифон, оказавшись в гостях у коллеги. Точно такого же цвета. И что-то вдруг нехорошее шевельнулось внутри, засосало под ложечкой. Долго не отпускало, но гнала от себя дурные мысли. Мало ли? Ну и что, что такого же цвета? Ну и что, что коробочка с баллонами точно такая же? А потом мама сначала бросила этот сифон в стену, пыталась разломать. Выбросила не в мусорное ведро, а вынесла на помойку. При этом не плакала, не кричала. Все делала молча, отчего становилось еще страшнее. Папа пропал. Мама сказала, что он опять уехал в срочную командировку. Но обманывала – чемодан стоял в шкафу, и костюм, который он всегда брал в командировки, висел на вешалке. Папа приходил тихий, изменившийся, совсем другой. Мама закрывала дверь на кухню. Она тоже изменилась – стала жестче, перестала улыбаться. Бабушка привезла малиновое варенье, сварила специально для сифона. Только тогда мама расплакалась. Больно и безутешно. Бабушка прижала банку с вареньем к груди и причитала:
– Горе-то какое, горе…
* * *
Я вспоминаю орешницу, тяжеленную, неподъемную. Надо было приготовить десерт для урока труда в школе. Тогда девочки готовили, а мальчики выжигали рисунки на дереве и сколачивали табуретки. Орешки со сгущенкой, обязательно вареной, – один из главных вкусов детства. Еще, конечно, шоколадная колбаса из печенья, какао, иногда орехов, чтобы при разрезе были видны белые пятна, как в сервелате. Но колбасу все делали, а орешки считались настоящим лакомством. Налить тесто в формы, закрыть сверху. Сварить банку обычной сгущенки так, чтобы та не взорвалась, не перестояла. Положить вареную сгущенку в выпеченную скорлупку орешка, закрыть сверху еще одной. Тесто прилипает к форме, скорлупки трескаются, получаются неровными. Банка сгущенки все же взорвалась, и теперь еще полдня отмывать кухню. Несешь в школу то, что удалось спасти. Пять жалких орешков. А у Кристинки идеальная шоколадная колбаса. Учительница восторгается. Твои орешки даже не пробует.
* * *
Еще я реагирую на графины, старые чемоданы, жестяные красные в горошек банки для специй, банки из-под лимонных долек – такие синенькие, с нарисованным на крышке толстым апельсином – и банки из-под черной икры, тоже синие, с рыбой на крышке. Бабушка трепетно их хранила и использовала в качестве шкатулок. Банки из-под чая – это целая история. В самой большой банке из-под краснодарского она хранила бумажные деньги. А в банке из-под индийского – мелочь. В банке с розами на крышке – незамысловатые украшения.
А еще чайники. Сгоревшие бабушка использовала в качестве держателя для книг на полке. Насыпала в них песок для веса и ставила, чтобы книги не упали. Сейчас бы это называли оригинальным дизайнерским решением, а тогда все думали, что бабушка совсем творческая личность, раз так сошла с ума.
Деревянные счеты, конечно же. Мое поколение, выросшее в деревнях и селах, училось складывать и отнимать на счетах, настоящих, бухгалтерских. С деревянными колечками. На них считали продавцы в сельпо, их же держали под рукой бухгалтеры. В первый класс в столице дети должны были принести на урок математики счетные палочки, а в селе – маленькие счеты. Они и сейчас продаются – красивые, с разноцветными колечками. Но как я ни пыталась научить сына, а позже дочь считать на счетах, они не увлеклись. Даже в столбик они считали не так, как мы, а по-другому, не ставя точки над цифрами, над которыми «занимали», не выписывая нули. Тоже интересно: мы в детстве говорили «нуль», а не «ноль».
– Почему ты ставишь запятую сверху вместо твердого знака? – как-то спросила дочь. Я и не замечала, что использую апостроф. Так научила меня первая учительница русского языка в осетинской школе, Лариса Ивановна. Жаль, что я тогда так мало прислушивалась к разговорам взрослых. Как Лариса Ивановна оказалась в селе? Почему жила без мужа и детей? Не знаю. Но точно помню, что она переходила на уроках на французский и ставила апострофы вместо твердого знака. Иногда она ставила и другие знаки над буквами, которые много позже сложились в моей голове в аксант-эгю, аксант-граф. Это как перевернутый вопросительный знак в конце предложения в испанском языке. Или как точки над буквами иврита. Ни с чем другим не спутаешь. Получается, что Лариса Ивановна знала французский не хуже русского? Кто знал ответ на этот вопрос, давно унес его в могилу.
* * *
У меня не осталось вещей, за которые память могла бы зацепиться. Мама об этом позаботилась сразу же, уничтожив все, что хоть как-то напоминало о жизни в селе. Ни одной фотографии не сохранилось, ни единой салфетки – ничегошеньки. Жестоко, да. Но каждый вечер перед сном, погружаясь в воспоминания, я проходила по деревенской дороге, заходила в сельпо, в привокзальный магазин, делала тысячу привычных дел, которые совершала в реальности. Чтобы помнить. Но воспоминания улетучивались, их заменяли новые события. Все реже перед сном мысли уносили меня в село, как я ни пыталась вспомнить, не забывать. А потом и вовсе ушли и никогда не возвращались. Это нормально – жизнь идет своим чередом…
После рождения детей все мысли – только о них. Каждую минуту, каждую секунду. Сначала – спит или опять не спит? Раскрылся? Не душно ли в комнате? Плохо поужинал. Значит, проснется ночью. Надо бы подготовить бутылочку с кашкой, чтобы не бегать в ночи. Потом – температура, которую не собьешь. Зубы, колики, опять вирус из сада принес. Вся семья вповалку. Даже бабушку заразили. Еле выжила после детского вируса непонятного происхождения. Внук давно скачет, а бабушка едва ползает. На тренировке на него наскочил мальчик. Тому – хоть бы хны, а мы – с переломом пальца. Да, опять «мы», как в младенчестве, хотя уже пора говорить «мой». Месяц в гипсе. На ровном месте. Только оправились – скатился с горки на детской площадке, врезался в другого ребенка. Тому ничего, у нас – вывих. А еще раньше сам упал с качелей. Головой приземлился. Хорошо хоть в землю. Был бы асфальт – считай, все. Столько анализов, столько обследований. И сотрясения вроде бы нет, а его все тошнит, голова кружится. Зубки молочные, прикусил нижнюю десну. Весь рот в крови. Смотреть страшно, сердце останавливается. Тетка какая-то советует пописать и мочу приложить к десне. Я слушаю, киваю. И абсолютно всерьез уточняю – чью мочу? Мою или ребенка? Или отцовскую? Все, сошла с ума окончательно… Опять сопли и кашель. Уже вторую неделю. Дохает, как говорили в моем детстве. Ношусь по рынку в поисках барсучьего жира. Тоже память прошлого. А еще медовая лепешка в качестве компресса на грудь. Если ребенок болеет, разум отказывает. Начинаешь верить в мочу, жир… Да во что угодно поверишь, лишь бы выздоровел.
Я прохожу диспансеризацию. Врач собирает семейный анамнез. А его нет. Заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркты, инсульты? Бабушка умерла от инфаркта вроде бы. Но мама убеждена, что нет. Она думает, что бабушка умерла от жизни, невыносимых тягот, бесконечных хлопот, работы, отнимавшей все силы, от ответственности, которую больше была не в силах нести. Раковые заболевания в семье? Маме поставили диагноз: рак шейки матки. Сделали операцию. Молодая женщина, которая больше не могла стать матерью. Трагедия? Только не для моей мамы. Она об этом вообще никогда не вспоминала. К врачам не ходила. Включила режим амнезии, как я всегда это называла. Мама умеет блестяще переключать тумблеры в голове – тут помню, тут не помню. Она умеет забывать подчистую или начисто – не знаю, как правильно. Стирает из памяти месяцы, годы, воспоминания, даже болезни. И, как ни удивительно, даже болезнь отступает, будто ее и не было. Она курила всю жизнь. Врачи обещали рак легких, гарантировали. В свои семьдесят два года мама оказалась в больнице. Легкие чистые. Не с ее слов, а согласно снимкам, которые я видела, и словам врача. Как такое может быть? Мамино поколение умело выпивать так, как нынешнему не снилось. Они пили и разбавленный спирт, и жуткие напитки, которые продавали как коньяк или ликер. Про поездки на юг и употребление вина из канистр, купленных на дороге, мама много рассказывала. И что? Идеальная печень.
– А я чем-то болела в детстве? – спросила я ее.
– Нет, конечно. Была абсолютно здоровым ребенком. – Мама даже возмутилась.
Это ее память, в которой я была абсолютно здоровым ребенком. А я помню, что болела всегда, с самого рождения, поскольку родилась восьмимесячной, с недоразвитыми легкими. Мама помнила, как мы ездили на море. Я помню, как проводила долгие месяцы в горных санаториях, куда отправляли детей с заболеваниями легких. Мы дышали в трубочки, пили кислородные коктейли, гуляли по тропинкам здоровья. Помню компрессы, в которых прошло мое детство, – то кашель, то воспаление среднего уха, то отит, то трахеит. Помню, как месяцами лежала в постели, а потом сдавала экзамены. Меня жалели учителя, ставили тройки, закрыв глаза. Запахи поликлиники, вкус того самого кислородного коктейля, трубочек, которые нужно было засунуть в рот или в нос и глубоко дышать. Долгие прогулки, где тоже требовалось дышать.
А еще помню свои истерики. У меня тонкие вены, и каждый забор крови превращался в испытание, муку, истерику. Даже опытные медсестры попадали в вену не с первого раза. Я ходила перемотанная бинтами от локтей до запястья. И пахла водкой из-за компрессов, которые мне накладывали на сгибы локтя и на кисти. Но чаще водку жалели, поэтому я ходила с примотанными к рукам капустными листьями. Толку от них было приблизительно как от водки, но все вокруг верили, что помогает. Забор крови из кисти – это не просто больно, а дико больно. Больнее только если вену проткнут насквозь. Но этого я, к счастью, не помню. Теряла сознание.
Недавно я сдавала кровь. Медсестра, пожилая, опытная, долго щупала, трогала вены. Выдала мне ватку с нашатырем. Уложила на кушетку. Не попала. И еще раз не попала. Позвала коллегу. Та тоже долго трогала, разглядывала, присматриваясь к вене на запястье. Я кричала, плакала. На мои крики сбежались. У меня случилась настоящая истерика, я вырывалась, обещала подписать любой отказ, только не надо… Я все это уже проходила много раз. Если взять кровь из вены на запястье, я не смогу работать, готовить. Если из вены ниже запястья – не смогу поднять руку. Это моя память. Мама же не понимала меня, не верила, что такое может быть. Считала, что я придуриваюсь, специально устраивая истерики. Привлекаю к себе внимание. Сама она была почетным донором, у нее даже значок сохранился. Сдавала кровь, чтобы получить отгул на работе или чтобы банально заработать. И она вспоминает это с радостью. Как донорам выдавался бесплатный обед, бокал кагора. Вот и разница в памяти.
* * *
Потом… Что потом? Столько всего было за эти годы. Каждое утро просыпаешься и думаешь – лишь бы спокойно прошел. Лишь бы ничего не случилось. Сын… Опять допоздна уроки. Ну или не уроки. Не знаю, в какой-то момент отпустила – пусть делает что хочет. Не младенец уже. Утром не добудишься. Знаю, что первые уроки все равно прогуляет.
Спустя несколько лет, пролетевших как один миг, снова не уснешь от мыслей – вернется сегодня домой или останется ночевать у друзей? И где его вообще носит? Сессия, экзамены. Лишь бы не завалил. Девушка новая появилась. Это хорошо. Начал регулярно бриться, следит за собой. Ходит нежный, ласковый, заботливый. Что ни попросишь по хозяйству – делает. Но как не в себе. Даже страшно становится от его покладистости. Посуду помыл. Не только за собой – это всегда делал, – а перемыл полную раковину. Я заметила, что есть посудомоечная машина, но сын просто улыбнулся, точно – влюбленный идиот. Дом для него – перевалочный пункт, совмещенный с банно-прачечным комбинатом и столовкой. Поесть, выгрузить грязное белье, получить новое, постиранное и поглаженное.
Подруга рассказывает про появившегося у дочери бойфренда: «Господи, ну как она могла влюбиться в такого? Наша-то – после спецшколы, кружков. Танцует, готовит, поет, на фортепиано играет. Умница и красавица. А он – нарцисс. Ни образования, ни работы нормальной. Только раздутое самомнение. Менеджер в магазине электроники. Специалист по бытовой технике. Где она только его встретила? В магазине? Не признается. Влюбилась, слышать ничего не желает. Поддалась его влиянию. Странные интересы появились – не ее, его. Хочет угодить, подстроиться, переломать себя под него. То кроссфит, то йога какая-то особенная. Перестала есть домашнюю еду, заказывает замороженную гадость, смузи на завтрак, обед и ужин. Но правильные. Он ей подсказал. Готовить не надо – только в микроволновку засунь, а потом в блендер – и сиди пей нечто зеленого цвета. Или цвета какашки. Ее не смущает. Вечером жует сушеные фрукты тайно от него. Он, оказывается, не приветствует. Спрашивала про его семью – молчит. Просила познакомить – отнекивается. Может, если накормить его котлетой да с пюре – так нормальным человеком бы стал. Сердце за дочь болит так, что ночью подскакиваю, форточку чуть ли не с петель срываю. Дышать тяжело. Яблоко ей принес. Она его положила на тарелку и дышать на него боится, не то что есть. А яблоко – сморщенное, явно в парке сорвал. Зачем тратиться на хорошее? Игрушку заводную преподнес – какую-то курицу. Она заводит и смотрит, как та скачет, пока не кончится завод. И так – часами. В глазах – пустота и оголтелое счастье, граничащее с сумасшествием. Мы, семья, для нее – пустота, раздражающие вибрации. Только эта курица имеет значение. Вот что делать? Знаю – выбросить яблоко, эту курицу, которая меня уже с ума сводит, и все пройдет. Запасы замороженные вычистить из холодильника. Но она не разрешает. Давится очередным смузи. Муж говорит: «Вспомни себя в ее годы». А что? Я помню! Такой точно не была! Всегда свое мнение имела. Да и не могла бы вот так, как она… себя растерять. Ну какое-то достоинство должно быть? Свои увлечения, интересы. Это сейчас феминизмом называется, а раньше не знали мы такого слова. Но у меня своя работа, подруги, коллеги, круг общения. У мужа – свои занятия. Да попробовал бы он мне указать, что есть, а что не есть! Скалкой бы один раз приложила – и все. «Неужели ты никогда не была влюблена?» – спросила дочь. Конечно была. Иначе зачем бы замуж вышла за ее отца? Но мы как-то вместе планы строили, о будущем думали, обязанности у нас были, а не только любовь и гори все синим пламенем. О родных тоже не забывали, считались с их мнением. Я до дрожи в коленках боялась с будущей свекровью знакомиться. Очень хотела ей понравиться, угодить. А как иначе? Вторая мать. Но я ее мамой никогда не называла, только по имени-отчеству. Она просила, обижалась даже. Но если я не могу, зачем через себя переступать? Муж тоже не настаивал. Сейчас смеется, говорит, это я с годами такая бойкая стала, а раньше всегда за ним следовала. Что он решал, то и делала. Да не было такого никогда! Муж вдруг вспомнил, как я ему еще до свадьбы вареники с вишней по выходным готовила. Мол, ради этих вареников он на мне и женился. Попросил сделать как-нибудь. Тут у меня сердце чуть не остановилось. Никогда я вареники не лепила. Не умею я с тестом, да и не люблю. Вот что делать? Спросить, кто его варениками кормил? Выходит, не только ко мне ходил, а еще к кому-то? Потом думаю: ну какая теперь разница, столько лет уже вместе. Но эти вареники запали мне в душу, и не вытравишь. Лежу и вспоминаю, чем его кормила, когда мы встречались. Мясо жарила, картошку с грибами он очень любил. С кем-то он меня точно перепутал. Или случайно проговорился? А если до сих пор те вареники вспоминает, значит, что-то серьезное у него было. Сцену ревности устроить? Смешно уже как-то. А потом думаю: может, у меня и не было любви, той самой, которая до сумасшествия, которую помнишь спустя десятилетия? Может, и не испытывала я такого? Тогда как могу судить дочь, если ей повезло больше, чем мне. Хоть раз такое испытать… Я радовалась, конечно, чувствовала себя счастливой, но чтобы сердце из груди выпрыгивало – нет, никогда. А вдруг мой муж всю жизнь любил ту, с варениками, а не меня? А вдруг до сих пор ее вспоминает?
* * *
Лучше всего я помню дом, в который мы с бабушкой переехали уже в конце ее жизни. Она тогда вышла замуж, что стало для мамы настоящим ударом. Бабушка позвонила и попросила приехать на свадьбу. Мама отказалась наотрез. Объявила, что и меня, бабушкину единственную внучку, больше к ней не отпустит. До сих пор не могу понять, что так маму испугало. Бабушка не была богатой вдовой, жила в казенной квартире, никаких накоплений не имела, так что корыстный мотив со стороны новоявленного супруга заподозрить было сложно.
– Зачем? – снова и снова кричала в трубку мама, пытаясь добиться аргументированного ответа в пользу неожиданного и весьма скоропалительного замужества. Она накручивала телефонный провод на руку так, что я не знала, как его потом размотать. Мама почти в узел его завязывала.
– Чтобы у Маши свой дом был, – твердила бабушка.
Думаю, именно это ею и двигало. Мы жили в крошечной квартирке двухэтажного дома, правда, в самом центре села. Но двор – общий, бетонированный. Бельевые веревки тоже общие, как и палисадник. А тут – свои веревки, свой палисадник и большой огород. Курятник, кошки, персиковое дерево и два вишневых. А еще черешневые – с белыми и красными плодами. В жару можно спать на улице под деревом, на общем дворе так спокойно не поспишь. Или в любой момент пойти на огород и сорвать луковый стебель. Макнуть в солонку и сжевать. Пойти в курятник и достать из-под курицы яйцо. Сделать яичницу или омлет или сковырнуть ногтем нежную скорлупу, сделать небольшую дырочку и выпить здесь же, в курятнике.
И совсем невиданная роскошь – две комнаты, разделенные всегда теплой стеной, потому что в доме печка. Большая, просто огромная. И кухня не одна, а две – летняя и зимняя отдельными домиками. Летняя большая, светлая, просторная. Там стоит большой стол. А зимняя – маленькая, уютная, тоже с печкой. В ней, именно в зимней, стоит утюг, на столе лежат одеяло и простыня. Снизу одеяло, сверху – простыня. Для глажки. В углу – здоровенный таз и ковш. Мылись тоже на зимней кухне, даже летом. От печки и воды становилось душно. Из-за пара ничего не видно. Но пар легкий, не удушающий. Не как в бане и не как в сауне. Когда я впервые оказалась в хамаме, вдруг замерла – такой же пар, как был на зимней кухне. Те же ощущения. Бабушка сильно трет мочалкой, чтобы докрасна и кожа горела. Поливает из ковша, велит стоять ровно, но вода все равно льется и в таз, и на пол. Капли падают на раскаленные конфорки печи. Шипят, испаряясь. Потом все нужно вытереть досуха. Кухня ведь на земле стоит, без фундамента. Вода закончилась. Пока новую натаскаешь да подогреешь…
– А как же ты? – спрашиваю я у бабушки.
– Так я в твоей помоюсь, – смеется она. – Это же самая ценная вода, которая от ребенка осталась. Самая чистая.
Я знаю, что это не так. Просто у нее нет сил опять идти на колонку и снова таскать воду. Та, что есть, – уже на утро. Умыться, приготовить чай.
Бабушка моет меня земляничным мылом. Хранит кусок, никому не разрешает его брать. Это – ребенкино. Как и полотенце, постельное белье, тарелки, чашки, столовые приборы. Не обычные, из местного сельпо, а из набора. Того, который только по большим праздникам достают из серванта. Соседки считают это странностью. Выделять отдельное ребенку? А потом что она попросит? Может, еще комнату отдельную? Бабушка смеется.
У меня своя комната, так решила бабушка. Мне это совсем не нравится. Я не могу привыкнуть, что бабушка спит за стеной. В старой квартире мы спали вместе. Две кровати стояли вдоль стен, друг против друга, а между ними, перед окном, – стол. Я открывала глаза и видела, как бабушка сидит за столом и пишет. Чайник кипел тут же, в углу, оборудованном под кухоньку, за занавеской. Плитка на одну конфорку. И умывальник там же.
Мылись в сараях. Они стояли во дворе, похожие на гаражи для машин. В этих сараях рыли погреба, хранили закрутки на зиму. Тазы, веники, раскладушки – тоже в сараях. Вечером доставали раскладушку и белье, ставили в квартире, утром убирали. Детские люльки, стулья, которые выносились, когда праздновали свадьбы или собирались на поминки. В каждом сарае стояли сундуки. Сарай был даже не складом, а настоящей пещерой с сокровищами. Во всяком случае, именно в виде сарая я представляла себе пещеру разбойников из сказки про Али-Бабу.
Кто-нибудь из соседок доставал люльку и передавал ее молодой матери. Там же, в сундуке, обнаруживались пеленки-распашонки. И все знали – в этой люльке лежал Тамик, а эти ползунки шили для Зариночки. Все соседи доставали из сараев детское приданое и передавали семьям, в которых случилось пополнение. Потом все стиралось, полоскалось в пяти водах, отутюживалось непременно дважды и с двух сторон и складывалось назад, в сундуки. До следующего младенца. И вновь доставалось, вновь перестирывалось в пяти водах и отутюживалось. Иногда пеленки и ползунки и пары дней в сундуках не успевали пролежать, а все равно – сакральный процесс подготовки к встрече малыша оставался неизменным. Вычистить, выдраить, перестирать, ошпарить крутым кипятком.
Вслед за этим выносили игрушки, лошадок, связанных крючком кукол. Нарядные платья, колготки, рейтузы, теплые кофты, рубашки и штаны, перешитые из взрослых костюмов. Еще спустя время из сараев доставали мячи, школьную форму, нарядные туфли, банты, портфели. Детей растили всем двором. Даже платье или костюм на последний звонок и выпускной можно было не покупать – у кого-нибудь из соседей обязательно найдется нужного размера. А если не найдется, перешьют. И будут плакать от счастья – «моя Ниночка в этом платье на выпускной ходила, а Алик в этом костюме такой красивый был, совсем взрослый». Так же было и на праздники – из подвалов доставали банки с огурцами, компоты, варенья-соленья. Выставляли на общий стол.
Бабушке отдельный сарай не полагался, поэтому мы пристраивались к соседям в помывочный день. А тут, в новом доме, – мойся, когда захочешь, просить никого не надо. И погреб свой имеется. Большой, вместительный – только успевай заставлять банками.
Моя кровать стоит у стенки, примыкающей к печке. Всегда теплая, даже жаркая. Прижаться к стене и тут же уснуть. А еще перины и подушки, настоящие. У нас с бабушкой в прошлой квартире стояли кровати на сетках, а сверху – матрасы. Бабушка называла их смешно – «матрацы». У бабушки вообще было много слов в лексиконе, казавшихся мне смешными. Если я теряла ручку или тетрадь в школе, учительница говорила, что я Маша-растеряша. То есть я была виновной в потери вещи. А бабушка называла вещь, которую не могла найти, «потеряхой». Вроде как вещь сама решила потеряться, а человек тут ни при чем. Маму же, свою дочь, бабушка ласково называла «поперёшная». Мол, все делает наперекор. Еще было слово «яниться» в значении «капризничать», и оно мне тоже очень нравилось. Самые интересные услышанные слова, выражения бабушка записывала в специальный блокнот, с которым никогда не расставалась. Некоторые, видимо, и использовала в речи.
Так вот матрасы были жесткие, будто на деревяшках спишь. И подушки такие же. Здесь же, на перинах, проваливаешься в облако, зарываешься и встать не можешь – перина не отпускает, держит. Голову от подушки отрываешь с трудом – она там, в сладких снах, в пустоте, отчего становится так спокойно, будто уже умер. Просыпаясь утром, я несколько минут гадала – умерла и попала в потусторонний мир или еще живу на земле?
Правда, бабушка тогда будто с ума сошла – требовала эти перины раз в неделю «протряхивать». Подушки взбивать. То еще мучение. Перина тяжелая, еле за концы держишь. Бабушка встряхивает. Надо тоже со своего конца встряхнуть, а сил не хватает. Перина падает на землю. С пододеяльниками та же история – после стирки обязательно встряхнуть, расправить. Бабушка встряхивает сильно, я не удерживаю. До слез – опять идти полоскать.
Перину после встряхивания нужно повесить на специальную веревку, которая толще других, как канат, и хорошенько охлопать выбивалкой для ковров, чтобы ни одной пылинки не осталось. Вот я стою и думаю, как эту перину закинуть на веревку. Забрасываю с одного края, а второй уже по земле волочится. Забрасываю со второго, первый падает. Хочется упасть под этой периной и не двигаться. Так же с подушками – протрясти, выбить, взбить и поставить на кровать, непременно чтобы верхний угол торчал в потолок. Но самый кошмар наступал, когда бабушка устраивала стирку подушек, одеял и перины. Мне доставались подушки. Сначала снять наволочку, потом распороть наперник и аккуратно достать все перья. Но аккуратно не получится – все равно будешь стоять вся в перьях, как курица. Перья забиваются в нос, и можно чихнуть раз двадцать, не меньше.
– Бабушка, зачем стирать пух? – стонала я.
– Чтобы клещи не завелись, – отвечала она. – В перьях особые клещи заводятся.
Оставалось лишь тяжело вздыхать – вши, клещи, блохи, клопы… мухи, комары, оводы… колорадские жуки… Деревенская жизнь предполагает бесконечное сражение. А бабушка после войны была одержима уничтожением паразитов всех видов. Если к вшам относилась более или менее спокойно, то клопов отслеживала каждый день, проверяя постельное белье, кровать, бельевые шкафы. Поэтому и коньяк никогда не пила, хотя ей лучший в редакцию привозили ящиками. Запах коньяка ей напоминал клоповый. И даже если гости уговаривали: «Коньяк шоколадом пахнет, мандаринами, бочкой дубовой, попробуй, чистый нектар», – бабушка отказывалась.
– Зато тараканов нет, как в Москве! – радовалась бабушка, не изменяя своему врожденному оптимизму и решительно распарывая наперник с одеяла.
Во дворе выставлялись все имеющиеся в доме тазы. Даже цинковая ванна шла в ход. Вода не должна быть горячей. Если есть что-то хуже стирки пуха, то это натирание хозяйственного мыла на мелкой терке. Впрочем, этот навык мне позже пригодился. Когда я родила сына, никаких специальных порошков для стирки детского белья в помине не было. Я брала детское мыло и натирала на терке. Потом растворяла стружку в воде и замачивала пеленки и распашонки.
То же самое нужно было проделать с пухом. Натереть хозяйственное мыло, растворить в воде, обязательно добавить нашатырный спирт для дезинфекции и замочить перья. Уйти со двора не получится. Перья требуется помешивать, чтобы они, не дай бог, не скатались в комки. Пух увеличивается в объеме раза в четыре. Кажется, что ты будешь погребен под этим пухом. После замачивания нужно взять самое большое сито или самый огромный дуршлаг и промыть перья чистой водой. На этом все? Как бы не так. Поменять воду, натереть мыло, растворить и снова замочить перья. И снова промыть. Потом аккуратно завернуть в ткань, непременно одним слоем, и вынести на самый солнцепек. Чтобы пух прожарился на солнце. И опять проходить с ковровой выбивалкой, не давая перьям шанса сбиться в комки. Зимой подушки не стирались, а просто выносились на мороз. Если бы у меня кто-нибудь спросил, какое из хозяйственных дел я ненавижу больше всего, я бы честно ответила – стирать пух из подушек и одеял.
Бабушка в новом доме стала маньяком чистоты. Застилала кровати без единой складочки на покрывале, ставила подушки уголком. Сверху обязательно укладывалась кружевная салфетка. Я бабушку просто не узнавала – в старом доме можно было закинуть кое-как покрывало и бежать играть во двор. Я думала, что это такая расплата за собственную комнату и зимнюю кухню, где не нужно мыться на глазах у всех соседей. Поэтому выравнивала покрывало и ставила подушку, как требовала бабушка.
А еще счастье – за окном, маленьким, всегда открытым, с кружевными занавесками, – свой палисадничек. Что хочешь, то и сажай. Хоть розы, хоть петушиные гребешки – правильно они называются целозия, – которые так любила бабушка, хоть алоэ. И запахи, особенно ранним утром. Такие, что уже проснулся, а лежишь и встать не можешь. Дрема не отступает.
Без куста сирени никак. Ни один приличный палисадник не имеет права считаться таковым, если в нем не растет сирень. У бабушки сирень не отличалась достоинствами, не могла похвастаться цветками-пятилистниками, на которых загадывалось сокровенное желание. Зато алоэ раскинуло свои листья щедро и широко. Петушки колосились.
Бабушка подарила мне настоящий дом. Тот, который должен быть в детстве у каждого ребенка. С колышущимися от легкого утреннего ветра кружевными занавесками, невероятными запахами, печкой. Завтраком, накрытым на большом столе под белой жестко накрахмаленной салфеткой, предназначенной лишь для этого – накрывать завтрак. Курами бестолковыми. Злым петухом, норовившим догнать и клюнуть. Фруктами и ягодами – только протяни руку и сорви. Кошками и котятами, которые ложились на раскладушку, стоявшую под черешней, и их не сгонишь – ложишься рядом, а они еще двигаться не хотят. Потом на шее пристраиваются, мурчат. Брехливым, но очень добрым псом Мухтаром. Вообще-то соседским. Но он вдруг сам решил охранять еще и наш дом. Так и бегал с дозором – от своего к нашему. Его даже куры не боялись. Мухтар за службу, включавшую ночные пробежки с лаем, укладывался на спину и подставлял пузо – чеши. Или подходил и клал голову на колени – чеши за ушами. Большей благодарности не требовал.
– Мухтар, умоляю, давай ты ночью будешь спать? – просила его бабушка, выдавая псу миску с едой. Но тот сидел и ждал ласки. Бабушка трепала его по голове.
– Мухтар, я тебя отдам соседям. Пусть они так страдают, как я. Когда ты дашь мне выспаться? – причитала настоящая хозяйка Мухтара, соседка тетя Роза, выдавая псу миску с едой. Мухтар ложился на спину.
– Я тебя почешу, если пообещаешь не брехать по ночам! – строго объявляла тетя Роза. – Прямо сейчас мне поклянись, что я буду спать по ночам!
Мухтар что-то побрехивал, но каждую ночь опять выходил с дозором.
Не знаю, почему он решил взять шефство еще и над нашим домом. Бабушка сторожевую собаку так и не завела, объясняя это тем, что пес будет жить в доме и спать в ее кровати, а ей придется переселиться в будку. Еще она утверждала, что не любит домашних животных. Правда, животные в это не верили. Кошка Ночка прибегала к бабушке и будила ее истошными воплями, сообщая, что собирается рожать. Всю ночь бабушка принимала роды, уложив Ночку на одеяло, поближе к печке, на собственную чистую, проглаженную с двух сторон ночнушку. Каждый раз бабушка просила маму привезти ей из Москвы новую ночнушку.
– У тебя уже должен быть целый склад! – удивлялась мама.
Бабушка не могла признаться, что Ночка мало того что оказалась многодетной кошкой, так еще и рожать предпочитает на чистых новых ночнушках. А на старых простынях категорически отказывается. Мечется, истошно кричит, смотрит так, что сердце разрывается. И успокаивается лишь тогда, когда бабушка кладет перед печкой еще ни разу не надетую сорочку. Самых слабых котят Ночка в зубах дотаскивала до кровати и подкладывала бабушке под бок. Бабушка все время спала в котятах. Так и говорила – не «с котятами», а «в котятах». Подросшие котята не собирались уходить из теплой постели, как ни сгоняй. Новорожденных же бабушка упорно пыталась подложить под материнский бок, но Ночка после кормления вновь переносила их под бабушкин. Потом кошке, как каждой матери, надоедало бегать туда-сюда, и она переносила всех котят в кровать, укладывалась рядом, и они наконец спокойно засыпали. То есть Ночка с котятами сладко сопели, а бабушка лежала без сна, боясь пошевелиться, чтобы ненароком не раздавить котенка.
Когда много позже в роддомах молодым матерям предлагали уникальную возможность, стоившую, кстати, отдельных денег, – находиться с ребенком в палате круглосуточно, а не отдавать медсестре после кормления, я всегда вспоминала Ночку. Пожилые медсестры уговаривали мамочек отдать младенца в детскую, мол, докормим ночью, а вам надо выспаться, набраться сил, успеете еще набегаться по ночам. Но те, кто выбирал оставаться с ребенком в палате, считались прогрессивными. А те, кто отдавал, – вроде как недомамашами.
Я рожала обоих детей по старинке. Сама, без эпидуральной анестезии. И благодарила нянечек и медсестер за то, что они докормят ребенка ночью, ранним утром. Знала, что за три дня в роддоме мне нужно набраться сил, восстановиться. На меня смотрели с укоризной. Мне так хотелось рассказать про Ночку. Бабушка по ночам вставала, кормила слабых котят из детской бутылочки с соской, разводя сухое молоко. Утром позволяла Ночке поваляться подольше в кровати, кормя заодно и остальных котят. Кошка была благодарна своей хозяйке. Она подходила, когда бабушка писала, сидя за секретером, и подолгу вылизывала ее руки, будто целовала. Потом ложилась рядом, на стол, на бумаги, и мурчала. Бабушка говорила, что под мурчание ей особенно легко писалось. Когда котята немного подрастали и не требовали ночных выкармливаний, Ночка перетаскивала всех в курятник, в ящик, где куры несли яйца. Один из них, самый дальний, кошка давно себе облюбовала. Куры смирились и не спорили.
В мои обязанности входило кормить кошек и Мухтара. Ели они вместе. В миски выливались остатки супа или каши, сверху щедро крошился хлеб. Ночка ни разу не стащила со стола даже крохотного кусочка мяса. Пес никогда не клянчил еду.
Однажды Мухтар притащил бабушке полумертвого щенка.
– Нет, неси его в свой дом, – ахнула бабушка, – мне котят хватает! – Но Мухтар лег и заплакал. Собаки умеют плакать настоящими слезами.
Бабушка тяжело вздохнула и принялась выхаживать щенка. Она назвала его Маресьев – у него были перебиты задние лапки. Видимо, попал под машину.
Кутенок скулил по ночам. Бабушкино сердце не выдержало, и она забрала его в кровать, где Ночка выдала ему сосок. Маресьев считал себя котенком, научился быстро передвигаться, используя только передние лапы. Он играл с котятами, пытался не гавкать, а мяукать, и ему это почти удавалось. Когда Маресьев немного подрос, Мухтар начал выводить его на дежурства. Щенок радостно мяукал, труся за Мухтаром. На ночь они возвращались в бабушкин дом. Ночка шипела на Мухтара, видимо, интересуясь, куда тот опять погнал ребенка. Он что-то жалостливо брехал в ответ. Маресьев ластился к кошке, а та его вылизывала и приводила к бабушке – на поздний ужин. Бабушка закатывала глаза и хохотала. Нормальная семья.
* * *
В прошлой квартире нужно было обязательно мыть подъезд, все этажи, лестничные пролеты. Но не каждый день. Мыли по очереди все жильцы дома, точнее, младшие девочки или девушки из каждой семьи. Повинность, ставшая традицией. Обувь, выставленную за порог квартиры, не только своей, но и чужой, тоже требовалось тщательно помыть. Иногда набиралось пар десять, не меньше. И каждую – отскобли от налипшей и застывшей глины, отмой в грязном тазу, потом промой в тазу с чистой водой. Каждый день. К бабушке часто приходили люди, и их обувь я тоже должна была отмыть. Если кто-то из нас, девочек, пропускал уроки в музыкальной школе, опаздывал на репетицию в ансамбле народного танца, нужно было сказать: «Мыла обувь». Это считалось уважительной причиной для прогула или опоздания.
Что меня поражало по возвращении в Москву? Здесь девочки не мыли ни свою, ни уж тем более чужую обувь. В этом не было необходимости. Туфли оставались чистыми. Я смотрела на свои сандалии и удивлялась – проходила целый день, а на них нет налипшей грязи. И никому в голову не приходило отругать меня за плохо вымытую обувь.
Как-то уже в московской школе я опоздала на урок. И когда учительница потребовала объяснений, я ответила, как было принято в деревне: «Мыла обувь». Учительница не знала, как реагировать. Мои одноклассники хохотали и потом долго дразнили, предлагая помыть им обувь. Я плакала и не понимала, что сказала не так.
В Москве никто не оставлял обувь за порогом, в коридоре. Только дядя Коля – сосед, живший двумя этажами ниже. Он выставлял ботинки рядом с дверью, выходил в коридор и с помощью каких-то красок из многочисленных банок натирал до блеска ботинки. Занимался этим часами, явно с удовольствием. Я могла поклясться, что увижу собственное отражение в его ботинке. Когда после жизни в селе я впервые увидела, как дядя Коля сам чистит обувь, чуть в обморок от ужаса не упала. Решила, что ему грозит несмываемый позор, и предложила свою помощь. Он удивился не меньше меня. Я думала, что у соседа нет жены или дочери, которые могут взять на себя эту повинность, и жалела его всем сердцем. Но оказалось, у соседа имелись и супруга, и даже две дочери. Дядя Коля был военным, привык чистить обувь, да и сам процесс ему нравился. Как он говорил: «Приводил мысли в порядок». В тот момент я этого не поняла, а сейчас – очень даже. Если нужно переключиться, займи руки. Неважно, что делать: вязать, шить, красить, готовить.
Но тогда получилось совсем смешно. Я из лучших побуждений, чтобы о дяди-Колином позоре не узнали соседи, выхватила у него щетку и ботинок. Принялась чистить. Дядя Коля же решил, что мне нужны деньги и я таким образом пытаюсь заработать. Он ушел в квартиру и вернулся с мелочью. Пытался мне ее дать. Я категорически отказывалась. Ситуация разрешилась, когда дядя Коля пришел к моей маме. Он привык сам чистить свои ботинки, но вдруг оказался лишен радости и отдушины – пока чистит, не слышит упреков жены и вечных претензий дочерей. Они знают, что это время – святое, и не беспокоят его. А тут он выходит, и опять все ботинки идеально сверкают. Может, Маше найти другую подработку? Он оставлял деньги, но она так и не берет. Однажды целый рубль положил, решив, что обижает меня низкой оплатой. Но и рубль остался лежать в ботинке. Мама рассказала про традиции. А мне строго-настрого запретила чистить обувь дяди Коли. Но тот, кажется, про традиции не поверил, а я просто спускалась на этаж – вдруг понадоблюсь. От дяди Коли я узнала про гуталин, воск и прочие премудрости для чистки. Часто он использовал крем для рук или лица, который тайно забирал из шкафчика в ванной. Жена и дочери удивлялись, куда делся крем, но на дядю Колю никто и подумать не мог. Так я узнала, что крем для лица идеально подходит для ботинок, если только они сделаны из натуральной кожи, а не из кожзама. Сосед рассказывал про разные способы вернуть цвет обуви. Ему бы реставратором работать. Он, кстати, об этом мечтал: сидеть в какой-нибудь маленькой мастерской и возвращать жизнь старым туфлям или ботинкам. Дядя Коля подарил мне баночку гуталина, маленькую обувную щетку, воск, вазелин.
Этот урок мне тоже пригодился. Я вернулась к бабушке в село и однажды так начистила обувь, что обо мне пошли слухи. Все ахнули. Бабушка тогда кричала, что ее внучка не будет чистить обувь, даже не приходите и не просите. Ни за какие деньги. Нашли мальчика, тьфу, девочку-чистильщицу.
Еще одно потрясение я пережила, увидев, как папа моей одноклассницы, к которой я зашла в гости, моет посуду. Причем облаченный в женский фартук. В селе я не видела ни одного мужчины, который, радостно насвистывая, мыл бы посуду. Про женский фартук я вообще старалась не думать. Это же… ну, как если бы мужчина вместо кепки надел женскую шляпу или повязал бы на голову платок. Такого не может быть никогда. Но к тому времени я уже привыкла держать рот на замке и не стала уточнять, как после такого позора он сможет выйти во двор. На всякий случай пообещала однокласснице, что ничего не скажу.
– Про что? – не поняла она.
– Про посуду и фартук, – прошептала я.
Одноклассница решила, что я странная, и больше со мной не дружила.
* * *
Лифт меня завораживал. Я могла кататься в нем до тех пор, пока соседи не начинали ругаться. Еще мне нравилось вывалиться до пояса из окна и часами смотреть вниз. В селе выше двухэтажных домов сооружений не строили. Мама, боявшаяся высоты, подойти к окну не решалась. Мы жили на восьмом – других вариантов не было, – и она даже в форточку старалась не выглядывать. Я же наслаждалась. Мама узнала о моем увлечении от соседки, которая решила, что я собираюсь покончить жизнь самоубийством: «Вот вчера уже почти упала». Мама меня отчитала и запретила вообще приближаться к окну. Так я поняла, что это самое безопасное место в квартире – мама просто застывала на пороге. Она не могла меня заставить вернуться в свою комнату, не могла ударить полотенцем. Даже кричать была не способна – от страха. Так что я часто пользовалась ее боязнью высоты – чуть что, вываливалась из окна по пояс или вставала на подоконник.
В селе были одни запреты и правила, в Москве – другие и не очень мне понятные. Гулять с мальчиками после школы можно, а заходить просто так к соседям нельзя. В селе было с точностью до наоборот. Ходить в брюках или штанах можно, а не платить за хлеб или конфеты в магазине нельзя. В селе всегда можно было взять хлеб в долг, но штаны – позор. Носить короткие юбки можно, а выходить на улицу с едой – хлебом, посыпанным сахаром, нельзя. В селе – опять наоборот. Мне нужны были объяснения, но мама лишь отмахивалась.
Она, возвращая меня в Москву из села, тоже страдала. Я забывала закрыть дверь, уходя в магазин, – в селе двери не закрывали. Назначение дверной цепочки для меня вообще долго оставалось загадкой. Что такое щеколда, было понятно, а вот цепочка – нет. Как можно открыть дверь на расстояние щели? Это же невежливо. Что люди подумают? Наличие в двери двух замков, а не одного, тоже было откровением. Мама хваталась за голову, когда я, не отрываясь, жала на дверной звонок. Наш пел мелодичной трелью. Мне нравилось. Потом я обходила соседские квартиры и нажимала на их звонки. Все были разными. Мама меня ругала, а я не понимала за что. В селе звонков не было. Объявляя о приглашении на торжество, стучали в ворота палками. Если требовался хозяин дома, выкрикивали его имя. Отчего-то я боялась спросить у мамы про звонки, цепочку, замки. Даже не знаю почему. Став старше, научилась быстро мимикрировать.
* * *
Когда бабушка переехала в частный дом, я очень радовалась. Наконец мы жили как все. Точнее, как все девочки из моего класса, из музыкалки и танцевального кружка. Две кухни – летняя и зимняя, огромный огород, курятник, палисадник, сарай и аж два туалета, один ближе к дому, второй на огороде. Я была счастлива, что здесь не придется отмывать лестницу и чужую обувь. Что не нужно ждать очереди в уличный туалет, рассчитанный на всех жильцов дома. Что можно мыться на зимней кухне, а не в соседском сарае.
Но, как оказалось, двор требовалось подметать каждый день. Иногда и дважды. Еще и за воротами не забыть. Забудешь подмести за воротами – позору не оберешься. Да и пол в доме требовалось вымыть так, чтобы между деревянных половиц не осталось грязи. А как без грязи, когда дом на земле стоит? В квартире достаточно было пройтись мокрой тряпкой. А здесь – часами сидишь на коленках и вымываешь между половицами. До сих пор помню, как сижу, плачу и тру тряпкой. Понимаю, что толку не будет и завтра снова придется выскребать землю. И послезавтра тоже. А еще – наносить воды из уличной колонки, четыре ведра как минимум. Развесить белье, снять высохшее, отнести на зимнюю кухню, погладить. Перемыть всю обувь, пусть не десять пар, а всего три, но лучше бы десять перемыла. В центре села лежал асфальт, а здесь, на окраине, дороги в лучшем случае посыпали щебенкой, так что отмыть здесь одну пару – это как там, в центре, все десять. Те же усилия. После – выставить, чтобы просохла. На огород каждый день, без разговоров. Грядки прополоть. Собрать колорадских жуков с картошки, полить, еще раз полить, сорняки, грядки – и так каждый божий день… Полить цветы в палисаднике. Там тоже вырвать сорняки. Дать курам корм, собрать яйца, положить сено в ящики для несушек. Накопать картошку, собрать урожай – два черешневых дерева, одно вишневое. Вырвать крапиву, разросшуюся вдоль сетки. Совсем рядом, за сеткой – железная дорога. Там же – кусты кизила. Набрать ягоды. Кизиловые кусты с шипами, крапива больно жжется. А если молодая, то надо каждый день рвать – на суп, на лечебные настойки и притирки. Потом каждый лист очистить от грязи. К обеду уже падаешь без сил. Счастье, когда надо бежать в школу, потом в музыкалку, потом в ансамбль. Вечером снова отмыть обувь – к утру уже грязь не отдерешь, – помыть ноги и рухнуть в кровать. Про «помыть ноги» помнит каждый ребенок, выросший в селе. Помыться – это ритуал, целый день. Вечером помой ноги под уличным умывальником с пимпочкой. По утрам женщины протирались над тазом мокрой тряпкой. Проходились под мышками, под грудью, приседали, подмываясь. Про чистку зубов вообще никто не спрашивал.
Быт убивает, это я точно знаю. Когда мы жили с бабушкой в квартире, я по вечерам писала стихи, сказки, пыталась вести девичий дневник. Здесь же оставалось одно желание – доползти до кровати и уснуть. Бабушка тоже мало писала, увлекшись домашними делами, хозяйством частного дома. В этом она призналась только Варжетхан:
– Не могу писать совсем. Так устаю за день. Но ведь сама хотела, сама выбрала. Не успеваю ничего. Если день отработаю по дому, на огороде, вечером ни строчки не напишу. Думать не могу. Маша тоже страдает. Я думала, ей будет лучше. А она устает. Тоже без ног падает. Стихи начала писать – бросила.
– Ну а разве для тебя это новость? Быт убивает. А почему наши женщины в тридцать лет выглядят такими уставшими, будто они уже целую жизнь прожили? Потому что так и есть. У них каждый день одно и то же – дворы, уборка, стирка, готовка. Дело не в физических затратах, а в том, что все повторяется каждый божий день. Это и убивает, – ответила Варжетхан.
– И что мне делать? – спросила бабушка.
– Если хочешь писать, перестань строить из себя великую хозяйку. Живи как раньше. Пусть ребята тебе воды натаскают, дрова нарубят. Я попрошу Земфиру – будет к тебе приходить помогать по хозяйству. Ты ей только в знак благодарности масло, муку давай. Там семья большая… им всегда нужны продукты.
– Ты предлагаешь мне нанять домработницу? – ахнула бабушка.
– Нет, я предлагаю тебе выход из положения. Ты снова начнешь писать, Маша перестанет убиваться на огороде – посмотри на нее: глаза пустые, потухшие. Только грядки и видит. А Земфире в радость – она любит по дому возиться. Деньги не давай, продуктами плати. Всем будет хорошо.
Так и случилось. Земфира приходила каждый день и возилась по хозяйству. Бабушка снова начала писать и пропадать в редакции. Я вернулась к девичьему дневнику.
Деда, бабушкиного мужа, я почти не помню. Тихий старичок. Шаркал по ночам, когда выходил в коридор помочиться в ведро. Мочился долго, видимо, страдал простатитом. Это я сейчас понимаю. А тогда лежала и слушала, как моча бьет о стенки цинкового ведра. То сильно, то замолкает. Раньше я таких звуков не слышала. Несколько раз описалась, боясь встать и увидеть, как в ведро писает дед. Не решалась признаться бабушке, сама перестирывала белье. Кажется, я с дедом ни разу не разговаривала. Не помню такого. Даже как его звали, не помню, честно. Не обращалась к нему, он ко мне тоже. Дед умел вязать веники – в рабочем сарае целый цех был оборудован. Он вязал на продажу – на длинной ручке, чтобы сметать паутину с потолков. Большие, разлапистые – для двора, сметать листья. Жесткие, с короткой щетиной – для грязи. Обычные, традиционные – подметать в доме. Веников было видов двадцать, не меньше. Он не учил меня их плести, скорее, не выгонял из сарая. Разрешал брать инструменты. Но ничего не объяснял. Я иногда приходила и плела веники. Дед всегда срывал оставшиеся зерна с прутьев, а мне, наоборот, хотелось, чтобы веник был с зернами. Мне нравилось прошивать – шилом, черной липкой нитью. У деда была специальная мерка для веников. Я же делала так, как хотелось. Под свою руку. И не понимала, почему в этих мерках нет детского размера. Ведь дворы подметали в основном девочки моего возраста – вчерашние дети. Почему нельзя было сделать ручку покороче? А сам веник для двора – чуть поменьше? И, главный вопрос, почему не рассказала об этом бабушке? Ведь сама была обречена на то, чтобы управляться со здоровенной метлой, пока однажды не связала для себя веник – пусть корявый, плохо и слабо прошитый, но удобный. Мой веник просили напрокат подружки. И даже после этого – почему дед не взял на вооружение новый вид, почему бабушка не убедила его в этом и почему не похвалила меня? Сейчас понимаю. Все считали, что я так развлекаюсь – рано или поздно все равно покину деревню, так что размер веников останется в моей памяти слабым воспоминанием, если вообще останется.
Но нет. Именно размер веников в памяти остался очень четко. Как-то я отправилась в отпуск с приятельницей – мы приехали в гости к нашей общей подруге, живущей в одном из южных городков. И там, на улице, я купила для дочки крошечный веничек. Знала, что она будет в восторге. Дочь засыпала с маленькой щеткой и совочком, любила возиться на кукольной кухне, устраивать куклам чаепития – кукольный набор был сделан из настоящего фарфора. Я показала веничек приятельнице, на что она недоуменно спросила: «Ты что, для кладбища его купила?» Тогда я даже не поняла, почему она связала этот веник с кладбищем. В нашем селе на кладбище никто не ходил с вениками. Скорее, с цветочной рассадой – посадить цветы. На могилах не было искусственных цветов или срезанных. Только живые. Как в палисаднике. Сажали и на «своей» могиле, и на чужих, которые по соседству. Убирали так же – не только свой участок, но и те, что рядом. Общую тропинку обязательно. Так было принято и в частных домах: убираешь двор – убери свой кусок улицы. Если видишь грязь по соседству, то и там нужно убрать. А как иначе? Улица-то одна.
Дочь была счастлива, когда я выдала ей маленький, совсем крошечный веничек. Она подметала свою комнату. Ее совершенно не завораживал пылесос, а веник произвел впечатление. Я же все еще не могла отделаться от мысли – почему приятельница решила, что тот веник предназначен для уборки на кладбище? Глупость, конечно же, но у меня остался осадок.
Не помню, чтобы дед когда-нибудь разговаривал с моей мамой. Она приезжала и вела себя так, будто хозяйкой в доме была бабушка, общалась только с ней. Да и остальные жители села – соседи, гости – стучались в ворота и кричали: «Мария!» Хотя положено было звать хозяина дома, а тот уже отправлял кого-нибудь из сыновей узнать, что нужно, кто пришел. Женщины к воротам на зов не выходили. Никогда и никто. Кроме моей бабушки, естественно.
Мне бы очень хотелось узнать, почему она вышла замуж. Почему ее избранник на ней женился? Что их вообще связывало? Бабушка умерла до того, как я повзрослела и смогла бы задать эти вопросы. Мама же до сих пор молчит. Сколько я ни спрашивала, не отвечает.
– Почему ты мне ничего не рассказываешь? – как-то возмутилась я.
– Потому что ты заставляешь меня вспоминать. А я этого не хочу, – ответила она.
– Опиши, что помнишь ты. Я же не прошу рассказывать сказку, – много раз просила я.
– Я рада, что бабушка подарила тебе другие воспоминания. Пусть они и останутся. Я помню совсем другое.
Да, мама это твердила мне с самого детства. Я, возвращаясь от бабушки в Москву, с восторгом рассказывала про черешню, тутовник, соседей, пироги, игры. Все, что было связано с селом, вызывало у меня восторг. Наверное, я приукрашивала действительность. Но в моих воспоминаниях помидоры с солью действительно были невероятно вкусными, пироги на столе стояли каждый день, соседи меня любили как родную дочь. Мои подружки были красивыми, добрыми и нежными. А в деревне, если меня послушать, что ни день, случался праздник, на котором детей закармливали конфетами и сладостями. Давали деньги на кино и мороженое и разрешали прогуливать школу.
Да, на праздниках действительно детям бросали деньги, которых хватало на кино и на мороженое, только праздники случались далеко не каждый день. Школу прогуливать разрешали, но под уважительным предлогом: сидела с младшими сестрами и братьями, собирала черешню, а потом стояла на базаре – продавала урожай. Или ходила собирать травы – ромашку, чабрец. И, конечно, мыла обувь.
Мое первое воспоминание – халва. Сладкая и липкая. Серого цвета, с ядреным вкусом семечек. А еще сами семечки в скрученном из газеты кульке. Все пакеты в селе назывались кульками. В Москве продукты заворачивались в бумагу, которая складывалась в форме кирпича. А в селе – в конусообразный кулек. Конфеты, семечки, печенье… Продавщицы за секунду умели скрутить из бумаги конус нужного размера и ссыпать все, что нужно. Снизу подкрутить, сверху загнуть края. Я тоже быстро научилась крутить кульки. Та халва была самой вкусной, самой сладкой из того, что я пробовала. Мое детство – вкус халвы и липкие пальцы.
– Хорошо, что ты помнишь? – спросила я маму.
– Кукурузу. Везде росла только кукуруза. Все поля были ею засажены. Ничего, кроме кукурузы. Початки, не собранные вовремя или не вызревшие из-за непогоды, подгнивали. Нас выгоняли на поле – собирать урожай. Вместо школы, других занятий. За работу нам выдавали кукурузную муку. Я ее видеть не могла. Обычная, пшеничная, тоже была, но из нее готовили по важным поводам. А на каждый день эта. Варили каши, соусы, лепили лепешки. Не было никаких деревьев. Только эта проклятая кукуруза. Маленькие девочки из нее кукол делали, отгибая листья. Мы ее ели с голодухи, поджаривая на костре. Поперек горла стояла.
– Но это же так вкусно! Кукурузные лепешки, шир, дзыкка! – чуть ли не кричала я.
Шир – это сладкая кукурузная каша, которую готовили для детей. А дзыкка – лакомство, кулинарный шедевр. В этом случае в кашу, больше похожую на соус, добавляли осетинский сыр. Вкус – умереть не встать. Лепешки – вариант грузинского мчади. Если сварить фасоль, то лучше, чем мчади, к ней ничего придумать невозможно.
Я сейчас пеку мчади, когда приходят гости, делаю лобио. Детей я все детство кормила именно кукурузной сладкой кашей. Когда мы с мамой ездили на юг, на море, я всегда просила купить мне вареную кукурузу, которую разносили по пляжу. Сверху посыпанную крупной серой солью. Кажется, я могла съесть сразу три как минимум. Мама покупала и отходила в сторону – покурить. Только недавно она призналась, что не выносит даже запаха вареной кукурузы. Смотреть на нее не может. В ее памяти кукуруза ассоциировалась лишь с голодом и тяжелым трудом. А в моей – початок, мука, из которой были приготовлены блюда, остались чуть ли не самым вкусным, что я ела в своей жизни.
– А тутовник? Поля орешника? Заросли гороха? – вспоминала я. – Черешневые и вишневые деревья в каждом огороде? Старая липа на улице? Соседская яблоня? Персиковое дерево! Неужели ты не помнишь?
– Нет, ничего этого не было, – твердила, как заевшая пластинка, мама.
Я же помнила, как собирала цветки липы, которые потом превращались в отвар или добавлялись в чай. Персиковое дерево, росшее так, что часть веток оказывалась на нашем огороде, а часть – на соседском. Но даже плоды располагались настолько равномерно, что хватало всем. Да и в голову никому не приходило делить дерево или считать персики. Сколько досталось нам, а сколько соседям. Наоборот, соседи утверждали, что на нашей стороне персики вызревают сочнее и вкуснее. Бабушка хохотала, приговаривая: «У соседа всегда трава зеленее, а каша вкуснее», и приносила наши персики соседям, а те выдавали свои. Вкус был одинаковый. Но этот ритуал повторялся из года в год. И соседи настаивали – на нашей стороне вкуснее. Дети съедали персики, не разбираясь, с чьей ветки они были сорваны.
В ореховой роще можно было наесться молодыми грецкими орехами, пока тошнить не начнет. Тутовник с хлебом – идеальные завтрак, обед и ужин. Сырое яйцо, еще теплое, только из-под курицы. В каждом дворе любому ребенку чуть ли не насильно выдавали кусок пирога, конфеты, варенье, домашнее печенье, сладкий лаваш. Не могли выпустить из дома, не накормив перед этим на убой. Нет, я в селе никогда не голодала. Наоборот – превращалась в милую круглолицую девчушку с очаровательными ямочками на пухлых щеках. В Москве же снова становилась ходячим скелетом с высокими скулами и впалыми щеками. Есть хотелось все время, нестерпимо. Но… мне было невкусно. Нет, я не капризничала, ела, что было, что давали. Но все казалось картонным, ненастоящим. Курица не пахла курицей, а колбасу я вообще не понимала – в селе колбасы не было, никакой. Мама отправляла бабушке в посылках «палки», как их тогда называли, салями. Но бабушка использовала их для подарков. Сама никогда не ела. Когда мама с бабушкой ругались по поводу взяток – мама не скрывала, что использует связи и взятки, чтобы достать билет на самолет или поезд, дефицитную еду или одежду, – бабушка кричала, что так делать нельзя. И называла маму взяточницей.
– А колбаса, которую я тебе отправляю? Банки икры, паштетов, конфеты, которые ты не ешь, а раздаешь? Разве это не взяточничество? – возмущалась в ответ мама.
– Это другое! – отмахивалась бабушка. – Я не для себя взятки даю, для других!
Мама отправляла меня в булочную за хлебом, я возвращалась с пустыми руками. Хлеб был холодный, не горячий, даже не теплый. Значит, уже несвежий. Мама доставала для меня конфеты, финские, с яркими фантиками. Я аккуратно разворачивала их и конфеты оставляла на тарелке. Меня интересовали лишь фантики. Они были настоящей ценностью, которую можно было обменять на что угодно. Конфеты я не ела. Сладкий лаваш из абрикосов и сливы мне казался в сто раз вкуснее. Мама злилась, звонила бабушке и кричала, что больше не отправит меня к ней. Она всеми силами пыталась вывезти меня из деревни, но потерпела полное фиаско. Деревня до сих пор остается во мне.
– Ты себе это придумала, – говорит сейчас мама. – Ты была маленькой и многого не замечала. Бабушка точно так же доставала сливочное масло, я отправляла ей огромные посылки, в которых были и мука, и шоколад, и банальная гречка. Ты не представляешь, как я пыталась приучить тебя к нормальной еде! А для тебя главное лакомство – кусок хлеба, намазанный маслом и посыпанный сверху сахаром. Я чай достану, заварю, а ты пьешь кипяток.
До сих пор, кстати, я пью пустой кипяток. Мне вкусно. Без лимона, сахара и меда. Почему? В нашем селе не было пасечников, и мед в детстве я не ела, а лимоны не росли, хотя вполне могли прижиться.
Незабываемый, неповторимый вкус? Кипяток с мушмулой. Бабушке привозили ее в ноябре из Адыгеи, где у нее были друзья, которым она однажды помогла. С тех пор каждый год она получала посылку. Бабушка называла мушмулу «вареньем на палочке». Съесть мушмулу и запить кипятком – это то самое счастье, мало с чем сравнимое. То, которое остается на вкусовых рецепторах на всю жизнь. Сладость мушмулы и горячая вода – сразу становится тепло и хорошо. Никакая конфета не сравнится с этим вкусом. Я так и осталась равнодушна к сладостям во всех видах. На всю жизнь. Конфет или тортов со вкусом мушмулы я не встречала.
Прекрасно помню Военно-Грузинскую дорогу. В этом воспоминании мы с мамой совпали впервые. И в ее, и в моей жизни, то есть в нескольких поколениях, эта дорога занимала значимое место. Там устраивались встречи важных делегаций. Детей в национальных костюмах привозили для торжественного приема – мы или танцевали, или пели. Гостей встречали или ансамбль национального танца, или местный хор, исполнявший песни на осетинском языке. Многие девочки, как и я, состояли сразу в двух коллективах, что было удобно. Иногда мы сначала пели, вручали цветы и пироги, а спустя несколько часов – танцевали. Или наоборот – сначала встреча делегации танцами, а после уже хором. Нас трепали за щеки важные гости. Детям устраивали отдельный стол – с «Буратино» или «Ситро», тортом с кремовыми розочками. Можно было есть сколько влезет. Но нам было нельзя. Если напьешься газировки – не сможешь петь, если съешь торт – не сможешь танцевать. Так что в те дни мы голодали. Но можно было взять бутылку «Буратино» домой и обменять ее на билет в кино или на два кулька семечек. Или на одного петушка на палочке.
Мама тоже ездила встречать гостей на Военно-Грузинской дороге. Она в детстве танцевала в национальном ансамбле.
– Там, в этом месте, будто ничего нет и никогда не будет. Ни растений, ни деревьев, голая земля, – рассказывала она мне. – На окраине стоит хижина из самана. Ты ведь знаешь, что такое саман? Глина, смешанная с водой. Хижина низкая, грязная. Перед ней – скамейка, на которой сидят мужчины. Из хижины вьется густой дым – там варится арака. На продажу. Нельзя подойти и попросить воды. Женщин нет, а просить у мужчин – неприлично, позора не оберешься. Ни одного туалета. Умыться? Тоже нет. Автобус останавливается. Мы выходим и видим, что буквально через сто метров от этого домика стоит огромный дом на сваях. Перед ним сад и огород. Цветы, большие деревья создают тень. Из шлангов льется вода. Женщина машет нам рукой: мол, заходите, мы вам рады. Запахи доносятся такие, что варящуюся араку перебивают. А это почти невозможно вынести. Хочется туда, в этот оазис. Дорога тяжелая, выезжали рано утром, не успев ни поесть, ни попить. Кажется, что сейчас упадешь в обморок. Хорошо, если тучи, а если солнечный день – совсем плохо. Мы переодеваемся в автобусе в костюмы. Они тяжеленные. Пот льется градом. Мы все голодные, измотанные. Всех тошнит. Кого – от серпантина, кого – от голода. Дзера, Дзерасса, наша солистка, совсем бледная. Но пить и есть нельзя. Дзера танцует так, что вот-вот грохнется в обморок. Делегация хлопает в ладоши. Дзера считается восходящей звездой. Тонкая, бледная, ходит, будто над землей плывет. После выступления женщина из того дома опять машет нам рукой. Мол, заходите. Но нам туда нельзя – чужая территория. Там начинается Грузия. Женщина эта потом выносила нам тайно воду, еду – хачапури, лобио. Все было настолько вкусно, что мы забывали о запретах. Сколько раз она откачивала Дзеру, отпаивая ее кофе или сладким крепким чаем? Сколько раз спасала нас от обезвоживания и голодного обморока? Женщина передавала графин с домашним вином для нашей руководительницы. Мне однажды стало плохо, я упала в обморок. Мы часа четыре стояли в костюмах на дороге, на самом солнцепеке – гостей важных ждали, а те никак не ехали. Вот я и грохнулась. Очнулась в тени дерева. Подумала, что попала в рай. Женщина меня и напоила, и накормила. Кофе сварила такой вкусный, какой я никогда не пила. Кто-то из начальников-мужчин с нашей стороны прибежал, кричал, что не положено, мол, пусть в автобусе сидит, если встречать не может. А та женщина так на него посмотрела, что он сразу замолчал. Пока я в себя не пришла, она меня не отпустила. Вот это я запомнила на всю жизнь. Здесь – саманная хижина без воды и уличного туалета. Ничего нельзя. Дышать нельзя, подходить нельзя. А через сто метров уже все можно. Там тебе рады. Другой свет, краски, эмоции. И удобства – вода, туалет. Там тебя всегда накормят. И защитят. Любого мужчину на место поставят одним взглядом. Та женщина ничего не боялась. А наши – боялись своей тени. Я не хочу вспоминать страх, который вдалбливался в женщин с самого рождения. Страх не выйти замуж, опозорить семью, не угодить мужу, не родить сына-первенца, не поладить со свекровью, не родить еще детей. Каждый день – новый страх. Каждый день как испытание и преодоление. Ты хочешь, чтобы я это вспоминала?
Что я могла ответить маме? Страхи по-разному влияют на людей. Маму он заставил бежать, выходить замуж столько раз, сколько захочется, жить той жизнью, какую выбираешь. Я же из-за этих же страхов вышла замуж один раз и, надеюсь, на всю жизнь. Я кормлю, убираю, отмываю. «Дую в попу» детям, как говорит моя подруга-грузинка. Кстати, это именно грузинское выражение. Как это объяснить? Пока обычная мать будет ждать, когда на ребенке просохнут трусы после купания в море, грузинская будет стоять на берегу с полотенцем, и у нее в запасе окажется еще трое трусов. Как минимум. Ребенок плохо пообедал? Обычая мать решит, что ничего страшного, проголодается – поест. Грузинская будет заламывать руки и причитать, будто случилась вселенская трагедия. И все соседи будут знать, что ребенок совсем не ест. И прямо на глазах похудел на десять килограммов. И как матери такое выдержать? Сердце сейчас остановится! Что тебе, дорогой, приготовить? Все что хочешь сделаю! Только поешь, чтобы я уже была спокойна.
Если у ребенка появились сопли, обычная мать закапает в нос. Грузинская созовет консилиум из врачей и добавит народные средства. И даже если кто-то посоветует использовать для лечения ребенка толченый зуб анаконды, грузинская мать поймает эту самую анаконду, где бы та ни находилась, лично вырвет у нее зуб, а заодно и жало – так, на всякий случай, вдруг пригодится, – и растолчет в порошок.
Та же моя подруга-грузинка рассказывала, что как-то в детстве заболела воспалением среднего уха. И ее маме посоветовали лечить ухо авиационным керосином. Именно авиационным, никаким другим. И мать моей подруги готова была остановить самолет прямо на взлетной полосе и слить керосин. К счастью, подключились родственники и через знакомых достали этот самый керосин. Просили лишь не спрашивать зачем. Вопрос жизни и смерти. Чьей? Жизни ребенка и смерти всех родственников, если они не помогут.
Кто-то усомнился в том, что сын – не абсолютный гений, талантливейший из талантливых, а дочь – не красивейшая из красивейших девочек, которые когда-либо появлялись на свет? Тут сразу туши свет. Грузинская мать будет мстить беспощадно в нескольких поколениях. Нашлет все известные проклятия на голову того, кто так посмел сказать про ее ребенка. Впрочем, надо признать, так ведут себя не только грузинские матери, а матери любой национальности. Но только если они, как это называется на современном языке, тревожные или заполошные, что считается плохим диагнозом. В моем детстве все было наоборот – моя совершенно не тревожная и не заполошная мать считалась горем для ребенка.
Мама сбегала от традиций, принятых норм поведения. Я их культивирую. Пела своей дочери песни на осетинском, которые когда-то исполняла в хоре. Рассказывала сыну про буквы осетинского алфавита, которые удивительным образом похожи на кириллицу, но не имеют с ней ничего общего. Когда А, слитая с Е, имеет другое написание и отображает другой звук. В детстве я умела читать на осетинском, сейчас нет. Навык ушел. Лет до пяти я вообще лучше и чаще говорила на осетинском, чем на русском, и доводила этим до белого каления свою мать. Она говорила по-русски, я отвечала по-осетински. Прекрасно понимала язык. Сейчас на слух могу отличить осетинский от всех других кавказских языков, но понимаю лишь самые простые слова.
* * *
После смерти бабушки ее муж, став вдовцом, женился снова. И месяца после похорон не прошло. Новая жена вынесла все бабушкины вещи на свалку и сожгла. Чтобы даже духу ее не осталось. Не со зла, нет. За ненадобностью. Ни его, ни ее никто не осудил. Мужчине, понятно, в доме нужна женщина для хозяйства. А ей – надо строить свой дом, под себя. Зачем ей перед глазами напоминания о бывшей жене? И так хватает с избытком. О смерти бабушки хоть и написали в газете, но нет-нет, а в дом приезжали люди из дальних сел, которые не знали, что бабушка скончалась, и кричали, стоя у ворот: «Мария!» Какая женщина выдержит такое? Была бы умной, поняла. Но новая жена деда оказалась не очень умной женщиной. Соседи потом звонили маме и рассказывали, что новая жена выкорчевала весь палисадник. Все любимые бабушкины цветы уничтожила с корнем. Есть поговорка – «чтобы и духу не осталось». Мне кажется, это как раз тот случай. Дух в значении запаха, аромата. Чтобы даже запах не напоминал о прошлой хозяйке дома.
А тогда… Я была счастлива в том доме. Со двора можно было выбраться несколькими способами – через калитку в воротах, которая запиралась на здоровенный замок и с усилиями, поэтому практически никогда не закрывалась, через рабочий сарай, в котором отодвигались деревяшки и образовывался выход, и через дырку в сетке-заборе на огороде, которая вела на железную дорогу. В сарае тогда было принято запирать детей за плохое поведение. Если я чувствовала, что бабушка сердита, сама отправлялась в сарай, хотя она никогда в жизни меня не наказывала сидением в сарае. Ей даже в голову такое не могло прийти. Она считала, что лучшее наказание – труд, причем непременно общественно полезный. Могла отправить меня натаскать воды из колонки для пожилой соседки, велеть прополоть палисадник перед зданием редакции или отправить стричь баранов. Бабушка считала, что время – бесценно и каждая минута должна быть занята делом и проведена с пользой для общества. Так что в сарай я отправлялась по собственной инициативе, объявив бабушке, что пошла думать о своем плохом поведении. Естественно, тут же выбиралась оттуда и убегала играть с подружками. Бабушка об этом, конечно же, прекрасно знала. И даже радовалась, что я не сижу в сарае.
От повинностей на огороде – прополоть грядки, собрать колорадских жуков с картошки, полить – я сбегала через сетку, а от обязательного подметания двора уходила через калитку, подпирая дверь с обратной стороны веником. Закрыть по-другому не получалось. Калитка была старая и не поддавалась, хоть всем телом на нее дави снаружи. Нужно было непременно изнутри. Бабушка хохотала и уже сама сбегала в редакцию или через сетку в заборе, или через доски, держащиеся на одном гвозде в стене сарая, или точно так же, подпирая веником калитку. Почему она не могла просто выйти из дома и пойти на работу? Не знаю. Я спрашивала много раз. Бабушка отшучивалась, мама молчала.
Вернувшись от бабушки к маме в Москву, я каждый вечер мысленно проделывала путь по сельской дороге. Чтобы не забыть. Вернуться, будто никуда не уезжала. Выбежать из ворот и свернуть налево. Дорога пыльная. Во дворах, чтобы «прибить пыль», ее поливали из шланга, зажав большим пальцем струю, создавая брызги. Забежать к соседям, позвать гулять лучшую подружку Фатимку. У них всегда весело и шумно. Фатимка носится по двору, выполняя поручения матери – снять высохшее белье, развесить только что постиранное, присмотреть за младшими сестрой и братом, перемыть посуду после завтрака, оттереть до скрипящего блеска сковородки.
Моющих средств тогда, конечно же, не было. Чем мыли посуду? Я говорила, что самое страшное – это стирка пуха? Беру свои слова назад. Самое страшное хозяйственное дело – перемыть посуду после празднования. Этим занимались именно младшие девочки, то есть мы. Гарь со сковородок и кастрюль оттиралась золой и песком. Тарелки мылись содой или горчичным порошком. А вот детскую посуду мыли исключительно крапивой. Не дай бог поставить тарелки с детского стола в общую стопку – детям всегда готовили и накрывали отдельно. Для мытья посуды брали старую крапиву, жесткую, колючую. Считалось, что она убивает все микробы и дает защиту – если мыть детскую посуду крапивой, ребенок не будет страдать животиком, у него не случится поноса или запора. После оттирания крапивой, полоскания в тазах с чистой водой детскую посуду обязательно ошпаривали отваром картофеля, благо картошку варили чуть ли не каждый день и отвар никогда не выливали. Его доводили до кипения и ошпаривали детские чашки, ложки, тарелки. Этот отвар, как считалось, защищал от болезней горла и насморка. А вот хозяйственным мылом посуду не мыли никогда, хотя многие думают, что в селах именно так и делали. Нет, ни при каких обстоятельствах, из-за запаха, который остается на тарелке, сколько ее потом ни перемывай, и еда, положенная на эту тарелку, не будет вкусной.
Сейчас повара натирают тарелку чесноком, чтобы придать еде его запах и вкус, но не добавляют в блюдо. Хозяйственное мыло, которым была вымыта тарелка, тоже отдавало свой запах.
Пока перемоешь всю посуду, с ума сойдешь. На сковородах не должно остаться ни малейшего следа. Они должны были сверкать так, чтобы в них можно было смотреться, как в зеркало. Единственное исключение – чугунные сковороды, которые передавались из поколения в поколение по женской линии. Так передаются драгоценности – фамильное кольцо, серьги. Сковороды, пожалуй, ценились даже больше. К мытью чугунных сковородок допускались только взрослые девушки. Мы, девочки, могли и содой их оттереть, что делать категорически запрещалось. Я видела, как мыла сковороды Фатимкина мама. Ей они достались еще от мамы свекрови и уже поэтому представляли немыслимую ценность. Когда тетя Лаура, наша соседка, потеряла фамильное кольцо, она не так убивалась и горевала, как мама моей подруги, обнаружившая на фамильной сковороде трещину.
В еще теплую, но лишь слегка, чугунную сковороду засыпалась крупная соль – не мелкая, именно крупная – и оставлялась на некоторое время. После сковороду чистили или чистым кухонным полотенцем – ни в коем случае не новым, а старым, мягким. После проходились половинкой разрезанного клубня картофеля. И уже в самом конце, когда сковорода становилась сухой, на нее аккуратно, ровным слоем наносился слой подсолнечного масла.
Это был целый ритуал, который по-настоящему завораживал. К чугунным сковородам относились с такой же заботой, как к младенцам. Их осматривали – не дай бог появились скол или трещина. Мытье не предполагало спешки. Нужно было аккуратно промыть ручку, дно, не забыть про стенки. Чистить и протирать – по часовой стрелке, никак иначе. С чем связан этот ритуал, я так и не узнала. Возможно, с помешиванием каши – только по часовой стрелке. Для чистки выделялись самое мягкое полотенце и лучший картофельный клубень. Протирать аккуратно, медленно. И после промазать маслом, как ребенка кремом после ванночки. Не забыть ни одну складочку. Нежно, бережно, со всей любовью. Неудивительно, что еда, приготовленная именно на этих сковородах, была невероятно вкусной. Там даже в ручке хранилась память предков, их рук, их любви, заботы, защиты.
Если к мытью кухонной утвари относились с маниакальным трепетом, то к мытью грязных детей – спокойно. Все то же главное правило вечера: «Помой ноги». Мы прибегали все в пыли, грязи, в волосах застревали репейник, ветки, насекомые. Лица и руки были измазаны ягодами – от черешни до тутовника. Но главное – помыть ноги. Остальное вообще не важно. Не помоешь ноги – будешь завтра стирать грязную простыню. Для мытья во дворе стояло специальное ведро, внутри которого лежал ковшик. Вода, еще днем почти горячая, к вечеру становилась теплой. И, казалось бы, нет ничего приятнее, чем полить на ноги теплой водой, смывая дневную грязь и пыль. Но так не хотелось! Побыстрее бы оказаться в кровати под периной. Рухнуть и тут же уснуть беспробудным сном без сновидений. В деревне мне никогда сны не снились. В Москве же я часто просыпалась от кошмаров – ярких, цветных, с сюжетом.
Еще миллион дел по хозяйству. Я помогаю Фатимке справиться с поручениями, и мы наконец убегаем. Пулей мчимся мимо следующего дома. Там живет семья Ф., одинокие муж с женой. Они редко выходят за ворота. Продукты им приносит тетя Зара, их дальняя родственница. Говорят, что она им невестка, жена покойного сына. Но тетя Зара уже «взрослая», как говорят про пожилых женщин. Седые волосы выбиваются из-под вдовьего черного платка. А невестки ведь обычно молодые. Тетя Зара хорошая, добрая, но пугливая. От любого громкого звука вздрагивает. И плачет часто, вытирая слезы концом платка. Черный платок носят год, держа траур, потом меняют на обычный. Тетя Зара же всегда в черном платке, не снимает, никто не может вспомнить, сколько лет она его носит. Никто из старших про тетю Зару не рассказывает, лишь отмахиваются: «Не дай бог тебе такую судьбу». Маленькие дети, имеющие право забежать в любой двор, стремглав пробегают мимо этих ворот. На колядки, которые всегда в селе проходили весело и шумно, тетя Зара выносила на улицу сладости. Иногда появлялась и хозяйка дома. Они стояли рядом, смотрели, как в соседние дворы забегают визжащие дети… Но вокруг их дома сам собой возникал какой-то вакуум, запретная зона. Будто дом с привидениями, где жили духи умерших детей, внуков, которые так и не появились на свет. Об этом как-то обмолвилась моя бабушка. Тетя Зара не могла родить ребенка, несмотря на усилия врачей. Потеряла пятерых на разных сроках беременности или почти сразу после рождения. Бабушка сказала, что из-за этого тетя Зара выглядит как пожилая, а на самом деле ей всего тридцать пять лет. Ее могли выдать замуж, когда она овдовела, даже сватались, но она решила, что больше не хочет ни семьи, ни детей. Заботилась о свекрови и свекре и лишь в этом находила смысл жизни.
– А отчего умер сын Ф.? – спросила я.
– Несчастный случай, – ответила бабушка. – Иногда так бывает… что никто не виноват…
– Это когда кирпич на голову вдруг упадет?
Так говорила мама. Она считала, что если верить в несчастные случаи, в тот самый пресловутый кирпич, который в любой момент может упасть на голову, то лучше вообще не жить.
Мама всегда находила разумное и логичное оправдание несчастным случаям, произошедшим в селе, о которых я ей рассказывала.
– Дядю Артура сбил поезд на железнодорожном переезде, – говорила я.
– Да, потому что дядя Артур на мотоцикле проехал за опущенный шлагбаум, решив, что успеет проскочить. Мотоцикл заглох, дядя Артур пытался его завести, не желая бросать на путях, поэтому его сбил поезд. Бросил бы мотоцикл, был бы жив, – пожимала плечами мама.
– Дядя Зорик умер от удара электричеством.
– А зачем он полез на столб чинить оборванные провода? Голыми руками! Решил, будто он птичка? Хоть бы физику в школе учил.
– Дядя Жорик утонул в реке.
– Так нечего было пьяным на спор пытаться переплыть на другой берег.
А вот смерть мужа тети Зары мама не объясняла.
– Не помню подробностей, – неизменно отвечала она.
Но, становясь взрослее, мы, дети, конечно, жадно ловили слухи и домыслы, ходившие по селу. Возможно, трагическая история обросла новыми деталями, уже додуманными. Но кому надо искать правду?
На Валерика – так звали покойного мужа тети Зары – упало дерево. В тот день был сильный ветер, чуть ли не ураганный. Дерево было старым и крепким, само оно на самом деле не упало, обломилась лишь одна ветвь. Острый сук пробил голову Валерика. Он умер сразу же.
В селе ходили слухи, что это расплата за грехи, совершенные его отцом. Какие именно – история умалчивает. Сам Валерик, как потом припоминали старожилы, с раннего детства находился на грани жизни и смерти. Он тяжело болел – врачи не могли поставить верный диагноз, лечили не от того и не так. Несколько раз чуть не утонул в реке, падал с дерева, получая сотрясение мозга. И вот наконец долг был уплачен. Сначала страданиями Зары, которая теряла детей в утробе и при рождении. Потом судьба забрала жизнь Валерика. Означало ли это, что Зара могла начать новую жизнь? Возможно. Наверное, если отмести слухи и руководствоваться медицинскими анализами, муж с женой не совпадали генами или резусами. А с другим мужчиной Зара вполне могла родить здорового ребенка. Но она сделала свой выбор. Судьба лишь предлагает варианты, дороги, сюжеты, но только от человека зависит, какой дорогой он последует, что примет, а что отвергнет.
Дом семьи Ф. казался мертвым и оттого страшным. Да, в каждом доме случались и похороны, и свадьбы, иногда в один день. А уже на следующий в этот же дом приносили новорожденного или за хозяйство принималась молодая, пугливая невестка. Жизнь не прекращалась. Свадебные столы сменялись поминальными. Едва успевали перемыть посуду после одного застолья, как надо было готовиться к новому – крестинам, сватовству, юбилею, годовщине. В больших семьях по-другому не бывает. Это ведь счастье, слезы высыхают, потому что в сердце приходит радость. Одна жизнь заканчивается, но тут же начинается другая – в люльке сопит младенец. И комната, темная, тяжелая, где умирал прадед, перекрашивается, отмывается проточными водами, переделывается под нужды нового члена семьи, пришедшего на смену усопшему. Я точно помню – никто не трясся над старой кроватью, на которой умерли дед или прадед. Никто не хранил в шкафах вещи покойного. Новая жизнь давала силы, желания, приносила счастливые изменения. Шкаф заполнялся пеленками и распашонками. На месте кровати ставилась люлька. Тяжелые занавески менялись на легкие, кружевные. Комната сверкала чистой побелкой, отбитыми двести раз на солнцепеке коврами, которые со стены переносились на пол – чтобы малыш мог ползать в свое удовольствие. Оставляли разве что портрет деда или прадеда на стене. И тот, казалось, улыбался, глядя на перестановки.
Все жили сегодняшним днем. Сегодня счастье, значит, надо праздновать. Никто не жил про запас, как говорила бабушка. Если завтра горе, то зачем думать о нем сегодня? Горевать будем завтра. Если беда случится через три дня, зачем эти три дня к ней готовиться? Надо радоваться, что есть еще три спокойных дня.
Мама считала, что к каждой неприятности, удару судьбы нужно быть готовым, лишь тогда сможешь выстоять и выжить. Я жила с бабушкой, которая призывала радоваться каждому дню, верить в добро и в то, что хороших людей больше, чем плохих, и с мамой, которая считала, что все люди сволочи, добро никогда не побеждает зло и в любой момент нужно ждать подвоха и предательства. Это тяжело, на самом деле. Я понимала, что бабушка, несмотря на свой неиссякаемый оптимизм, тоже ждет чего-то страшного. Иначе зачем она приучила меня складывать самые нужные вещи в одном ящике стола? К нужным вещам относились чистые блокноты, карандаши, ручки, непрочитанная книга, желательно толстая, и сборник стихов. Бабушка говорила, что, заучивая стихи, можно тренировать память.
– Зачем? – удивлялась я, не понимая, какая может возникнуть ситуация, в которой мне понадобится тренировка памяти.
– Так бывает… – Бабушка не вдавалась в подробности.
Потом я случайно услышала разговор бабушки с Варжетхан. Та спрашивала, не стоит ли попросить привезти из Москвы таблетки «для головы».
– Нет, Ольга сразу панику поднимет. Заставит меня ехать на обследование, – отмахнулась бабушка.
Во время войны бабушка получила контузию. Лечилась в госпитале. Но если с частичной глухотой она справлялась, садясь к собеседникам так, чтобы слышать их здоровым ухом (от слухового аппарата категорически отказалась), то с «головой», как называла это Варжетхан, так просто договориться не удалось. Иногда бабушка забывала слова, мучилась головными болями и не могла сложить двух слов в предложение. Обычно это наступало после тяжелых командировок или работы над важными текстами. Мне кажется, именно из-за этого у нее появился свой стиль, как сказали бы сейчас. Она писала короткими, емкими фразами, вместо запятых ставила точки. Громоздкие конструкции с многочисленными причастными и деепричастными оборотами, принятые в то время в газетах, не использовала. Наверное, именно поэтому ее тексты, кажущиеся простыми, понятными, доходили до сердец читателей. Ее короткие предложения быстрее проникали в мозги начальников, и те откликались на просьбы о помощи.
Сейчас я вспоминаю, что бабушка действительно заучивала стихи наизусть – мучительно. Злилась на себя, что никак не может запомнить четыре строчки. Но постепенно она восстанавливала силы и снова начинала писать.
На отдельной полке она хранила вещи, называла их «тревожный чемоданчик» – смена белья, старые ботинки, зубная щетка, паста, мыло в мыльнице, шерстяные носки, сухой паек, несколько коробок спичек, сигареты, хотя никогда не курила, туалетная бумага, щипчики для ногтей, гребень для волос, кипятильник.
– Бабушка, это для войны? – спрашивала я.
– И для войны тоже, – отвечала она.
Теперь я понимаю, что бабушка, памятуя о тяжелом опыте страны, была готова и к аресту тоже, и все, что стояло на этой полке, было предназначено для тюрьмы.
У меня была точно такая же полка на случай экстренных отъездов. Трусы, колготки, теплые штаны. А еще пачка конвертов и марок – чтобы я могла писать письма бабушке. На отдельном листочке – список тех, кому нужно отправить поздравительную открытку с Новым годом или Первым мая. Мама однажды нашла этот список и сожгла в любимой хрустальной пепельнице. Я плакала, не успев, точнее не догадавшись, запомнить наизусть адреса.
* * *
Предметы – вот что на самом деле заставляет вспоминать. Мамина пепельница была огромной, размером с вазу для фруктов. Подарил благодарный клиент – мама работала адвокатом и юрисконсультом. Настоящий хрусталь. Такой и убить можно. Пепельница всегда располагалась на кухонном столе. Но мама предпочитала использовать не ее, а горшок с фиалкой, стоявший на узком подоконнике. Фиалка удивительным образом выживала, политая чайной заваркой, кофе и получавшая удобрения в виде пепла. Она цвела вопреки всему и была для мамы своего рода домашним питомцем, который никак не умрет и все еще требует заботы. Мы с ней часто переезжали, и заводить кошек и собак было бы преступлением. Мама договаривалась с соседкой, чтобы та заходила и хоть изредка поливала цветок. Но соседка забывала о поручении. Правда, перед маминым возвращением она пыталась вернуть зачахшую фиалку к жизни – активно поливала, меняла в горшке землю, даже какие-то удобрения подкладывала. Но полумертвая фиалка возрождалась лишь после кофе, заварки и пепла. Буквально на глазах.
Два чемодана всегда стояли наготове за дверью – мой и бабушкин. Мой большой, бабушкин – совсем маленький. Бабушка говорила, что именно в них я должна сложить вещи с полок. Быстро. Однажды на кухне в дальнем углу шкафа я нашла узелок с сухарями, конфетами «Золотой ключик», но без фантиков, печеньем, тоже без упаковки. Чай, засыпанный в бумажный кулек, и молотый кофе, тоже уже в кульке. Побоялась спрашивать бабушку, зачем она там прячет тот узел. Почувствовала, что не стоит, хотя уже знала, что не для войны, для чего-то другого…
Теперь я гадаю – бабушка каждый день ждала репрессий? Жила со страхом, что ее осудят не пойми по какой статье? И готовила к этому меня? Хорошо подготовила. Я до сих пор храню все важные документы в одном месте. И там, среди документов, лежат блокнот, несколько карандашей, ручка. На столе – книга, которую все собиралась, да так и не прочла, но не убираю на полку. В шкафу, тоже отдельно, – сухарики, баранки, печенье, конфеты, чай, кофе. Все в аккуратных ящиках, мне так удобнее. Или все же дает о себе знать память детства?
Сухое молоко. Еще один забытый вкус моего детства. Мы ели его ложками. Липкое, оно во рту сразу превращалось в комок, но невероятно сладкое. Коровье молоко в нашем селе всегда кипятили. Парное не пили после случая с Магдой. Она заболела менингитом. Выжила, но осталась навсегда больной, умственно неполноценной. Варжетхан тогда сделала все, чтобы ответить на вопрос – как, откуда у здоровой девочки появилась такая болезнь? И выяснила – Магда пила молоко коровы, больной бруцеллезом. А бруцеллез спровоцировал менингит. После этого парное молоко все кипятили и только после кипячения пускали на сыр, простоквашу, сметану.
Козье молоко, жирное, с характерным привкусом, считалось идеальным способом выходить самого тщедушного ребенка. Меня в детстве тоже выпаивали козьим молоком каждый день. Но когда я стала уже не милой упитанной девчушкой с ямочками на щеках, а толстой девочкой, которую невозможно было втиснуть в платье «по возрасту», Варжетхан запретила поить меня козьим молоком и перевела на водяную диету. Я плакала, страдала – бабушка всегда давала мне на завтрак творог из козьего молока с вареньем, а теперь на тарелке лежали лишь два сваренных вкрутую яйца— но быстро похудела. Для лакомства оставалось сухое молоко, которое мама отправляла пачками, и кисель в брикетах. Его ели, откусывая. На зубах хрустел сахар. Рот сводило от кислоты.
…Бежим дальше, мимо других соседей. У них – вечная стройка. На улице перед домом то гора щебенки, то кирпичи, то угольная куча. Если едешь на велосипеде, там, в этой части дороги, ямы и выемки. Попадешь колесом и обязательно окажешься в куче щебенки или угля. Дядя Заур, хозяин дома, будет кричать, что опять кучу разнесли. Они у него аккуратные. Кажется, что эти кучи для него важнее самого строительства, которое длится уже несколько лет и никак не закончится. Он любит эти материалы – щебенку рассматривает так, будто ему кучу золота сгрузили. Углем любуется, обходит по кругу. Дядя Заур каждый день выходит на улицу с ведром и маленькой лопатой засыпает дыры в асфальте. Бессмысленный труд, до первого дождя. Опять все размоет, и появятся колдобины. Но дядя Заур упрямый – ходит со своим ведерком и засыпает дыры. А кучи будто притягивают детей. Что ни день, кто-нибудь обязательно врезается на велосипеде в щебенку. Будто они медом намазаны.
Во дворе, за воротами, тоже все время что-то происходит, судя по запахам. Тетя Мадина, бедная жена дяди Заура – ее все так и называли: «бедная-жена-дяди-Заура», – то варенье варит в огромном котле, то пиво. Делают они и араку, и вино домашнее. К ним из других сел приезжают за продукцией, если намечается праздник. Пиво тете Мадине особенно удается. Напиток получается легкий, сладкий, очень нравится женщинам. Даже детям можно давать. Вино тоже хорошее – не сносит с ног после первого стакана. Сладкое, женское. Араку же дядя Заур лично гонит, жене не доверяет. Тетя Мадина добрая, к ней женщины часто заходят в конце дня. Тетя Мадина сама зовет – попробовать вино или пиво. Что добавить? Песка, то есть сахара, хватает? Сахар всегда называли песком. А крепости? Дядя Заур на местных мужчинах араку проверяет, новый рецепт изобретает. Хочет добавить разные привкусы – алычи, кизила, сливы, абрикоса. Сделать что-то похожее на настойку.
Пиво я впервые попробовала лет в десять – тетя Мадина хотела сварить «детское пиво», которое можно было бы давать детям на праздниках. И проверяла рецепт на соседских девочках. Гениальная маркетинговая идея, как сказали бы сейчас. Но провалилась. Девочкам разрешали сделать несколько глотков обычного пива. Ну а мальчики вкус араки знали с раннего детства. По традиции, на всех торжествах откусить от первого разрезанного пирога, над которым была прочтена молитва, должен был младший ребенок мужского пола, оказавшийся за столом. И отпить из рюмки араки.
А еще кофе… Не так, как в Грузии, когда только за утро успеваешь выпить чашек пять, пока всех соседок обойдешь. Но тоже мололи зерна, варили не в турках, а в алюминиевых или медных кофейниках. Мама посылала бабушке из Москвы кофе в зернах. Бабушка любила грызть обжаренные, когда садилась за важный репортаж или статью. Ставила рядом с пишущей машинкой блюдце с зернами и грызла, пока писала. Детям варили кофе на молоке, заменявшем воду. Первую чашку я выпила лет в шесть, наверное. Мама варила утром себе и заодно сварила мне. Она не любила заваривать чай, а чайные пакетики тогда еще не появились. Да и чай в нашем селе скорее был похож на травяной настой.
Чай – это заваренная ромашка или липа, мята или чабрец. Мама, ничего не понимавшая в правильной заварке обычного черного чая, умела обжаривать зеленые кофейные зерна так, что получался разный вкус. Разная степень обжарки, как сказали бы сейчас. Она колдовала над противнем, не отходя ни на шаг. За это время могли сгореть картошка, мясо, стоявшие на плите… Зато зерна неизменно получались идеальными. Мама варила крепкий и сладкий кофе. Себе – на один глоток. Мне – на молоке. Но обязательно с пенкой. Даже когда появились банки с растворимыми гранулами, мама упрямо продолжала жарить зерна.
Бабушка любила «подгорелые», зажаренные почти до черноты. Курицу она тоже любила зажаренную не до румяной корочки, а обожженную, с черными подгоревшими проплешинами. Отварную, целой тушкой, которую подавали к пирогам, пропитанную лишь солью, уложенную в глубокую тарелку и накрытую сверху еще одной, любила я. Бабушка ее «не понимала», как говорила сама. Я же до сих пор готовлю отварную курицу. Вынимаю из бульона, присыпаю солью и накрываю тарелкой. Секрет приготовления заключается именно в том, чтобы успеть посолить, обязательно крупной солью, и накрыть еще горячую курицу сверху. Тогда соль проникнет через волокна мяса, и курица получает совсем другой вкус.
У тети Мадины была младшая родная сестра, Алана, которая так и не смогла выйти замуж. Она жила в семье сестры на правах помощницы по хозяйству. Эта незавидная участь, надо признать, ее вполне устраивала. Родные не оставляли надежду устроить будущее Аланы. Но никто не хотел брать ее ни замуж, ни на работу.
Алану куда только не пристраивали. Она окончила школу с золотой медалью, потом педагогический институт с красным дипломом. После этого, вернувшись в родное село и убедившись в том, что счастливая семейная жизнь ей точно не светит, Алана поступила в аспирантуру и защитила кандидатскую степень по педагогике. После этого она опять вернулась в родное село. Очередная попытка выдать замуж уже кандидата наук не увенчалась успехом. И Алана, привыкшая и любившая учиться, поступила в… техникум, освоила профессию ветеринара. Но проблема была в том, что она совершенно не умела применять полученные знания в быту. Ей нравилось именно учиться. Она все понимала в педагогике и в ветеринарии в рамках учебника. Но совершенно не знала, что делать с живыми детьми и животными.
Тетя Мадина пришла к директору школы Алану Тимуровичу с просьбой взять сестру обычной учительницей. Алан Тимурович приходился тете Мадине пусть и очень дальним, но все же родственником.
– Нет, даже слышать не хочу! – замахал он руками. – Что угодно сделаю! Хочешь, еще твоих не рожденных внуков в первый класс запишу? Не хочешь? Могу сразу в пятый класс их перевести – они наверняка родятся гениями. Только умоляю, пусть Алана даже на двор школы не заходит. Как брат тебя прошу.