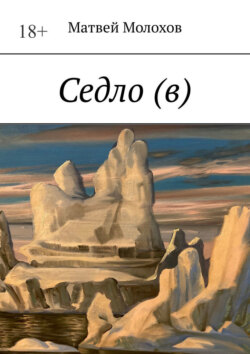Читать книгу Седло (в) - Матвей Молохов - Страница 4
Глава III. Корпоратив
ОглавлениеЗа последнюю неделю ничего, что усугубило бы состояние Седлова, не произошло, хотя и воодушевляющего – тоже. Неполиваемый папоротник продолжал стоять на месте, что было замечено всевидящей Токарь, которая в очередной раз предложила забрать растение. Но если раньше Седлов был готов это сделать почти сразу, то теперь промямлил что-то, включающее набор из «хорошо смотрится в кабинете», «привык», «может, хлорофитум возьмете» и «подумает». «Ну так хоть поливайте, засохнет ведь!» – и на этом явно не последняя атака была завершена.
Единственным качественным изменением стало то, что теперь на литературе Седлов работал не только на Подгорного, но и на Юлю. После вопроса, заставившего его сильно всколыхнуть свой умственно-ораторский потенциал, он не мог не обратить внимания на ответ Юли по заданиям-конструкциям: «Если литература ХIХ века еще ходила над бездной и ее герои не переступали последней черты, то героев литературы ХХ века бездна начинает поглощать, хотя это и спорно;)». И в конце подмигивающий смайлик, который вместе с «хотя» означал, что его литература теперь не будет прежней. Он стал тщательнее готовиться, продумывая возможные варианты неожиданных вопросов и ответов на них. Теперь надо было знать не только текст, но и максимально широкий контекст.
Ответы Юли всегда были не то что умнее ответов Игната, но как-то хлеще, ярче. Если Подгорный доосвещал тот путь, который намечал и видел Седлов, то Юля яркой вспышкой указывала на другие возможные пути.
Когда на обобщающем уроке они сравнивали Есенина и Маяковского и Седлов говорил о том, что Есенину был чужд тот новый мир с «железными паровозами», который приветствовал Маяковский, Подгорный сказал, что ему он тоже чужд. Реакция Юли последовала незамедлительно:
– Так ты в деревне хочешь жить, без достижений цивилизации? Я смотрю, ты вон с айфоном сидишь, правда, не новым.
– Ну нет, я говорю о том, что мне ближе Есенин. Маяковский как-то слишком резок, как будто дрова рубит, как в том стихотворении о любви, что читал Егор Петрович.
– Это странная, какая-то женская позиция, – Седлов замечал, что Юля подавляет Подгорного и в спорах с ней он, скорее, оправдывается, а не борется, – отрицать Маяковского – это отрицать мир, в котором мы живем.
– Я не отрицаю, а говорю, что ближе.
– Ну, тебе деревня ближе и нежные песенки? – на предыдущем уроке Седлов дал прослушать два исполнения «Над окошком месяц» Ивашова и Шевчука, спросив, чье исполнение, по их мнению, лучше передает суть текста. Большинство, возглавляемое Подгорным, было за Ивашова, но Свинцовой это не помешало задавить всех: Шевчук – это современное видение, страсть, а Ивашов – очень слащаво. Седлов сам был за Ивашова (хотя и не высказывал свою точку зрения), но не стал даже пытаться примирить стороны под таким яростным напором одной из них.
– Нет.
– Сомневаюсь.
Заданием урока было: в духе одного из поэтических направлений Серебряного века написать две строфы по известному, например, сказочному сюжету. Седлов даже привел запомнившийся ему пример из подобного олимпиадного задания о Красной Шапочке, когда кто-то, явно не из числа типичных учеников Егора Петровича, написал футуристическое: «В Красной Шапке мало толку! / Ша! Долой! / Так вперед, стальные волки, / смело в бой! / Бабку как оплот царизма / – на гарнир! Слышишь грозный вой марксизма? / – Слушай, мир!». /
Желающие могли прочитать свои творения, но рискнули только Подгорный и Юля. Начал Игнат:
Хоть мы и в мире проводов,
Не стоит забывать о вечном:
Природе, старине и запахе цветов
И радовать себя беспечностью.
– Красиво, Игнат, прямо по-есенински!
– Не удивительно, он и внешне – как сын Есенина. А можно мне свое прочитать?
– Конечно.
Немало есть «живущих стариной»
С айфонами в руках.
Отправим их в избушки, на покой,
Пусть печи топят на дровах.
А мы в реальности бетона и стекла
Начнем творить свой новый мир, и пусть
У лириков сейчас слеза стекла.
Утопим в технологиях их грусть!
Подгорный был явно подавлен, что не мог не заметить Седлов, как и не мог не восхититься Юлей. Их противостояние, в котором страдал один, с другой стороны, полностью освободило Седлова от траты времени на паразитов Бликова и внутреннего раздражения от «да/нет» Шерстневой. И горловой нагрузки стало намного меньше: достаточно было просто подтолкнуть к битве. Теперь все, включая Седлова, смотрели на театр двух актеров.
Сегодня уроков не было. Присутствие Седлова в школе объяснялось обязательно-неформальным школьным мероприятием: банкетом в честь Дня учителя.
Седлов терпеть не мог школьные банкеты не только потому, что не испытывал большой тяги к алкоголю и пьяному плясу, а прежде всего из-за той мнимой атмосферы отмены субординации, которая там образовывалась: трудно сказать, все ли понимали, что сегодняшние праздничные хороводы со вдруг опростившейся администрацией завтра снова сменятся натянуто-бдящими лицами одних и покорно-пашущими других. Хотя были и те, кто просто хотел забыться, по-юношески оторваться и забывался так, что становился предметом пересудов коллег: кто-то упал, не рассчитав возможностей при выполнении танцевальных «па», кто-то смахнул на себя и окружающих бокал красного вина; особенно обсуждали вдруг проснувшиеся чувства одних коллег к другим, – в общем, с какой стороны ни посмотри, все это вызывало в Егоре Петровиче такое же отторжение, как и педсоветы, хотя на последних можно было просто тихо сидеть в глубине, не изображая радость ребенка-именинника.
Но не ходить на праздники за счет школы (последнее особенно подчеркивалось) нельзя, и эту часть работы тоже надо было выполнять. Тем более сегодня Седлов надеялся в условно неформальной обстановке перехватить Растегаева и все же рассказать о ситуации с Цыбиным.
Засветиться перед руководством, отъев банкетные деньги, поговорить с Растегаевым и быстро под шумок в разгар вечера уйти – таков был план Седлова на вечер.
К назначенному часу Седлов спустился в столовую, которая уже была значительно заполнена искренне жаждущими праздника или выполняющими, как Седлов, корпоративный долг. Столы стояли традиционной буквой П, от которой при этом была оторвана верхняя планка – место администрации: последняя, по-видимому, несмотря на идею банкетного скидывания масок, все же обозначала границы, напоминая тем быкам, кто уж очень рьяно захочет встать на одну ногу с Юпитером, что после сегодня как исключения наступит завтра как правило.
Седлов поискал, где разместился Растегаев, чтобы выловить его в нужный момент для разговора. Но последнего пока не было.
– Скучаете, Егор Петрович?
Увидев Барашкину, Седлов даже как-то воспрянул. В его личной жизни после ряда кратковременных неудач давно была пауза, скорее от страха очередной, чем из-за холостяцкого принципа. И Мария Федоровна, а для большинства Машенька, давно попала в круг его симпатий, точнее, она была одна в этом кругу, учитывая возраст других коллег по сравнению с ее двадцатью шестью годами. Была в Машеньке какая-то простая природная притягательность, скромность, плавность, свойственная почти вымершему типу женщин: женщин для семьи и детей. А после опыта взаимоотношений с женщинами-перфекционистками, для которых учитель равно неудачник на обочине конвеера современных возможностей, Седлов твердо решил, что характер не есть ум, а тем более не составляющая формулы семейной жизни, и необходимо поменять типаж женщин с картин Боровиковского на простоту и доверчивость у Венецианова, для которого Машенька, если одеть на нее деревенское платье да еще повесить на плечи коромысло или дать в руки поводья такой же мирной лошади, была бы идеальной натурщицей.
В общем, по убеждению Седлова, в Марии Федоровне все было идеально, кроме одного – ее профессионализма. Растегаев был наиболее частым усмирителем на ее уроках, где даже в смирных отличниках пробуждалась тяга к разрушению. Сами ученики оправдывали это тоской, исходившей от уроков географии, и уж очень тихим голосом учительницы, робкие попытки которой посеять хоть какие-то географические зерна в ученических умах разбивались об охватывавшую их варварскую вакханалию. И слезы Мари Федоровны после уроков были неотъемлемой частью ее педагогического кредо. Ей все сочувствовали, помогали, но, когда Седлов попытался сказать молодой коллеге, что, может, как-то разнообразить процесс, не следовать букве учебника, а показать фильмы, придумать интересные поисковые задания: попробовать быть Магелланами, Колумбами, в общем, почувствовать живую жизнь географии, а не нафталин параграфов учебника, – он увидел растерянный взгляд, сопровожденный недоумением: «Так нельзя ведь от программы отступать», – и оставил Марию Федоровну с ее слезами, шепотом и кнутом Растегаева, который нередко вынужден был в роли сторожевой кавказской овчарки сидеть позади на ее уроках и сгонять расползающееся стадо.
Но профессионализм в романтических отношениях не нужен. Главным было то, что по всегда приветливым взглядам, где-то с примесью восхищения, улыбкам, манящей застенчивости Седлов понимал, что его решительная попытка сблизиться с учительницей географии может быть успешной. Правда, до попытки как-то пока не доходило. «Почему не сегодня?» – задал себе вопрос Седлов и, предварительно ответив утвердительно, все же оставил Машеньку на втором месте в плане после разговора с Растегаевым.
– Да вот думаю, куда сесть подальше от императора, чтобы потом улизнуть по-тихому.
– Какого императора? – с наивной улыбкой спросила Мария Федоровна.
– Да это я так, шучу, – не стал углубляться Седлов.
– Так давайте вон туда сядем, – Машенька указала на свободные места, которые по расположению находились недалеко от выхода и устраивали Седлова.
– Ну, давайте, хорошо, – Егор Петрович дал бы другой ответ, более уверенный, да возможно еще и со стандартным комплиментом о приятной компании, будь Машенька на первом месте в плане. Но на первом пока был Растегаев. Отсутствие последнего временно выдвинуло Машеньку вперед.
Они сели рядом, и Седлов дежурно поддерживал разговор, слепленный из сиюминутных наблюдений, пока буква «П» постепенно облеплялась людьми.
Когда все расселись и стали ждать прихода администрации, которая должна была дать соответствующую отмашку для начала праздника, Седлов с неудовольствием отметил, что почти напротив него сидит классуха-борец, что сразу добавляло напряжения и речевого самоконтроля, а необходимый Андрей Борисович оказался в противоположной части зала. Седлов смирился с тем, что теперь в любом случае необходимо ждать, когда банкет наберет обороты, потянутся танцовщики, курильщики, к которым относился Растегаев, и тогда можно будет его поймать для исповеди. Даже если бы он сидел рядом, разговор напротив ушей Токарь был бы невозможен. А пока можно перебросить внимание на Машеньку. Так решил Егор Петрович и относительно расслабился.
В зал вереницей чинно вошла администрация и проследовала к своей оторванной вершине «П». Хан взяла в руки микрофон и попросила наполнить бокалы.
– Ну что, Егор Петрович, Вам сегодня ухаживать за нами! – Ухаживать за Токарь, наверное, было последним, чего сейчас, да и вообще хотел Седлов. Даже если бы Токарь была ровесницей Маши, он был уверен, что она выглядела бы так же. И все же какой-то бедняга когда-то сделал свой роковой шаг и оказался в железной хватке, о чем свидетельствовало толстое обручальное кольцо советских времен на борцовском пальце. Но в данной ситуации выбора не было.
– Конечно, Вам чего налить, вина?
– Нет, мне водочки, – Седлов нисколько не удивился этому выбору: напиток – по человеку.
– А Вам, Мария Федоровна?
– Мне вина, пожалуйста, белого, – с детской чистотой сказала Машенька.
Седлов наполнил бокалы выбранным содержимым, налив себе, как и Маше.
– А Вы-то что, Егор Петрович, несерьезные напитки пьете, – Седлов еще раз внутренне подосадовал, что поддался Машиному уговору сесть на первые свободные места без рекогносцировки.
– Да я… не пью особо, да и хочу поддержать Марию Федоровну.
– Эх, слабеют мужики, – сказала Токарь банальность и обратилась к сидящему через человека справа от нее учителю ОБЖ Вязникову Алексею Юрьевичу, о хромоте которого слагали легенды, – Леш, ну ты-то меня поддержишь?
– Конечно, Наташ, с радостью, – отозвался герой мифов тети Томы.
«Вот бы он и стал ее корпоративным ухажером, а то ухаживать за Машей под цепким взглядом Токарь – то же, что вывесить плакаты с объявлением своих намерений по всей школе», – успел подумать Седлов и присоединился взглядами к взявшей слово Минаковой.
Хан начала свою речь с приветствия всем коллегам и под восторженно-преданные взгляды окружавшей администрации и приласканных учителей, подобных Токарь, перешла к значимости роли учителя, несущего нелегкую ношу в наше время, но какую значимую, и продолжила складывать пазл поздравительной речи из всегда готового для таких случаев набора. К счастью, речь был недолгой и завершилась указанием на особенный сложившийся коллектив школы, семьи (в которой, судя по всему, Елена Григорьевна отводила себе роль мамы) и необходимости веры в светлое будущее, которое зависит от вклада каждого из нас.
Видимо, чтобы простимулировать этот вклад, учителям в канун праздника была щедрой рукой спущена премия в размере трех тысяч рублей. Сколько получили особо приближенные, в частности, снабжающие, как Токарь, верх «ценной» информацией, точно было неизвестно, но слухи разносили цифру порядка 10—ти тысяч. Стандартная трехтысячная премия была встречена по-разному: от «ну хоть что-то» до «теперь ждите: будем отрабатывать за баллы». В школе действовала особая поощрительно-карательная система начисления баллов, формулу перевода которой в деньги мало кто понимал, а публично задавать вопросы решался только Растегаев.
В конце месяца каждый получал листок со списком плюсов или минусов баллов за собственные достижения либо проступки, и последних всегда было больше: «несвоевременное выставление оценок в электронный журнал» — минус пять; «несвоевременная подготовка контрольно-измерительных материалов по дисциплине» — минус 7 и т. п. Особенно пестрели минусами балльные листки классных руководителей с порой комичными записями: «отсутствие сменной обуви» — минус три, «курение на крыльце» – минус семь и т. п. Поговаривали, что еще в начале введения кто-то даже пошел утверждать, что он никогда и нигде не курил, не то что на крыльце, но ему объяснили, что своим минусом он обязан подопечным. А на вопрос, когда ему за всем этим следить, он получал только холодный душ из административных указаний на его функционал. Хитрость системы, когда, по словам Андрея Борисовича, «конские яблоки красят и за антоновские выдают», заключалась в том, что учитель мог получить высокие баллы за призера олимпиады, открытый урок и все, что просветляет лик школы, но эти баллы сжирались курильщиками, безобувщиками, электронными журналами, КИМами (Растегаев заменял первую букву аббревиатуры на «ху»), ненавистными для всех кирпичами из бумаг с описанием собственных уроков и прочими никогда не выполняемыми показателями. В общем, учитывая конвеерный характер работы, большинство давно поняло, что баллы – эфемерный журавль в небе и лучше не думать о них, оставаясь со своей синицей в виде оклада и данных государством надбавок, которые пока никто не отнимает.
Минакова закончила свою густую речь и передала бразды правления тамаде вечера – обэжэшнику Вязникову. Седлов едва не оказался на его месте, так как первоначально, сразу после временно вознесшего его брейн-ринга, Крепова предложила роль тамады ему. Несмотря на то что тогда он пребывал в состоянии эйфории и мог согласиться на что угодно, проступивший сквозь океан радости здравый смысл подсказал, что играть роль массовика-затейника для пьянеющей толпы, которая с измененным сознанием будет все больше жаждать развлечений, и не иметь возможности традиционно исчезнуть в середине, явно ему не подходит. И Седлов вежливо отказался, сославшись на то, что «это не его» и что он «еще плохо знает коллектив». При это он согласился подыграть принявшему с радостью роль тамады Вязникову с литературными загадками и попросил, чтобы его поставили в начало, пока еще кому-то будет интересно копаться в чертогах своей школьной памяти.
Седлов начал с заданий на необходимость угадывания антонимично перевернутых пословиц, типа «Безделье не лисица – в поле не постоит» («Работа не волк – в лес не убежит»), а затем перешел к угадыванию известных произведений, по ключевым словам, типа «кот, Ялта, нехорошая квартира» и завершил более сложными заданиями на эрудицию. Везде пришлось подсказывать, но с заданиями, типа «Какой классик имел два носа?» справлялись, а вот на последнем задании, которое должно было логически завершить седловскую часть и перетечь в тост, возник ступор. Коллега Седлова по предметам, правда, с явно большей любовью к русскому, чем к литературе, Тимофеева Ирина Петровна, чуть старше Седлова и явно круче характером, судя по могильной тишине на ее уроках, где был слышен только ее звонкий голос, становившийся особенно пронзительным при малейших отклонениях от вершимого ею хода урока, принципиально на такие мероприятия не ходила, так как «не переносила пьяных мужчин» и в целом всегда держалась в стороне от любого рода обсуждений и разборок. С одной стороны, отсутствие игрока того же поля явно облегчило Седлову задачу – его вопросы выглядели оригинальными, но, когда посыпались ответы на последний вопрос и время стало явно затягиваться, он пожалел об отсутствии звонкоголосой Тимофеевой.
– Коллеги, и напоследок, чтобы перейти к тосту и передать бразды правления нашего замечательного вечера ведущему, вопрос, имеющий непосредственное отношение к нашему застолью. Можно сказать, он на столе. Обратите внимание на эту подсказку. В романе «Евгений Онегин» есть такие строки: «Он в том покое поселился, / Где деревенский старожил / Лет сорок с ключницей бранился, / В окно смотрел и мух давил» /. О каких мухах идет речь?
– Дрозофилы! – с восторгом ответила Машенька, которая до этого молчала и, как мельком замечал Седлов, не сводила с него любующихся глаз.
– Спасибо, Мария Федоровна, Вы были близки, – явно польстил Седлов, возможно, в благодарность за взгляд и перспективы отношений, – но есть ли еще версии?
– Цеце, – пробасила Токарь.
– Спасибо, Наталья Сергеевна. Если бы действие романа происходило в Африке, Вы бы были абсолютно правы, но мы говорим о России и, в целом, коллеги, не о буквальных мухах. Я даю Вам подсказку второй раз, – улыбнулся Седлов, внутренне порадовавшись ляпу человека, в чьих цепких руках он побывал.
– Ну тогда эти, возможно, наши, навозные, – пропустил подсказку мимо ушей Вязников.
– Возможно, Алексей Юрьевич, но вряд ли дворянин Онегин поселился в покое, где был навоз. Машенька хихикнула, хотя и сама недалеко стояла от преподавателя ОБЖ в эрудиции, а Седлов уже начал чувствовать утомление.
– Коллеги, повторю, мы говорим не о живых мухах.
– О мертвых что ли, этих, сухих, что между рамами, – судя по реакции Вязникова, он был уверен, что дал правильный ответ.
– Коллеги, речь и не о живых, и не о мертвых мухах. И не о сухих. Не о мухах вообще. Давайте вспомним подсказку. Я сказал, что ответ перед вами.
– Но перед нами нет мух, – по залу побежал смешок над шуткой Креповой. Особенно смеялась Токарь.
– Егор Петрович, Вы бы попонятнее спросили, учитель все-таки, – опять лидерский смешок Токарь.
– Хорошо, – Седлов начал чувствовать то же раздражение, как и в диалогах с паразитами Бликова, но понимал, что показывать его неуместно, – что мы сейчас делаем?
– Празднуем! – Седлов перестал следить, кто отвечает.
– Отлично! А что мы делаем после того, как произносят тост?
– Выпиваем?
– Да. А Вам известно выражение «быть под мухой»?
– Да, значит выпивши.
– Прекрасно. Мы уже совсем близко.
– А с помощью чего мы выпиваем?
– С помощью рук.
– А точнее?
– Бокалов.
– А если мы говорим о крепких напитках?
– Рюмок.
– Замечательно! Речь о маленьких рюмках. Так как ответ был коллективным, поздравляю всех! Вашей проницательности, коллеги, нет равных! – на иронию Седлова никто не обратил внимания. Он предложил выпить и, наконец, передал слово Вязникову.
Седлову как-то захотелось выпить, особенно после задевшей его колкости Креповой. И он налил себе побольше. Теперь можно раствориться и ждать, когда начнется рассредоточение празднующих, возникнут курительные паузы и можно будет выловить Растегаева.
Но стало понятно, что ждать, судя по всему, придется долго и раствориться не получится. Вязников устроил череду конкурсов, которые, судя по всему, были взяты им с какого-то старого сайта для свадебного тамады. В чистке картошки на скорость Седлов еще согласился поучаствовать, с треском проиграв почти всем и услышав токаревское «вот что значит не женат», но от остальных конкурсов с почти фрейдистским подтекстом пришлось категорически отказываться: мужчины угадывали женщин по руке, а женщины в ответ угадывали мужчин по прическе. Если первое еще было на грани физиологической терпимости, то второе, по мнению Седлова, за эти грани явно выходило: почувствовать в своих волосах шарящую руку Токарь было явно выше его сил. Поэтому он наблюдал за происходящим со стороны и сдержанно изображал радость (особенно всех развеселило, когда лысый и, соответственно, легко узнаваемый Вязников надел неизвестно где раздобытый парик), продолжая потягивать вино. Есть не хотелось. И какое-то внутреннее напряжение так и не уходило. Может, уйдет после встречи с Растегаевым, который, кстати, активно участвовал в конкурсах.
Наконец, конкурсная часть была завершена, и чувствующий свое организаторское величие раскрасневшийся Вязников объявил музыкальную паузу. Седлов не торопился приглашать Машеньку, но видя, что Растегаев уже идет на танцпол с Зегерс, которая сегодня была на редкость не с тревожным, а с радостным напряжением на лице, попросил учительницу географии не отказать ему в танце.
Они качались с Машенькой в танце, и Седлов еще больше ненавидел Цыбина, так как понимал, что, несмотря на то что в Машеньке все было хорошо, ему с трудом давалась любая фраза. И он ловил себя на мысли, что ждет окончания танца и логичного перекура, чтобы, как ему казалось, воспользоваться реальным шансом скинуть бремя папоротника.
Танец подходил к концу, и Седлов увидел, что Растегаев уже ведет, видимо, утомившуюся Зегерс к своему месту, но в Машеньке энергии было явно больше и она усталости не высказывала, а вдруг потащить ее к своему стулу и усадить было бы странным. Растегаев уже вышел из столовой, когда последние аккорды отзвучали и Седлов отвел Машеньку на ее место. Он собрался быстро выйти, но увидел удивленный взгляд Машеньки:
– Вы же не курите, Егор Петрович?
– Да я… подышать хочу, душно. Я скоро вернусь.
– Что ж Вы, правда, девушку бросаете? – влезла всезамечающая Токарь.
– Я не бросаю, вернусь.
– Что там стоять, с этими курильщиками, – Токарь не унималась.
– Я не с ними, просто на крыльце постою.
– Окно бы открыли да постояли.
– Я скоро, – Седлов намеренно проигнорировал рекомендацию Токарь, посмотрел на Машу, изобразив доброжелательность, за которой скрывалась только голая нервозность, и быстро направился к выходу.
Холл был пустой. Седлов дошел до середины холла и вдруг увидел справа по лестнице сбегающую фигуру, которая показалась ему до мерзости знакомой. Это был Цыбин. И сбегал он, судя по всему, из кабинета, от которого у него с подачи Седлова был собственный ключ.
– О, Егор Петрович, а я ищу вас везде. Можно на минуту?
На место прежней нервозности пришло какое-то бессильное отчаяние мухи в банке с медом. Он уже видел вахту и тетю Тому, мог бы проигнорировать Цыбина и сразу направиться на улицу, где был спасительный Растегаев, но просто тупо замер.
– Сюда иди, – злобным шипением позвал Цыбин. Седлов медленно повернулся и пошел в лестничную тень.
– Какого хрена там вода?
– Где?
– В п..де! В папоротнике! Я же тебе сказал не поливать.
– Я не поливал.
– А кто тогда? Это твой кабинет!
– Не знаю, я не поливал. Может, вахтерша. Или… Токарь. Токарь хотела полить, – видимо, Седлов настолько не любил Токарь, что даже в таком выбитом состоянии решил использовать ее для собственного спасения. И это помогло.
– П..да тупая. Ладно, там запечатано все. Но следи на будущее! Ты куда шел-то?
– Курить.
– Так ты не куришь, вроде?
– Ну, у нас это, банкет.
– А, так ты закинулся и потянуло, – с каким-то ехидным чувством родства сказал Цыбин, – так пошли покурим, меня тем более вывести надо, а то бабка не выпустит. Я сказал, что к тебе пришел на отработки – еле втюхал ей.
– Так там учителя.
– Мы в другую сторону. Пошли.
Седлов последовал за Цыбиным. Они приблизились к вахте и встретились с цепким взглядом тети Томы.
– Вот видите, баба Тома, а Вы не верили. Я учиться приходил. Егор Петрович подтвердит.
– Да, – у Седлова не было сил сказать больше.
– Да куда тебе верить, с такой рожей! И какая я тебе баба?! Избави Бог от таких внуков!
– Каких таких? И с какой рожей? Давайте-ка поподробнее! – Седлов было направился к выходу, чтобы увлечь за собой Цыбина и избавить тетю Тому от раскрытия нелестных эпитетов, но Цыбин его незаметно дернул скрытой от тети Томы правой рукой.
– Уголовников. Я их чую. А с рожей подозрительной. Ты же прогульщик, оболтус. А тут вдруг приперся учиться.
– Зря вы так. Я – лучший ученик у Егора Петровича. Да ведь?
Седлов промолчал.
– Да что ты врешь-то! Лучший, тебя гнать надо метлой поганой.
– Вашей метлой? – Цыбин начал входить в азарт, а Седлов просто был статистом.
– Ты не дерзи мне, сопляк! А то быстро вылетишь!
– Ну да, Вы же директор. У Вас и кабинет тут.
– Заткнись и иди отсюда.
– Мы с Егором Петровичем выйдем, – к счастью, решил закончить противостояние Цыбин.
– А Егор Петрович тебе зачем?
– Он меня проводит, а то там страшно во дворе, хулиганы.
– Да ты сам хулиган, урка, какой тебе страшно!
– Да я к коллегам, – Седлов нашел в себе силы выдавить, чтобы не дать начаться очередному витку диалога.
– Так Вы же не курите? – в очередной раз за день услышал Седлов.
– Я подышать, – Седлов решил использовать прежний аргумент.
– Ну идите, – тетя Тома сказала так, как будто без ее разрешения Седлов не имел права выйти.
Они вышли на крыльцо. Слева раздавались учительские голоса, среди которых выделялся бас Растегаева. Голос был родным, и, пройди Седлов на несколько минут раньше, это был бы голос надежды. Но сейчас он только усиливал ощущение тупой безысходности. Даже мысль о возможности рвануть к своим и уже не отходить от Растегаева, пока все не расскажешь, не озарила его, а как-то вяло проползла в оцепеневшем мозгу.
Они свернули направо и под удаляющийся гул голосов прошли в тихое неосвещенное место, которыми был богат школьный двор, особенно в ночное время.
– На, кури, угощаю.
Седлов не находился в никотиновом плену и курил крайне редко: в определенной степени опьянения либо в определенных обстоятельствах для поддержания общения. И все это случалось не чаще раза в полугодие. Сегодня он планировал покурить с Растегаевым, чтобы тем самым дать старт жизненно важной исповеди. Но причудливой волею обстоятельств, которые уже начинали казаться Седлову какой-то кармической закономерностью, вынужден был курить с Цыбиным.
Седлов в темноте взял предложенную Цыбиным сигарету, воспользовался поднесенной зажигалкой и затянулся. Он сразу почувствовал какой-то необычный сладковатый пряный вкус, но осознание приходило медленно, и он затянулся второй раз. Осознание пришло. Он резко отбросил сигарету и только сейчас, привыкнув к темноте, обратил внимание и на странный вид самой сигареты, и на ожидающе-торжествующий взгляд Цыбина.
– Ты знаешь, сколько сейчас бабок выбросил? Рублей четыреста, не меньше.
– Ты что, наркотики мне дал, ты совсем что ли…
– Да не дрейфь, какие это наркотики. Так, трава. Ты же должен знать, что хранишь.
– Слушай, это уже… за рамками. Я не буду тебе помогать! Это все! – Седлов неожиданно почувствовал какую-то нарастающую волну уверенности.
– Тебя накрыло уже что ли? Ты что несешь?! Тайсона забыл?
– Все, я сказал, все! Лови свои пакеты под окном! – Седлов вдруг четко понял, что должен сейчас сделать. Он резко повернулся и быстро пошел к школьному входу. Почти побежал.
– С. ка, стой, только попробуй! Тебе п….ц!
Он ждал, что рука Цыбина вот-вот опустится на его плечо. Но, видимо, его уход и набранная скорость оказались для врага неожиданными, и тот не решился ловить Седлова почти на крыльце школы, ограничившись указанием на мрачные жизненные перспективы учителя. Но последнего это не остановило – он решил все закончить сегодня же.
Почти взлетев на третий этаж, не оглядываясь и будучи уверенным, что, даже если Цыбин побежит за ним, через баррикады тети Томы ему не прорваться, Седлов открыл кабинет, включил свет и сразу подошел к папоротнику. В отличие от прошлого раза папоротник как-то легко оторвался от поддона. Егор Петрович поставил его рядом, достал содержимое из «тайника», которое, как ему показалось, уменьшилось где-то наполовину по сравнению с первой закладкой, открыл окно и вышвырнул сверток подальше. Окно он сразу закрыл и отошел, чтобы не сбить свой решительный настрой картиной Цыбина, рыщущего внизу, – а в ее реальности он был более чем уверен. Закрыв кабинет, Седлов так же уверенно побежал вниз – навстречу временно покинутому им празднику.
Егор Петрович резво вошел в столовую и сразу направился к Растегаеву, который развлекал разговорами сидевших рядом. В этом кругу, помимо Зегерс, уже были Токарь и Крепова, что свидетельствовало о вступлении корпоратива в стадию размывания границ между своими и чужими.
«Так его, Леху, – Растегаев, видимо, рассказывал о своем коллеге по прошлой работе, – одного отправили с классом на поезде с ночевкой на какую-то экскурсию на завод. А там класс – зверинец. На одной станции яблоками обкидали из окон людей. Полку сорвали, сортир забили. Он всю ночь бегал от купе к купе, а что сделаешь, это же обезьянник. Так вернулся, хвалился, что никто никого не убил и даже без травм обошлось. Через неделю его директор вызвал, так он с гордостью пошел, думал, грамоту дадут с премией. А директор ему – иск от РЖД на возмещение материального ущерба, тысяч 50 вроде. И выговор с занесением. Сказал, что, мол, из зарплаты твоей будем вычитать. Не знаю, вычитали или нет, но он возмущался месяца два». Я ему говорил: «Леха, ты не расстраивайся, рано или поздно твое геройство оценят. Сейчас – репрессии, потом – слава, у нас в России так».
Окружающие смеялись. Кто несдержанно, как Токарь и Вязников, кто, чье административное бремя алкоголь все же растворить не мог, сдержаннее, но весело было всем. Растегаев, будучи харизматичным остроумным рассказчиком, в такие моменты притягивал всех, в том числе и тех, кого бы явно порадовал его уход из школы.
Седлов дождался, когда смех утихнет, и подошел к Растегаеву:
– Андрей Борисович, можно Вас на минуту.
– О, Егор Петрович, а ты где был? Давай садись, выпьем.
– Да я… поговорить хотел. Ну, давайте… выпьем. Только потом… хотел поговорить.
– Да поговорим, садись, ты напряженный какой-то. Ты что будешь: водку, коньяк?
– Да я не… ну, давайте коньяк, – вдруг решил укрепить авторитет Седлов.
– О, ну наконец-то, а то отрываетесь от коллектива, Егор Петрович, – одобрила выбор Седлова Токарь.
Выпитый коньяк каким-то тяжелым масляным комком скатился внутрь Седлова, но буквально через несколько минут следующая рюмка пошла уже легко, без встречного рефлекса. Седлов начал чувствовать себя раскованно, почти так, как во время и после брейн-ринга, до всего этого свалившегося мрака, который вот-вот разрушится. Осталось недолго.
Седлов вдруг увидел, что Машенька сидит одна, по-видимому, стесняясь подойти к общей компании. Когда, как не сейчас?
– Извините, что бросил самую прекрасную девушку вечера, – начал Седлов без разведки, подойдя к Марии Федоровне, – давайте выпьем за Вашу красоту и пойдем к остальным!
– Давайте. А Вы же, вроде, вино пили? – Маша увидела, как Седлов, налив ей вина, уверенно потянулся за коньяком.
– Поменял концепцию, Мария Федоровна, очень хочу доказать Токарь, что я – настоящий мужик! – и подмигнул.
– Да Вам и не надо доказывать, – Маша улыбнулась.
– Это высшая оценка, – подхватил Седлов, – других и не надо. За Вашу красоту и проницательность! – Маша сделала скромный глоточек, Седлов махнул рюмку и повел Машу к общей компании.
– Коллеги, как же вы так нашу прекрасную Марию Федоровну бросили? – смело присоединил к компании их пару Седлов.
– Так это не мы, а Вы обязанностей своих не выполняете, – парировала Токарь.
– Хорошо, признаю вину, давайте выпьем за наших прекрасных женщин, чтобы они никогда не оставались одни!
– О, Егор Петрович, ты прямо раздухарился, скоро небось стихами заговоришь! – заметил Растегаев.
– Если попросите, почему бы и нет!
– Конечно, попросим! – Седлов увидел внимательный взгляд Креповой.
– Готов прямо сейчас начать! Мы за этой школьной суетой забываем о главном – о любви. Мне очень нравятся вот эти слова Маяковского: «Любить – это с простынь, бессонницей рваных/ Срываться, ревнуя к Копернику, / Его, а не мужа Марьи Иванны / Считая своим соперником!». Давайте за такую любовь, за наших женщин, ее достойных!
– Егор Петрович, повторяетесь уже с тостами, – было подпортила полет Токарь.
– Зато стихотворение какое красивое, как Вы их так запоминаете? – вернула полет Крепова.
– Работа такая, так же, как Вы формулы, в которых я ничего не понимаю, как и в физике Андрея Борисовича.
– Ее никто не понимает, даже я, – Растегаев снова рассмешил публику.
Под стихи Седлова и шутки Растегаева вечер полетел дальше. Седлову оставалось только дождаться очередной табачной паузы, чтобы окончательно освободиться.
Пилось легко, и представление о своей алкогольной робости в глазах Токарь «и К» он точно перевернул с таким же махом, с которым опрокидывал рюмку за рюмкой. Легко шутилось, – надо сказать, что Егор Петрович невольно сдвинул Растегаева с роли души компании, но последний и не был против. Между шутками Седлов не забывал о Машеньке, подпитывая ее восхищение, как ему виделось, мастерски играемой Седловым ролью импровизированного тамады.
Курить выходили уже несколько раз, но остаться вдвоем с Растегаевым было невозможно, так как Крепова, Вязников и даже Зегерс всегда были рядом. Но это никак не омрачало праздничное состояние Седлова. Первый, главный шаг, он сделал, а второй, подстраховочный, сделает вот-вот.
Коньяк закончился, появилась водка. Растегаев пить отказался, а вот Седлов с Вязниковым радостно пустились продолжать демонстрировать свой безграничный алкопотенциал. И все опять же было легко, весело. Бутылка была осушена уже ниже плечиков, Седлов все шутил и раздавал комплименты, танцевал не только с Машенькой, но даже с Токарь и Креповой, останавливал собирающихся покинуть этот чудесный праздник и то забывал, то вспоминал о Растегаеве.
И… в следующем кадре самосознания Егор Петрович или, точнее, то, что осталось от него после алкомарафона, проснулся около десяти утра у себя дома в одежде рядом с кроватью.
Через два дня после банкета, в понедельник, Седлов на ватных ногах пришел в школу, постоянно преодолевая желание вернуться домой. Несмотря на то что картина произошедшего была ему описана и не содержала публичного позора, он все равно не верил, что так легко отделался. Спасибо Растегаеву и Машеньке, которая и поведала ему о произошедшем.
А произошедшее было таким: после очередного перекура Седлов продолжал балагурить (естественно, этого понятия не было в девственном рассказе Машеньки), но вдруг неожиданно посерьезнел, встал и вышел. Это было замечено многими, в том числе Растегаевым, который попросил Марию Федоровну проследить за коллегой, приударявшим за ней весь вечер. Мол, теперь настала ее очередь ухаживать. Растегаев сказал это лично Маше, вне других ушей. И, надо сказать, Маша со своей ролью справилась блестяще, не без героизма и, что самое главное, скрыв происходящее от других глаз и в том числе – самых зорких глаз – тети Томы, хотя в последнем Седлов сомневался.
Машенька поймала Егора Петровича, когда он, уже одетый, стремительно спустился по лестнице и направился к выходу, так же решительно сдав ключ и, не прощаясь, вышел на улицу. Машенька выбежала за ним и начала убеждать Седлова, что ему надо вызвать такси и он не сможет сам добраться на общественном транспорте. Седлов с абсолютно отрешенным видом начал отказываться, точнее говоря, отказывалось то, что Седлов выпил и, возможно, покурил (хотя в действенность двух затяжек он, после давнего штудирования данной темы в интернете, верил слабо). Он начал отмахиваться от Машеньки, кричать «Не подходи!», потом вдруг резко побежал за школу со словами «Я с тобой разберусь!» (естественно, во время рассказа Маши Седлов прекрасно понимал, почему он побежал туда, куда вышвырнул содержимое поддона папоротника). Машенька побежала за ним. Не найдя врага, Седлов побежал обратно в школу, но стойкой учительнице географии каким-то образом удалось удержать его от рокового шага и даже вызвать такси.
Пока ехало такси, ей чудом удавалось контролировать безумно мечущееся тело Седлова, но, когда такси прибыло, стало еще сложнее: Седлов категорически отказывался ехать и кричал про какого-то Тайсона. Машенька решила ехать вместе с ним, так как таксист отказывался везти такого пассажира, и, когда им вдвоем (таксист, видимо, оказался сердобольным или не мог отказать хрупкой Машеньке) уже почти удалось всунуть Егора Петровича в салон, он вдруг вырвался, резко побежал в кусты школьного палисадника, споткнулся об ограждение (след этого остался на голени Седлова в виде значительной гематомы) и рухнул. Падение, по-видимому, как-то изменило формулу того, что в нем находилось, снизив градус безумия, чем и воспользовались учительница с шофером, наконец ограничив его метания пространством автомобиля.
Седлов почти всю дорогу проспал, но после их прибытия к дому (как Машенька узнала адрес – Седлов спрашивать не стал, но предполагал, что мог помочь Растегаев) еще почти час ушел на то, чтобы завести Седлова в квартиру: он то садился на асфальт и сидел с задумчивым видом, то шел не туда, то постоянно норовил прилечь на лестнице в подъезде и не хотел заходить в лифт. Наконец, доставленный в квартиру Егор Петрович рухнул рядом с кроватью и сразу заснул, позволив Машеньке за один вечер пролистать коллизии обратной стороны еще не изведанной семейной жизни, а также в разрезе увидеть алкодеформацию личности от учителя до пьяной обезьяны.
После очень деликатного рассказа Марии Федоровны, мысленно дополненного Седловым осознанием всей дикости случившегося, он робко спросил, видел ли его еще кто-то, например, курильщики или тетя Тома. Мария Федоровна ответила, что нет, именно в этот период никого не было. Но Седлов до конца не верил в такое везение.
Очевидно, что в план Седлова не входило сближение с Машенькой через алкобунт. Но назад, до восхождения на коньячную ступень, не отмотать; стыдливо игнорировать Машу после того как она спасла репутацию Седлова и, скорее всего, все его учительское будущее, было бы уж очень низко, да и против желания Седлова, поэтому он по принципу пригодности всех средств на войне и в романтике сказал, что просто обязан отблагодарить «свою спасительницу», пригласив Машеньку в ресторан и тут же получив согласие. Само событие было отложено на неделю, когда подкошенный организм Седлова сможет нормально функционировать.
При входе в школу Седлов больше всего боялся встречи с тетей Томой. Проходя мимо вахты и здороваясь, он с тоскливым внутренним напряжением ждал реакции, которая показала бы, что Машенька ошиблась и свидетели были, точнее, главный свидетель, которого достаточно, чтобы свидетелями стали все. Но никакой реакции и даже косого или более свойственного тете Томе прямого стреляющего взгляда не было – все прошло как обычно. Седлов выдохнул. Встреча с некоторыми коллегами по пути в кабинет также подтвердила Машенькину правоту – никто ничего не видел. Хотя Седлов и не верил в магнетические закономерности, все же подумал, что его пьяное инкогнито надо рассматривать как компенсацию за Цыбина. О последнем Седлов старался не думать и ждал прилива сил или отлива до сих пор бродящей по телу муторности, чтобы пойти к Растегаеву, но явно не сегодня.
А сегодня был день контрольной проверки журналов перед окончанием первой четверти. К назначенному времени группа учителей, объединенная предметами, поднималась к кабинету Креповой, и каждый по очереди принимал к исполнению выявленные вторым человеком в школе недочеты, в том числе касающиеся интенсивности заполнения электронных дневников. Этой встречи Седлов тоже боялся и не из-за недочетов и интенсивности, с чем у него всегда был относительный порядок, а потому, что Крепова была свидетелем преображения Седлова на корпоративе и всегда стремилась знать больше, чем другие. Но и здесь все прошло как обычно: выслушав замечания и взяв журнал с указывающими на них закладками (надо сказать, Крепова делала свою работу подчеркнуто тщательно), Седлов побрел в кабинет.
– Егор Петрович, подожди минуту! – снизу по лестнице поднимался Растегаев. Это был не тот момент, когда Седлов хотел говорить с Растегаевым, но он, естественно, остановился.
– Привет! Как здоровье-то?
– Здравствуйте, да… нормально.
– Ты хмурый что-то такой?
– Да просто… не пришел еще в себя.
– Понятное дело. Хотя молодой ведь, регенерация быстрая, уже должен быть в себе! Ну ты молодец, конечно, повеселил народ. Все в восторге были от тебя. Ушел, правда, как-то неожиданно. Встал и вышел. Я Машку послал за тобой. Она потом звонила, спрашивала адрес. Ты сам забыл что ли? – улыбнувшись, спросил Растегаев.
– Да… я… заснул.
– Мертвым сном?
– Не знаю, не помню, если честно. А… как Вы адрес узнали?
– Я попросил Юлю, у нее ведь записаны все, ключ взял и сходил.
– А—а… А Юлия Рудольфовна что сказала?
– Да ничего, ключ дала и все. А что?
– Ну… неудобно.
– Да ладно, Юля – свой человек, это же не Крепова. Она и не вникала.
– Понятно. Спасибо Вам.
– Да не за что, дело житейское. А о чем ты все хотел поговорить со мной? Подходил – отходил, а потом забыл, видимо? – улыбка не сходила с лица Растегаева.
– Я хотел… Да там несущественно.
– Ну ладно, будет существенно – заходи.
– Хорошо, спасибо.
Интеллигентски-неспортивная рука Седлова пожала крепкую народную руку Растегаева, и литератор поднялся к себе.
Приведя журнал в креповскую норму, Седлов, в целом, по итогам дня перешедший из отрицательного состояния к нейтральному, оделся, взял журнал, чтобы сдать по пути, открыл дверь – и почти лбом столкнулся с Цыбиным, который втолкнул его обратно в кабинет.
– Ты где был, му..ло?! Я тебя несколько дней ищу.
– Я.… дома…
– Ты помнишь, что учудил в пятницу?
– Да.
– Тебя за это убить надо!
– Я… – парализованный Седлов не знал, что говорить, но Цыбин ему и не дал.
– В общем, под дурью что ни сделаешь, так что на первый раз прощаю тебя. Хорошо, что я все подобрал вовремя. Но, Седло, еще раз вы..нешься, капец тебе – покалечат. Я в этот раз Тайсону не сказал, а сказал бы – п….ц тебе, ты бы сейчас таким здоровым здесь не сидел.
Седлов и так не чувствовал себя здоровым ни физически, ни психически, так как психическое сейчас упало в физическое. Также пока не явственно, но ползла, чтобы поглотить сознание, мысль, что он откровенно боится Цыбина и героический шаг в пятницу был не свойственным ему порывом. Поэтому сейчас Седлов просто молчал и тупо смотрел вниз и вбок, как ученик, которому классный руководитель делал последнее предупреждение.
– Ладно, иди, мне еще здесь надо кое-что сделать. Тебе пока полного доверия нет. Двигай.
Егор Петрович послушно вышел, подумав, что теперь уже все толкает его на разговор с Растегаевым, но – Цыбин в школе, – и это все вытеснялось банальным страхом.
Он сдал журнал и потащился домой.