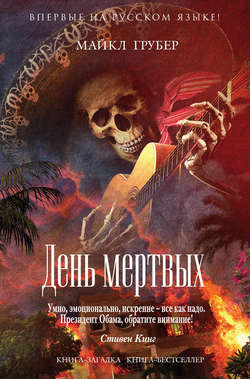Читать книгу День мертвых - Майкл Грубер - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
Оглавление– Хорошо выглядишь, – сказал коп, Мик Кэвэна, когда Стата села в его машину, зеленовато-голубой кабриолет «Кадиллак Эльдорадо» – не самое подходящее авто для Бостона, где бензин стоит под четыре бакса за галлон, но Мик привлекал ее в том числе и этой неполиткорректной расточительностью. Она же и в самом деле хорошо выглядела, поскольку сознательно потрудилась над своим обликом: на ней была кожаная байкерская куртка (со множеством карманов) поверх красной просвечивающей рубашки с крошечными пуговицами, черная обтягивающая юбка по самые икры и затейливо отделанные ковбойские сапоги с посеребренными носами. Также она надела ожерелье из серебра и нефрита, тяжелое и очень старое, которое унаследовала от матери, и пояс с серебряной пряжкой, тоже мамин. Завершали образ круглые очки в толстой красной пластмассовой оправе. Волосы, уложенные при помощи геля, придавали ей вид дружелюбной горгоны. Насколько она знала, с позиций стиля сочетание заучки, панка и ковбоя в одном лице было уникальным. Это отпугивало тех мужчин, которые ей не нравились, и привлекало тех, кому она симпатизировала. Мнение женщин ее не особенно заботило.
Машина тронулась, и Кэвэна спросил:
– Ну так чем бы ты хотела заняться? Во «Флит-центре» сегодня хорошая программа – если что, будешь болеть за мексиканских борцов, а я за ирландских. Развеемся. Или можно сходить в киношку. Весь город к нашим услугам.
– Нет, давай просто заглянем в «Монахэн», накачаемся с твоими дружками-копами, а потом поедем домой и пошалим.
Он даже отвлекся от дороги, чтобы взглянуть на нее. Для него каждый раз было загадкой, серьезно она говорит или нет. Оказалось, серьезно.
– Хорошо, возражений особых нет. Слушай, а сейчас всех студенток так легко завоевать?
– Точно не скажу. Просто я всегда стараюсь действовать оптимально: максимальный результат при минимальных затратах сил. Чем меньше издержек, тем лучше.
– В смысле?
– Ну, если по-простому, надо быстрее переходить к конечному продукту, в нашем случае – взаимному сексуальному удовлетворению и множеству оргазмов.
– А тебе не кажется, что это немножко, э-э-э, цинично?
– То есть не романтично. Нет, не кажется. Вот мои родители были романтичнее некуда. В Мичоакане у них завязался бурный роман, потом они бежали из Мексики, спасаясь от гангстеров. И всю жизнь сходили с ума друг по другу – стихи писали, переглядывались исподтишка. Оба пошли по литературной части. – Она помолчала, уставившись в окно. – И закончилось все нехорошо. А может, это просто реакция. У нас с братом было хреново с английским, зато отлично с математикой, и в итоге мы оба стали инженерами. Наверное, это неизбежно – все стесняются своих родителей. Если они у тебя хиппи, то становишься банкиром, и наоборот.
– Необязательно, – сказал Кэвэна. – У меня отец был копом. Я его считал величайшим человеком на земле.
– Тебе виднее. А чего мы вообще разговариваем о родителях?
Она снова выглянула из окна. Одна из проблем с Кэвэной заключалась в том, что любой разговор превращался в допрос, в перетряхивание прошлого. А ее интересовало не старое, а новое. Был час пик, и они еле ползли по мосту Масс-авеню в сторону Бостона.
– А почему бы тебе не включить сирену с мигалкой? Так мы до бара целый час будем ехать.
– Только если сейчас совершается преступление. Есть хоть одно на примете? Тогда придется общаться. Как работа?
– Ужасно. Полный тупик, никаких идей. А у тебя?
– Преступность еле дышит. Сидим весь день, лопаем пончики, отпускаем сексистские шуточки, поливаем грязью либералов и цветных.
Тут Стата едва не выложила, что у нее на уме, отчего она так раздражена, угрюма и сама на себя не похожа, но все-таки сдержалась. Пожалуй, с ее щекотливой просьбой лучше обратиться позже, после выпивки и уже упомянутых оргазмов. Она понимала, что большинство людей выманивает у других обещания перед сексом, но считала это недостойным.
В отношениях с женщинами Кэвэна был не новичок, но эта отличалась от всех прочих. Не сказать, что он жаловался: в сексе для нее не существовало ограничений – энергичная, едва ли не буйная и отнюдь не тихоня, восхитительная до безумия, просто-таки рог изобилия; мысль о том, что трахаешься с национальным символом, лишь усиливала эротические ощущения. Но потом он всегда чувствовал себя так, будто на нем только что поездили, как на лошадке: сделай то, сделай это, сожми здесь, погладь тут, быстрее, медленнее, немного выше, да, нашел, только сильней, сильней! После вечеров в компании Ла Мардер у него всегда оставались синяки. Не то чтобы Кэвэна возражал, но он был немного романтичней, чем она – и чем показывал сам. А еще он был копом и привык просчитывать людей; с ней ничего не выходило, и от этого ему становилось не по себе.
Теперь они в обнимку лежали на огромной кровати в спальне на втором этаже его домика в Дорчестер-Хайтс. Окно было приоткрыто, и вечерний воздух охлаждал их разгоряченную плоть.
– Кэвэна, можно тебя спросить кое о чем? Как копа?
– Валяй, – небрежно бросил Кэвэна, но в душе содрогнулся. Вряд ли это будет вопрос о том, как в полиции делают то-то и то-то; нет, это будет вопрос типа «кто-то в беде, как мне быть».
Так и оказалось.
– Это насчет моего папы, – сказала она. – Он… кажется, он пропал. Боже, как-то слишком драматично звучит, не думала даже. Просто он ведет себя немножко странно с тех пор, как умерла моя мать.
Кэвэна мог понять его, поскольку видел, что́ стало с его собственным отцом после смерти жены, с которой тот прожил сорок два года.
– Да, это всегда тяжело. Странно – это как?
– Ну, ничего определенного. По сути, он винит себя в ее гибели. Не буду вдаваться в подробности, только он нехорошо себя повел, а она не то чтобы покончила с собой, но вроде того. Скверная история. И вот на днях он позвонил мне и сказал, что отправляется в поездку, а куда именно – не уточнил. И с тех пор я не могу с ним связаться. Звонки переводятся на голосовую почту, на сообщения он не отвечает. Последний раз его телефон был активен в Миссисипи, и тут надо пояснить, что папа вряд ли стал бы отдыхать в тех краях. И вот я подумала, неплохо бы узнать, кому он звонил перед отъездом, – может, что-то прояснится насчет его планов.
– Ну и как бы ты хотела это узнать? – спросил Кэвэна, предвидя ответ.
– Ты мог бы просмотреть список его телефонных разговоров.
– Ага, мог бы. Если б речь шла об опасном преступнике, а у меня был бы судебный ордер.
– А если он в беде? Например, его похитили.
– У тебя есть какие-то доказательства? Твой отец водится с криминальными элементами? Или он сказочно богат?
– Нет, ни то, ни другое. Просто я знаю – что-то тут не так. Он всегда старается быть на связи и очень аккуратен в этом смысле. И никогда не срывается вот так вот просто. Он любит все планировать до последней мелочи. И, кстати, он водится с одним криминальным элементом – точнее, сомнительным типом.
– Правда? И с кем же?
– С человеком по имени Патрик Френсис Скелли. Он служил во Вьетнаме в спецназе, вместе с отцом. После войны он стал заниматься какими-то странными делами – «вопросами безопасности», только в кавычках. Он слегка с прибабахом, и лично я бы не удивилась, если б он оказался наркобароном или торговцем оружием. С него станется впутать папу во что-нибудь. Больше мне ничего в голову не приходит. Его тоже нет дома, на звонки не отвечает.
– Ну, они оба взрослые. И могут уехать куда хотят, никого не извещая.
– Да понимаю я все, Кэвэна! Я и так себя дурой чувствую, что беспокоюсь. Плюс, если верить отцу, Скелли как раз такой человек, которого хорошо иметь рядом в случае опасности. Только я все равно беспокоюсь. Можно что-нибудь сделать, оставаясь в рамках закона?
– Позвони ему сейчас.
– Я же сказала, я уже несколько дней ему звоню каждые два-три часа.
– Ну попробуй, ради меня. Позвони еще разок.
Стата выскользнула из постели, взяла сумку со стула, достала свой «Айфон» и набрала номер отца. На самом деле Кэвэна ничего не ожидал от этого звонка, но так он получал возможность полюбоваться, как его девушка расхаживает по комнате голышом, – а зрелище того стоило.
– Алло? – сказала она, затем последовал короткий разговор на испанском, из которого Кэвэна не понял ни слова – зато догадался, почему Стата кричит в трубку, хотя собеседник уже явно дал отбой.
Наконец она посмотрела на Кэвэну. Лицо ее заметно помрачнело.
– Какой-то пацан. Уверяет, что нашел телефон в мусорном баке в Охинаге. Кто его выбросил, он не видел.
– Что еще за Охинага?
– Уже ищу, – ответила она, копаясь в миниатюрном устройстве. – Это на границе, в штате Чиуауа. Господи, он в Мексику уехал!
– Иди-ка сюда, – поманил он. После недолгих уговоров она снова улеглась рядом с ним и позволила себя обнять.
– А что там с Мексикой?
– Я до конца не уверена. Это романтическая история. Моя мать была красоткой, к тому же высокообразованной, и за ней многие ухаживали. На нее положил глаз сын какого-то важного политикана, и ее отцу пришлось согласиться на брак, иначе… Так уж делали дела в той части Мексики и до сих пор делают, наверное. А тут объявился мой отец, увел маму у того богатея, и они вместе сбежали. Дед очень обиделся и не отвечал потом на мамины письма, а бабушке приходилось тайком выбираться из дома, чтобы поговорить с ней по телефону. Мы никогда не ездили в Мексику, мама больше не видела своих родных, и у меня создалось впечатление, что если отец опять туда сунется, то у него будут серьезные проблемы. Что ему там понадобилось? Я не понимаю.
Какое-то время Кэвэна изучал потолок, поглаживая подвернувшийся под руку участок теплого девичьего тела. Потом он заговорил:
– Ну ладно, есть у меня один знакомый, за ним как раз должок. Работает в телекоммуникационной фирме – пусть она останется безымянной. Иногда он проглядывает для меня списки телефонных переговоров. Я могу попросить его, чтобы проверил твоего папу и этого Скелли. Только серьезно, Стата, – никому ни слова, никогда. И если меня кто-то спросит, то я буду все отрицать; скажу, что соврал, чтобы затащить тебя в постель.
– Но ты не врешь.
– В жизни бы не стал.
– Да, и я же не расплачиваюсь сексом за помощь, правда?
– Я так не думаю, нет.
Она заворочалась, перекинула через него ногу и уселась в позе наездницы.
– Тогда не будешь ли ты так любезен оттрахать меня до беспамятства? Хочу забыть обо всей этой хрени и не вспоминать как можно дольше.
Скелли вернулся с пробежки не особенно потный, но весь в пыли. Мардер поинтересовался, всегда ли он бегает с оружием. Скелли ухмыльнулся, стягивая футболку.
– Так ты все-таки порылся в моем барахле, Мардер. Полагаю, ты забрался достаточно глубоко, чтобы понять, что глубже лезть не стоит.
Он снял с пояса нейлоновую борсетку и положил на стол. Послышался глухой лязг пистолета.
– А то что? – спросил Мардер. – Убьешь меня, что ли?
– Нет, а вот другие могут. В сфере безопасности большая конкуренция. Когда здесь говорят об устранении конкурентов, то это не всегда метафора. Не хочу тебя постоянно спасать.
– Да, мне бы тоже не хотелось так тебя утруждать, – сказал Мардер после паузы, но Скелли уже разделся и залез в крошечную душевую кабину. У Мардера не было желания заводить разговор о том, кто кого спас, поскольку им никак не удавалось согласовать свои воспоминания о тех событиях, и он предпочитал избегать этой темы, даже когда Скелли был трезв.
Когда тот вышел из душа, Мардер сказал:
– Кстати, о пистолетах, я тут думал о нашем состязании в Лунной Речке…
– Неужели? С чего бы это?
– Как я уже говорил, в твоей компании развязываются тайные узлы памяти…
– И еще потому, что ты тогда в первый и последний раз меня хоть в чем-то обставил. Я бы тебя догнал на четвертой колоде, если б Усатый все не остановил.
Мардер считал иначе, но промолчал.
Вообще-то, тот день он помнил довольно ясно. Усатым звался лейтенант, под командованием которого находилось подразделение «зеленых беретов» и их союзников-монтаньяров. Свое прозвище он получил за незаурядные усы, которые отрастил для того, как подозревал Мардер, чтобы в барах его не принимали за несовершеннолетнего. Среди солдат он слыл неплохим офицером – насколько офицер может быть неплохим – и приветствовал любые инициативы, способные укрепить боевой дух. Когда ему рассказали о состязании, он распорядился установить два ряда бамбуковых столбиков на расчищенном участке возле деревни. Между столбиками протянули веревки, а на веревках развесили на проволочных крючках по колоде игральных карт. Мардеру и Скелли предстояло из пистолетов прострелить с десяти метров значки мастей на всех числовых картах, а затем головы у всех картинок. Итого, получалось по 244 мишени на колоду. По правилам стрелок не имел права переходить к следующей карте, пока не поразил все значки (или головы) на текущей. Побеждал тот, кто закончит первым; впрочем, Скелли настоял, что для победы нужно оторваться от противника как минимум на четыре карты. Мардер опережал его на две или три на протяжении четырех колод.
Поглазеть на них собралась вся деревня – и солдаты, и местные. Солдаты потягивали пиво «33», хмонги попивали через соломинку свою ужасную рисовую бражку, рнум. По-тропически быстро стемнело – как будто выключили свет, и лейтенант Усатый прервал состязания, объявив победителем Мардера; Скелли стал требовать, чтобы все продолжилось при факелах, но лейтенант заплетающимся языком возразил, что так они очень кстати подсветят все население базы для вьетконговцев, которые и без того уже стекаются на шум стрельбы, надо думать. Другие сержанты хохотали как сумасшедшие, но Скелли им пришлось сгрести в охапку и утащить прочь. Вьетконговцы и в самом деле подтянулись, и по базе некоторое время лупили ракетами, затем состоялась славная небольшая перестрелка, но так обычно и проходили вечера в Лунной Речке.
Мардер думал, что теперь он в полном дерьме и Скелли насядет на него по-настоящему, но ошибся. Если уж на то пошло, сержант вел себя почти дружелюбно, никаких больше воплей и подколок, ну или в разы меньше. Так или иначе, но подготовка завершилась. Теперь рядовым ВВС пришлось отрабатывать свою надбавку за опасные условия, выбираясь на вертолетах в различные области Лаоса и Вьетнама и закапывая в землю ретрансляторы, чтобы в итоге покрыть всю широкую дельту маршрутов снабжения, из которых и состояла Тропа. Длинные антенны ретрансляторов маскировались под лианы при помощи тканевых чехлов, которые солдаты прозвали «свитерами», и без затей развешивались на ближайших деревьях. После этого они заложили несколько «мопсов» непосредственно на Тропе, чтобы оценить, как работает система.
Разобравшись с этим и вернувшись в деревню, техники удостоверились, что их машины функционируют и передают данные и что с «мопсов» поступает сигнал. И действительно, «мопсы» связывались с ретрансляторами, а ретрансляторы – с самолетами в небе. Теперь оставалось только разместить все эти маленькие шары плотной сетью вдоль Тропы Хо Ши Мина по всей ее протяженности – или хотя бы той части, которая приходилась на их район. Это была самая сложная часть задания, и никто из техников не задумывался о ней в период подготовки, но теперь настало время. Мардер был искренне впечатлен сноровкой Скелли и его товарищей-спецназовцев, мастерством вертолетчиков из 21-й спецэскадрильи и огромными усилиями, прилагаемыми для успеха их миссии. ВВС устраивали отвлекающие налеты; в небе постоянно дежурили тяжеловооруженные «спектры»; каждая вылазка сопровождалась шквалом огня, взрывами и треском «миниганов» – таким образом вокруг их рабочих зон создавалась зона отчуждения.
Несколько раз их обстреливали с земли – или так запомнилось Мардеру. У него в памяти сохранился образ пылающих зеленых шаров, взмывавших над темными джунглями и проплывавших мимо, и лязг металла по алюминиевой обшивке вертолетов. Страха он не помнил, но это могло быть и спасительным забвением.
А вот что он помнил с поразительной ясностью, так это разговор, что состоялся у них со Скелли вечером перед первым вылетом на задание. Сержант заглянул в дом, в котором квартировали рядовые ВВС. У Мардера не сохранилось в памяти, где в тот вечер пропадали Хейден и Ласкалья, но осталось впечатление, что он и сержант были одни. Скелли бросил на пол вещмешок.
– Твоя форма на завтра. Вроде бы у тебя большой размер.
Мардер вытряхнул содержимое мешка на койку. Светло-зеленая рубашка и нейлоновые брюки того же цвета, мягкая шляпа с полями, пара сандалий из каучука и «разгрузка»[20] непривычного фасона.
– Что это? – спросил Мардер, взяв рубашку.
– Это форма южнокорейских мусорщиков.
– А разве нам можно носить такое?
– Ну, по правилам нам запрещено одеваться в гражданское и в форму противника, а это ни то и ни другое. В ней прохладно, и она не бросается в глаза, особенно если запачкать. Обувь вьетнамская, чарли носят такую же – если вдруг кому захочется пойти по следам. У нас ребята разгуливали в этом под самым носом у патрулей. Даже если те что-то заподозрят, то мы выиграем пару секунд, а иногда большего и не надо.
Мардер подождал, пока Скелли уйдет, но тот уходить и не думал.
Вместо этого он плюхнулся на койку Ласкальи и закурил. Странное зрелище: с самого прибытия Мардер ни разу, насколько мог припомнить, не видел сержанта иначе как на ногах, и обычно тот куда-нибудь спешил.
– Ну что, Мардер, где ты так выучился стрелять из пистолета? Не в сраных же ВВС.
– Нет. Я стреляю с семи или восьми лет. У моего папы был «кольт-вудсмен» двадцать второго калибра, и еще он привез с Тихого океана сорок пятый. Обычно мы практиковались с «кольтом» в подвале ветеранского центра неподалеку от дома. Наверное, это было ужас как незаконно, но в те времена никто особо не возражал. Еще отец знал одного мужика на Кони-Айленде, хозяина старой такой спортивной арены, где проводились мотогонки и бои. Так вот, прямо за ней он оборудовал настоящее стрельбище, и пару раз в неделю мы ездили туда на метро, чтобы пострелять из сорок пятого. У хозяина было что-то около тонны списанных патронов, и он разрешал нам палить сколько душе угодно; взамен папа печатал для него афиши и прочую лабуду – то есть для арены его. Пять лет назад он умер, так что мы перестали тренироваться.
– Отец твой умер?
– Да нет, мужик этот. Хозяин. Его звали О’Фаррелл. Так что потом я уже просто стрелял из «кольта».
Повисла тишина. Скелли молча смотрел на дым от сигареты.
– А ты где научился стрелять? – спросил Мардер, чтобы поддержать беседу. – Тоже с отцом стрелял?
– Нет, единственное, чему меня научил отец, – это врать. Похоже, он предвидел эту войну. И если бы в его присутствии мне попала в руки пушка, то я б его застрелил, скорее всего.
– Не ладили, да?
– Можно сказать и так. А чем занимается твой отец?
Мардер все ему выложил, с удовольствием и легкостью рассказывая об отце, а потом, вдохновленный интересом Скелли – как будто бы искренним, – заговорил о матери, о прочих родных и о своем районе. И лишь позже понял, что сержант интересовался им не из банальной вежливости: интерес был почти антропологического свойства.
Нормальная жизнь в городской американской семье, привычная Мардеру, казалась Скелли такой же чуждой, как обычаи хмонгов, среди которых они находились сейчас, – а то и более чуждой, потому что Скелли, как выяснилось, знал о хмонгах довольно много.
Спустя какое-то время Мардеру стало немного не по себе, словно он попал в комнатушку для допросов, в руки опытного следователя, и скромные обстоятельства его жизни представляют на самом деле огромную ценность. Так что он полюбопытствовал насчет биографии самого Скелли, но тот ответил вопросом:
– А ты читал когда-нибудь книжку «Над пропастью во ржи»?
– Ну вообще-то да. Купил на Четвертой авеню. Мы с мамой там часто бывали. В начале авеню много букинистических магазинчиков, так что мы ехали на метро из самого Бруклина. С тех пор как мне стукнуло шесть и до тех, когда… наверно, когда я уже стал слишком большим, чтобы ездить с мамой за покупками. Эту книжку я купил из-за названия и красной обложки.
– Ну и как тебе?
– Не знаю. Я так и не понял, чего маялся этот парень. Он ведь в частную школу ходил – значит, был при деньгах, ну или его родители были. Так на что тут жаловаться-то? Но он всю книгу ноет, какие все вокруг притворщики и как все на свете не устраивает замечательного, как его там, Кэнфилда…
– Колфилда. Холдена Колфилда.
– Точно. А почему ты спрашиваешь?
– Потому что я Холден Колфилд, только выросший. – Расхохотавшись, он покачал головой. – Знаешь, Мардер, не исключено, что мы единственные люди в северном Лаосе, способные обсуждать «Над пропастью во ржи». Пожалуй, не дам тебе убиться.
– Спасибо, сержант. Так тебя выперли из частной школы?
– Ага. Я думал, все они притворщики. А тебе никогда не казалось, что твои родители – дерьмо?
– Нет, я всегда считал их порядочными и честными людьми. Я же сказал, отец у меня печатник и член профсоюза. Он гордится своей работой; верит, что стоит на защите печатного слова, а это хребет цивилизации. И всегда называет печатников аристократами рабочего движения, авангардом. А мама… через дорогу жил один нищий старикан, и часто бывало, что вот я возвращаюсь из школы, а она кормит его супом. В продуктовом, да и в других местах ко мне подходили женщины и говорили: «Мама у тебя святая». А у меня-то и в мыслях такого не было. И еще она любит книги; сколько себя помню, всегда читала для меня и не давала монашкам заморочить мне голову. Когда мы втроем шли по нашему району, я всегда улыбался, так мне хорошо было с ними. Так что нет. Может, армия – дерьмо, мир – дерьмо, только не Мардеры. А за что тебя выперли?
– Я напился и навалил большую кучу на школьную печать. Была такая мраморная мозаика в Байрон-холле – это главное здание в Частной школе имени Вона. Тогда отец устроил меня в школу Братьев христианских[21], куда когда-то ходил и сам. Как он выразился, хотел проверить – может, у них получится выбить из меня дурь.
Скелли закурил еще одну сигарету и умолк, глядя, как дым поднимается к тростниковой крыше и змейкой обвивается вокруг тонких лучей света, проникавших сквозь прорехи.
– Получилось?
– О, били меня исправно, этого не отнять. Уж их-то в притворстве не обвинишь. Когда требовалось выпороть мальчишек, они были сама искренность. Я считал их психами и забил на всю эту божественную хренотень – то есть не молился и даже не пытался делать вид, что верю в нее. За это меня и били, а я все равно не подчинялся. Месяц продержался, а потом взял и свалил. Залез в учительскую и вычистил всю наличку, которую ученикам выдавали на карманные расходы, – баксов двести, наверное. И сорвался на юг. Доехал до Флориды, устроился в Орландо в один ресторанчик, ночевал на вписке с такими же беглыми. Хорошее было время, да, пока копы меня не загребли и не отправили обратно к папаше.
– Он, наверное, был в бешенстве.
– Да не особо. Скорее поставил на мне крест. И разбираться со мной поручил своей секретарше, миссис Тейтем. Вообще, из всех взрослых только она принимала меня всерьез. Ну то есть как человека с собственным мнением.
– А как же твоя мама?
– А, милашка Кларисса? После того как я испортил ей фигуру, милашка Кларисса смылась и вышла за аргентинского спортсмена. На Рождество и день рождения присылает мне чек и открытку. Короче, миссис Тейтем сработала четко – спросила, где бы я хотел учиться, если есть вообще такое желание. Я сказал, что в обычной средней школе. Она устроила меня в Хэнкокскую общеобразовательную, и там мне понравилось. Взять хотя бы девочек: раньше у меня не было возможности видеть их каждый день. И ребят тоже – обычных засранцев, а не богатых. Богатые – это совсем другая категория засранцев, и мне гораздо сложнее их переваривать, потому что отец у меня классический богатый засранец. Ну и в Хэнкоке была вся эта фигня, которую показывают в фильмах про обычные школы. Единственное, что всех волнует, – это кто крутой, а кто нет, и как бы потрахаться, поржать и словить кайф, а самой учебой заниматься как можно меньше. И никто меня не бил и не говорил, что я позор для школы, потому что в таких школах, если тебя не арестовывают за убийство, то ты уже образцовый ученик.
Когда я перешел в выпускной класс, миссис Тейтем спросила, хочу ли я поступить в колледж. И я понял, что не хочу – никакого желания торчать за партой, ходить в библиотеку и строчить всякую херню. И вот гулял я как-то раз с корешами по центру, заметил призывной пункт и решил зайти – чисто из любопытства. А там стоял мастер-сержант – здоровенный негр с кучей наградных лент, ну и что тут скажешь? Чуть он меня заметил, сразу просек, кто я такой и для чего создан. Конечно, он делал свою работу, выполнял норму по призыву, но и вправду ведь хотел видеть меня в армии. А раньше я никогда никому не был нужен. Я был для всех как заноза в заднице, и даже если в армии требовалось просто подохнуть, то меня это устраивало. Мне исполнилось всего семнадцать, так что заявление шло за подписью отца. Миссис Т. не стала даже к нему с этим лезть. Просто сделала факсимиле – и вот я оказался там, где должен был либо умереть, либо убивать. Ничто другое меня тогда не интересовало.
Мардер очень хорошо помнил эту последнюю фразу. Остальное могло прозвучать и позже, не в первый вечер. А таких вечеров было много. Сидя в пикапе и предаваясь воспоминаниям, наблюдая за солнцем, встающим над горными вершинами, чтобы нести миру тепло, Мардер подумал, какими же молодыми, изумительно молодыми они были тогда. Ему самому едва стукнуло восемнадцать, сержант его обогнал года на два-три. Скелли оказался первым сверстником Мардера, с которым он мог обсуждать книги, который верил, так же как и он, что книги способны влиять на жизнь человека. Это будоражило, едва ли не пугало, и это почти так же врезалось в память, как стройные, умелые тайские девушки.
Они въехали в Мексику через Пресидио, погранпереход в горах Чинати. За рулем на этот раз был Мардер. Передавая паспорта мексиканскому пограничнику, он невольно отметил, что документы Скелли оформлены на чужое имя. По двухполосному шоссе друзья двинулись на юг, в Охинагу – типичный мексиканский пограничный городок, в котором кипела жизнь и который был похож на американские, но только внешне. Там они заправились и перекусили в близлежащей taqueria[22].
– Ну вот мы и в Мексике, – объявил Скелли.
– Как догадался?
– Ну знаешь – парни в серапе, сеньориты со сверкающими глазами. Я это к чему: ты куда-то конкретно собрался?
– Да, я хочу пожить у себя в доме. Это в Плайя-Диаманте, на побережье Тихого. В Мичоакане.
– Оттуда родом Чоле.
– Точно. Я планирую поместить ее прах в фамильный склеп.
– И?..
– И я ненавижу эти фастфудовские тортильи из пшеничной муки. Поскорей бы найти домашние, из куку-рузной.
– Опять тумана напускаешь, Мардер. Тебе не идет. Это я тут человек-загадка. А ты почтенный семьянин с обычной работой и любящими родными-близкими. Стате давно звонил?
– Не так давно.
– Сомневаюсь. У тебя телефон отключен с самой Паскагулы. И хоть бы раз пискнул. Ни сообщений, ни мейлов, ни звонков.
– Не вполне понимаю, с чего это ты озаботился состоянием моего телефона.
Скелли пожал плечами.
– Как хочешь, шеф. Только если ты не намерен использовать мобильник, то я бы советовал его выкинуть. Во включенном состоянии их можно отслеживать, а поскольку ты ведешь себя как человек, которому слежка ни к чему, то это был бы разумный поступок. А я говорю как человек, который кое-что смыслит в заметании следов.
Скелли допил пиво и вышел. Мардер достал «Айфон» и какое-то время на него смотрел. Его кольнуло чувство сожаления. Дурацкий гаджет сросся с ним, практически стал частью его мозга, новым органом. Да, мозга: он будет хранить память о семье и друзьях своего хозяина, о его пристрастиях и причудах еще долго после того, как Мардера не станет. При этой мысли вид экрана, когда-то такого родного, стал ему невыносим. На выходе он завернул телефон в бумажную салфетку и выбросил в мусорный бак.
Они продолжили путь на юго-запад по 16-й магистрали – мимо немногочисленных городков, разбросанных по иссушенным просторам штата Чиуауа, по сиреневым холмам, обсиженным ящерицами, над редкими травянисто-зелеными речками. Говорили нечасто, после чего надолго замолкали, как бывает с людьми, которые хорошо друг друга знают, но ведут слишком разную жизнь. Скелли курил, иногда – марихуану, и Мардер заметил, что он, должно быть, первый человек за всю историю, который додумался ввозить траву в Мексиканскую Республику. Скелли ответил, что совершенству нет предела.
Мардер нашел, что Мексика не так уж сильно изменилась с тех пор, как он проезжал тем же маршрутом тридцать с лишним лет назад. Города, лежавшие у них на пути, немного заметнее американизировались, на улицах прибавилось автомобилей, общественные территории выглядели ухоженнее, чем прежде, но вся эта внешняя модернизация казалась ему маскировочной сеткой, наброшенной на истинную Мексику, которая нисколько не изменилась, которую ничто не могло изменить – и не изменило.
– Ты читал «Пернатого змея»? – поинтересовался он у Скелли где-то к западу от Дуранго.
– Лоуренса? Нет, не припомню. А там есть похабные сцены?[23]
– Нет, она про Мексику, про Мичоакан – только не про побережье, куда мы едем, а про северные районы, возле озер.
– Хорошая?
– Ну, устарела слегка – много этой расистской чуши, которая была популярна в ту эпоху. Он считал, что на западе люди растеряли мужество из-за христианства, зато мексиканцы знаются с темными плодородными силами, поэтому они такие грязные, ленивые и порочные. Чоле эту книжку возненавидела. Всю эту писанину о тоске по Кетцалькоатлю и возвращении могущественных темных богов. Там рассказывается про англичанку, которая презирает представителей собственной культуры и поддается чарам мексиканского мачо. Множество пышных пассажей про мужское и женское начало и про то, что материализм и реформы отравили Мексику и что худший яд – это христианство. Чоле говорила, что это типичный образец колониального мышления гринго: мол, для людей с темной кожей естественно быть бедными, тупыми и похожими на зверей, потому что у них есть нечто, чего белый человек давно лишился, – животная сила. Они погружены в природу и полны изначальной жизненной силы, их души открыты древним богам Мексики.
– А это не так?
– А ты как считаешь?
– По-моему, все логично. И будет еще логичней, когда я докурю этот толстый косяк. Так вот почему ты туда едешь – не только из-за урны, ты еще хочешь наладить контакт с древними богами, прикоснуться к жизненной силе?
– Нет, и чтобы объяснить, почему это все чепуха, мне придется заговорить о моей религии, и тогда мы в три тысячи четыреста двадцать седьмой раз поцапаемся на эту тему. Но помнится, ты когда-то отпускал похожие замечания по поводу хмонгов.
– Нет больше хмонгов, – сказал Скелли. – Закончилось все.
Он сделал глубокую затяжку и закрыл глаза. Это была одна из многочисленных тем, которые Скелли обсуждать не любил.
Небо за окном темнело и ближе к горизонту наливалось румянцем, готовясь к очередному роскошному закату в пустыне. Желтоватая земля насыщалась в ответ лиловым, а разрозненные кусты юкки уже приступили к ежевечерней метаморфозе, обращающей их в тени мифологических чудищ. Мардер не принимал теорий Лоуренса полностью, но осознавал, что в его собственной культуре есть нечто болезненное и что даже если Мексика тоже больна и стоит на пороге смерти, в самой своей болезни она несет возможность исцеления.
По крайней мере, он надеялся на это теперь, когда близился неведомый час его собственной смерти. Мардер поймал себя на том, что представляет мистера Тень мексиканцем с непроницаемым лицом и равнодушными, жестокими черными глазами – возможно, то был один из богов Лоуренса, безразличный к смерти, но исполненный некой безрассудной, необузданной, яростной жизни. На мистере Тени было широкое сомбреро в духе мексиканских революционеров и патронташи, крест-накрест накинутые на грудь, а за пояс штанов он заткнул большой револьвер; пока что он пьет и думает думы у себя в кантине[24], но вскоре встанет из-за стола и сделает то, что задумал. Мардер про себя улыбнулся мистеру Тени, также известному как сэр Тенинг и дон Теньядо, и ему почудилось, что тот улыбнулся в ответ. Они наконец достигли взаимопонимания.
Он включил радио и мучил кнопку поиска, пока не наткнулся на музыку, которая ему понравилась – мексиканский аналог ретроволны, где крутили классическую ranchera, а не назойливую cumbia[25], мексиканские разновидности рока, а то и хуже – убогие вариации на тему рэпа.
Он взглянул на Скелли. Тот сидел без движения с потухшим косяком в руке, на лице застыла глупая улыбка. Вообще-то, Скелли больше нравился Мардеру, когда был под легким кайфом, когда на месте мужчины появлялся печальный мальчик с загубленным детством. В такие моменты его лицо менялось, разглаживались суровые морщины, оставленные войной и тем, что хуже всяких войн.
Какое-то время они молча слушали; солнце село, окрасив все во фламинговые тона; дорога пошла вверх и превратилась в серпантин – начинались предгорья Западной Сьерра-Мадре.
– О чем он поет? – спросил Скелли.
– Я думал, ты знаешь испанский – не разбираешь слов, что ли?
– Да я и в английских-то песнях слов не разбираю. Мой испанский заточен исключительно под заколачивание бабла, еду и трах.
– Ну хорошо, это знаменитая песня Куко Санчеса. Называется «Ложе из камня». Там поется: «Пусть мое ложе и изголовье будут из камня. Если женщина меня любит, то пусть любит всем сердцем. Я пошел в суд и спросил, преступление ли любить тебя. Суд приговорил меня к смерти. Когда меня поведут на казнь, пусть всадят пять пуль, и я буду рядом с тобой, чтобы умереть на твоих руках. Дайте мне серапе вместо гроба, патронташи вместо креста, выпустите на прощанье тысячу пуль в мой надгробный камень». И припев…
– Да-да, – перебил Скелли. – Эту часть я уловил. «Ай-ай-ай, любовь моя, почему ты меня не любишь?» Отличная песня. Такие ребята мне по душе.
Rancheras звучали одна за другой, и автомобиль забирался все выше в горный мрак. У Мардера стало светлее на душе. Он словно бы свысока, на спутниковой GPS-карте, увидел точку, ползущую по мексиканским горам, и впервые за много лет подумал: «Я там, где должен быть; если умру прямо сейчас, то не беда». В этом состоянии он пребывал, казалось, довольно долго, потом время возобновило свой бег. Жизнь продолжалась.
20
Жилет с множеством карманов, элемент военной экипировки. Полное название – разгрузочный, или тактический, жилет.
21
Под упрощенным названием «Братья христианские» известны сразу две католические организации – Конгрегация Братьев христианских и Братья христианских школ. Обе располагают широкой сетью образовательных учреждений во многих странах мира, в том числе в США.
22
Закусочная, где подают тако – популярное мексиканское блюдо. Аналоги – буррито, энчилада, шаурма.
23
Английский писатель Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) наиболее известен романом «Любовник леди Чаттерлей», получившим скандальную славу из-за обилия откровенных эротических сцен.
24
В Мексике – бар, где подают алкогольные напитки и легкие закуски.
25
Ранчера – песенный жанр мексиканской народной музыки, сформировавшийся в начале XX в., своеобразный аналог кантри. Кумбия – преимущественно танцевальный жанр, зародившийся в Колумбии под влиянием африканских музыкальных традиций.