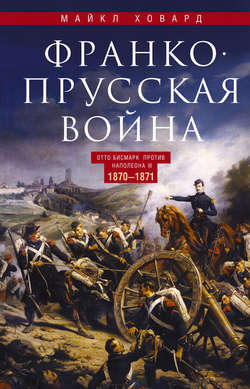Читать книгу Франко-прусская война. Отто Бисмарк против Наполеона III. 1870—1871 - Майкл Ховард - Страница 3
Глава 1
Противники
Нереформированные армии
ОглавлениеВооруженные силы характеризуются не только вооружениями, но и социальными условиями, их породившими, и выполняемыми ими политическими задачами. В течение 40 лет, последовавших за Наполеоновскими войнами 1799–1815 годов, европейские державы формировали и обучали свои вооруженные силы как минимум в равной мере как для борьбы с внутренним, так и с внешним врагом. Главной задачей, как им внушалось, было подавление революционных повстанцев, внутренних или иноземных. Первая кампания королевской французской армии проводилась с целью возврата испанцев в ряды преданных союзников Бурбонов. Австрийская армия исполняла скорее полицейские функции, задачей которых было удержать в повиновении входившие в Габсбургскую империю области Италии, и приоритеты сменились лишь в 1848–1849 годах, когда понадобилось подавлять восстания в Будапеште, Праге, да и в самой Вене. Первой значительной операцией армий российской и прусской монархий после 1815 года стало подавление восстаний в Польше в 1831 году[5]. Следующими вступили в бой пруссаки – не считая непродолжительной и бесславной кампании против Дании в 1848 году. Для проведения подобных кампаний не было нужды поддерживать силы по численности и вооруженности соотносимых с той, которой требовали Наполеоновские войны. Существенным отличием таких войск было то, что они оставались лояльными династии, которой служили. Армии образца XVIII столетия, сравнительно малочисленные силы старослужащих регулярных войск с рекрутированным исключительно из представителей аристократии офицерским корпусом, идеально подходили для этой цели: они были политически благонадежны и по меркам войн XVIII столетия вполне пригодны и для боевого применения. Но баланс уже был нарушен. Французская революция ввела, а Наполеон I заставил дозреть вид боевых действий, который с его неограниченными притязаниями на национальные ресурсы призвал к иной форме военной организации. Наполеоновская война, La Grande Guerre, была войной масс: массы, хлынувшие в войска благодаря всеобщей воинской повинности, вооруженные и обмундированные только благодаря широкомасштабному вмешательству государства в промышленность, добывавшие себе провиант главным образом путем реквизиций, обусловили необходимость введения новых требований к маневренности и управлению. Именно опираясь на совершенство этого нового механизма, Наполеон I и поработил Европу, а сокрушен был лишь тогда, когда его противники повернули его же оружие против него самого (после того, как был разгромлен в 1812 году в России. – Ред.). Европейские державы вынули из ножен шпаги нехотя, чтобы тут же вложить их обратно, но непостижимо то, что об этом, вероятно, успели позабыть. Если страхам перемен, доминировавшим после 1814–1815 годов и парализовавшим разум государственных мужей Европы, и суждено было рассеяться и началось бы осуществление грандиозных планов, о которых грезили их собственные народы, грядущие конфликты никак нельзя было бы разрешить средствами «кабинетных войн» и оружием XVIII столетия.
Основная проблема, с которой столкнулись правительства стран Европы в XIX веке, состояла в том, каким образом создать армии, которые были бы не только политически благонадежными, но и эффективными в военном отношении. Эти две категории выглядели несовместимыми. Первая ратовала за армии на основе старослужащих кадровых военных, вторая – за обязательную для всех граждан всеобщую военную подготовку. Армия, рекрутированная из рабочей силы страны, с политической точки зрения являлась самым ненадежным инструментом. В такую армию могли затесаться революционные элементы, такая армия неизбежно отражала бы внутри- и внешнеполитические разногласия, и ее истинная боевая мощь оказалась бы иллюзорной, допусти она политическую слабину. Пока опасность изнутри была серьезнее внешней, правительства предпочитали иметь относительно малочисленные и политически благонадежные армии, на которые они могли опереться в случае необходимости. Аристократия и класс землевладельцев, за исключением постреволюционных государств, таких как Франция и Испания, сохраняли монополию на офицерские чины. Средний класс, гражданский по определению и набирающий экономическую и политическую силу, был настроен отнюдь не против системы, которая не слишком глубоко запускала руку в их кошельки и не спешила призвать на военную службу их отпрысков. Повсюду армия не пользовалась особой популярностью и пребывала в изоляции, и кое-кто из европейских мыслителей, из тех, кто исповедовал материализм и не нуждался в средствах, усматривал в этом повод для сожаления. Даже воссозданная и наказанная французская монархия восстановила свою военную машину на основе максимально далекой от наполеоновской. И, ко всеобщему изумлению, государство, сохранившее неприкосновенным почти весь аппарат революционной военной организации, стало образцом для всех консервативных режимов – речь идет прежде всего о прусской монархии Гогенцоллернов.
Прусская армия в XVIII веке формировалась сменявшими друг друга на троне монархами, которые были и военными экспертами, и политическими деспотами. Офицеры в ней рекрутировались из обедневшего дворянства, следовавшего традициям, подчинявшегося закону и исходившего из экономической необходимости. Эти люди были готовы служить короне как в гражданской, так и в военной ипостаси, и, хотя теоретически эта готовность основывалась на всеобщей воинской повинности, армия состояла из старослужащих наемных солдат и призванных на военную службу крестьян, со свирепой дисциплиной и изнурительной военной подготовкой до тех пор, пока скорость их передвижения и интенсивность их огня не превращала их в непревзойденных мастеров войны на европейских полях сражений, способных обеспечить Пруссии место первой среди равных в окружении более богатых и плотнее населенных стран-соседей. Лишь в 1806 году, когда армия Пруссии рухнула под натиском Наполеона, стало очевидным, что система эта никуда не годится: то, что армия, как персональный инструмент короны, окончательно откололась от остальной части общества и потерпела сокрушительное поражение, было почти повсеместно воспринято с безразличием. Военная комиссия по реорганизации, учрежденная в июле 1807 года, поэтому и не пыталась восстановить старую армию в духе Фридриха II. Вместо этого под руководством Герхарда фон Шарнхорста были разработаны принципы, на которых могла быть построена новая армия. Офицерские школы были реформированы, их двери теперь распахнулись и для представителей среднего класса, и для дворян. Принцип всеобщей воинской повинности был подтвержден, свирепый дисциплинарный устав был упразднен, и еще не пришедшее в себя окончательно армейское командование объединили под началом одного-единственного лица – военного министра. Шарнхорст грезил о том, «чтобы возродить и умножить армейский дух, теснее сплотить армию и державу». В 1813 году был создан ландвер – гражданское ополчение, отдельно вооружаемое и отдельно управляемое, – который сражался бок о бок с регулярной армией ради сокрушения Наполеона в ходе освободительной войны. На пике той войны и консерваторы и либералы, юнкеры и буржуа, позабыв о своих политических расхождениях, объединились под эгидой создания новой армии Пруссии.
Как только война закончилась, король Пруссии Фридрих Вильгельм III стал сожалеть о сделанных уступках, и реформаторов разогнали, хотя они успели внести свой вклад в закон об обороне от 3 сентября 1814 года и в закон о ландвере от 21 ноября 1815 года. В соответствии с первым каждый пруссак по рождению по достижении 20-летнего возраста был «обязан защищать Отечество». Армия должна была стать, как это выразилось во фразе, подводившей итог достижениям реформаторов, «главной военной школой всей страны». Прусский призывник служил в течение трех лет в армии, два года в запасе и затем до 40 лет в ландсвере, включавшем не только завершивших пятилетнюю
службу в регулярной армии, но и вообще всех пригодных к воинской службе мужчин, которые не ушли в армию в рамках ежегодного призыва. Ландвер имел собственное территориальное деление, и, по аналогии с британским ополчением, офицеры ландвера рекрутировались из местного контингента. Такая система обязательного прохождения службы, сначала в действующей армии, затем в запасе и, наконец, в составе территориальных войск, к XX веку фактически стала повсеместной в западных державах. Она проистекала из двух чисто местных соображений: потребности объединить постоянную армию, достаточно малочисленную с тем, чтобы не обременять ограниченный бюджет содержанием достаточно многочисленной армии, которая позволила бы Пруссии фигурировать в Европе в статусе великой державы, и стремления реформаторов увековечить дух Шарнхорста и сплавить воедино армию и страну.
В последнем аспекте хвастаться им было особенно нечем. После 1819 года армия вернулась к прежнему, фридриховскому состоянию. Офицерский корпус вновь закрылся для представителей буржуазии. Различие между регулярной армией и ландвером углубилось. Экономный подход к бюджетным расходам вкупе с политической осмотрительностью позволял поддерживать на низком уровне ежегодные расходы и численность регулярной армии. В период 1815–1859 годов численность ее редко переступала границу в 200 000 человек. В 1830–1831 годах, когда Польское восстание угрожало восточным границам Пруссии, а революции в Бельгии и Франции – западным, Пруссия оказалась в военном отношении бессильной. Только призвав в основном неподготовленный контингент ландвера, удалось мобилизовать достаточное количество людей для достижения необходимой численности. Подобная ситуация была оскорбительна для регулярной армии и раздражала гражданских лиц, из которых рекрутировался ландвер, что негативно сказывалось на боеспособности войск. Укомплектованный большей частью плохо обученными офицерами ландвер не мог соперничать с регулярной армией, и в ходе серьезных волнений в стране в 1848 году зарекомендовал себя несостоятельным. Когда в июне 1859 года Пруссия провела мобилизацию резервистов в поддержку Австрии в ее войне против Франции, один британский наблюдатель писал, что «полки ландвера были в никудышном состоянии и не могли идти в бой, поскольку маневренность их могла сравниться разве что с батальонами ополченцев нашего графства»[6]. Пруссия на самом деле до 1859 года располагала и слабой регулярной армией, и слабым ландвером. Ее вооруженные силы не отличались ни политической благонадежностью, ни возможностью во весь голос заявить о себе в Европе. А ведь в XIX столетии, как и испокон веку, именно военная машина считалась главенствующим критерием непоколебимости государственной и политической власти.
В 1859 году на вопрос, какая из европейских держав доминировала в Европе, имелся готовый ответ: Франция, и еще раз Франция. Французская армия закалилась за 30 лет непрерывной борьбы в Африке, породивших принципиально новые пехотные части – зуавов и turcos (tirailleurs indigenes), а также кавалерийские – spahis и chausseurs d’Afrique, кроме того, выковавших целую плеяду блестящих командующих: Бюжо, Канробера, Мак-Магона, Бурбаки – тех, кто продолжил традиции наполеоновских маршалов. Эти beaux sabreurs имели мало общего с пожилыми выходцами из прусского юнкерства, командовавшими прусскими войсками, как и опытными ветеранами войн, руководившими гражданскими резервистами, составлявшими основной костяк прусской армии. Они снискали лавры в Крымской кампании в 1854–1855 годах, а в Италии в 1859 году повторили победы раннего Бонапарта у Мадженты и Сольферино. Превосходство Наполеона III в Европе, возможно, в конечном счете и объяснялось разногласиями трех победивших Наполеона I (Российской и Австрийской империй и Пруссии) держав, но в глазах его почитателей оно, как и у его дяди, зиждилось на победах его войск[7].
Военные институты Франции имели мало общего с таковыми в Пруссии. У французов не существовало рекрутированного из дворян офицерского корпуса: между армией и пригородом Сен-Жермен, как считали герои Стендаля, не пролегала почти непреодолимая пропасть. Не существовало таких понятий, как «краткосрочная служба», то есть имелась сравнительно немногочисленная регулярная армия и не было массы обученных резервистов. Франция ранее породила идеал «нации с оружием в руках», но в XIX веке она постоянно отказывалась, по причинам политическим, военным и экономическим, от создания военной организации по образу и подобию своих революционных армий. Суровость наполеоновских призывов на военную службу молодых представителей всех классов, в своем большинстве потом с нее домой и не вернувшихся, представлялась Людовику XVIII достаточным основанием для их отмены. И хотя естественное для послевоенного периода отсутствие волонтеров вынудило в 1818 году вернуться к воинской повинности, эта вынужденная мера была не более чем признанием универсальной ответственности, насаждаемой правительством, проводившим ее в жизнь максимально сдержанно. Повсеместное же введение краткосрочной службы породило бы армию куда более многочисленную, чем та, в которой действительно нуждалась или которую могла бы позволить себе страна. Идея эта в равной мере не привлекала ни самих военных, которые, будучи профессионалами, считали, что лишь долгие годы практики могут воспитать необходимые для солдата качества, ни гражданское население, заинтересованное в том, чтобы уберечь своих чад от тягот и лишений воинской службы, а их самих – от расходов на содержание огромной военной машины. Подход французов периода 1818–1870 годов состоял в том, чтобы путем голосования решать, сколько призывников и каких возрастных групп должны определять численность армии, а потом взять и закрепить результаты голосования в виде закона. И намного большая часть контингента призыву не подлежала, так и оставаясь необученным в военном отношении резервом. «Первая порция» служила не один год (сроки колебались от шести до восьми лет) до тех пор, пока в 1832 году не был установлен семилетний срок, просуществовавший до реформ маршала Ниеля в 1868 году. Долгосрочная служба предназначалась для того, чтобы выбить из призывника все ненужное гражданское и превратить его в истинного солдата. Прослужив семь лет, демобилизованный солдат уже с трудом адаптировался к гражданской жизни и рано или поздно принимал решение вновь вернуться в армию, но уже в качестве волонтера. И, таким образом, в рамках универсальной ответственности за службу росла армия достаточно долго прослуживших профессионалов, которая удовлетворяла всех – и военных, заинтересованных в квалифицированных наставниках и инструкторах для необученного пополнения, и представителей среднего класса, желавшего и далее оставаться спокойным за то, что их наследников мужского пола не поставят в строй.
Единственные, кто пострадал от этой системы, так это сами призывники, и «вытащить неверный номер» считалось нешуточной бедой. Но государство и здесь обеспечило лазейку. Призываемый вовсе не обязан был служить лично, если имел возможность вместо себя послать еще кого-нибудь, военные власти не возражали, – на самом деле, если вместо неопытного и необученного новобранца в армию являлся уже накопивший соответствующий опыт за годы прежней службы человек, что ж – тем лучше. Таким образом, сформировалась и бесперебойно функционировала «система замены», ставшая одной из главных отличительных особенностей военной машины Франции. Были учреждены соответствующие агентства, обеспечивавшие поступление замен, и воинская повинность стала риском, застраховаться от которого было куда проще и надежнее, чем, скажем, от пожара или наводнения. Возможность достичь такой договоренности позволяла высшим сословиям и среднему классу избежать тягот военной службы, а истинные республиканцы рассматривали ее как несправедливую. «Желать, чтобы беднота выплачивала этот налог на кровь, – как заявила комиссия, занимавшаяся изучением этого вопроса в ходе составления конституции Второй республики, – с тем, чтобы богатые уклонялись от его уплаты, предложив деньги, представляется нашей комиссии чудовищной несправедливостью». Но консервативное большинство в ассамблее успешно выступило против запланированной республиканцами реформы. «Трудности должны быть равными, – соглашался Адольф Тьер, – но если вы желаете приложить те же условия и тот же образ жизни к совершенно разным людям, как раз вы и нарушаете тем самым принцип равенства… Общество, где все – солдаты, – варварское общество». Принцип замены пережил республику, превратившись в неотъемлемую часть французской военной системы.
Французы, с тревогой взиравшие на моральную ущербность подобной системы в сравнении с прусским обязательным призывом в армию независимо от социального происхождения[8], успокаивали себя тем, что, по крайней мере, данная мера, вероятно, обеспечит более компактные и опытные вооруженные силы. Разумеется, армия сознательно отделялась от остальной части общества, презирая все штатское, и будучи сама презираема штатскими. Жюльен Сорель был не единственным амбициозным молодым человеком, кто почувствовал это в постнаполеоновской Франции le merite militaire n’estplus a la mode и решил избрать для себя мирную и более прибыльную профессию. Аристократия смотрела свысока на армию как на когорту наполеоновских выскочек, средний класс – как на варварский и рудиментарный пережиток в эпоху всеобщего мира и процветания. Это отношение изменилось после 1848 года, когда имущие классы стали рассматривать армию как необходимого защитника общественного строя от пролетарской революции, и успехи армии в Африке вместе с наводнившими литературу идеями бонапартизма призывали к возрождению национальной гордости галльскими традициями воина. В блеске Второй империи армия, роскошно обмундированная, увешанная орденами за Крым, Ломбардию и Дальний Восток (участие в англо-франко-китайской «опиумной войне» 1856–1860 годов), вновь снискала уважение общественности. Но она оставалась вне остальной страны, и Наполеон III сознательно поддерживал статус-кво, отведя войскам роль своей «преторианской гвардии». «Идеальная конституция, – объявил генерал Трошю, самый рьяный из всех военных реформаторов, – та, которая создает армию, верования и привычки которой составляют корпорацию, отличную от остальной части населения». При столь сомнительном режиме, каковым являлась Вторая империя Наполеона III, резко отрицаемая активным и образованным меньшинством и покоившаяся на общественной апатии, а не на всеобщем согласии, армия обязана была исполнять и полицейские функции, что усиливало тот, вероятно, неизбежный и в какой-то степени востребованный в армии мирного времени дух землячества. Но во Франции он был подпорчен бедностью, в которой вынуждены были жить офицеры, и это в обществе, которое лихорадочно и успешно следовало призыву Гизо «Богатейте!». Офицерство Франции, как и также обедневшее прусское, было лишено каких-либо утешений в виде социального престижа, даруемого принадлежностью к армии. Не было у них за все 40 лет после Ватерлоо и перспектив успешно сокрушить кого-нибудь из своих могущественных европейских соседей, чтобы таким образом обеспечить себе почет, славу и основания возгордиться своей профессией. О качестве военного образования не заботились: уровень обучения в крупных военных училищах и в Сен-Сире, и в Меце, и в Сомюре был прискорбно низок, и интеллектуальный калибр высокопоставленных офицеров никоим образом не соответствовал их щегольству. «Если задумаешь что-либо, – сетовал Наполеон III, – только офицеры специальных служб и способны это воплотить в жизнь, но стоит только дать обычным офицерам мало-мальски важное поручение, как они тут же начинают жаловаться».
Но даже эти сомнительного уровня подготовки военные училища были доступны лишь выходцам из богатых семей и получившему неплохое образование меньшинству, и поступление туда стоило немалых денег. Подавляющее большинство дослуживалось до званий в ходе службы в войсках, и, несмотря на приобретенный практический опыт, им все же недоставало теоретических знаний. Маркиз де Кастельян жаловался, что на десять новых капитанов, прибывших на службу в его часть в Перпиньян в 1841 году, всего двое умели читать и писать, а в 1870 году немцы поражались неграмотности французских офицеров, оказавшихся в прусском плену. Эти выслужившиеся из рядовых офицеры, как правило, не соответствовали высоким занимаемым должностям[9]. Они вполне соответствовали статусу полковых офицеров: хоть и пожилые, но бесстрашные, испытанные в боях и пользовавшиеся уважением подчиненных. Именно из их рядов вышел по крайней мере один маршал: Ашиль Франсуа Базен.
Может показаться любопытным, что такие промахи коренились и углублялись в армии, которая начиная с 1830 года почти непрерывно участвовала в активных боевых действиях. Но на самом деле африканский опыт лишь усугублял упомянутые промахи и недостатки. Военные операции в Африке проводились небольшими подразделениями, и от их командиров требовались не столько глубокие теоретические знания, сколько отвага, сметливость и навыки внезапных атак – качества, считавшиеся во французской армии присущими ей, и только ей. Не было необходимости глубоко вникать в изучение военного дела или овладевать навыками взаимодействия войск в бою в ходе сражений. Не было потребности и в тщательно продуманной организации войскового подвоза: солдаты везли все необходимое на вьючных лошадях или тащили на своих спинах. Эти же привычки они распространяли и на европейские кампании. Французские солдаты шли в бой в 1870 году, таща на себе около 70 фунтов груза (более 30 килограммов), включая провиант на несколько дней. Непосредственно перед сражением все сваливалось в кучу, и если бой был проигран, солдаты, разумеется, оставались ни с чем.
Все порочные командные стереотипы, отличавшие наполеоновские армии, крайне негативные последствия которых сводил на нет лишь стратегический гений самого Наполеона, прочно укоренились у французов. Но, невзирая ни на что, эта армия продолжала одерживать победу за победой. Главный принцип, которым руководствовались французские военные, был и оставался – le systeme D: on se debrouillera toujours — «как-нибудь, да выкарабкаемся». И выкарабкивались, хоть и немалой ценой. Полнейшая неадекватность французского военного командования стала очевидной с началом войны против европейских врагов: России в 1854 году (в ходе Крымской войны 1853–1856 годов) и Австрии в 1859 году. Ставка командования, войсковой подвоз и административные службы отсутствовали как таковые, и все приходилось создавать, как говорится, на ходу. Войска транспортировали в Черное море на пароходах, а потом они вынуждены были дожидаться прибытия вооружений, боеприпасов и провианта. В 1859 году для участия в войне с Австрией, о которой политики твердили вот уже четвертый год, французская армия прибыла в Ломбардию в состоянии вопиющей неготовности. У солдат передовых частей, переходивших границу, отсутствовали одеяла, палатки, кухонный инвентарь, фураж, а иногда даже и боеприпасы. Обувь приходилось заимствовать у итальянцев, в качестве перевязочного материала в Сольферино использовалось разорванное обмундирование, а тем временем необходимое медицинское оборудование скапливалось в доках генуэзского порта. И это еще не все – участок, где предстояло вести боевые действия, был хорошо известен наличием там и крепостей, однако армия так и не получила необходимого оснащения для их штурма. Наполеон III телеграфировал из Генуи: «Мы послали в Италию армию в 120 000 человек, но не позаботились о необходимых поставках для них. Это, – продолжал он, – прямая противоположность тому, что мы планировали».
Тем не менее французы выиграли обе войны. Какими бы ни были все присущие им и ставшие уже традиционными недостатки, вероятно, у их противников дела в этом смысле обстояли еще хуже. Не приходится удивляться тому, что французская армия победила, по словам одного из ее служащих, за счет «всесильной выучки ее солдат, столь же удачливых, как и бесстрашных и в открытую презиравших военное искусство». Некоторых более проницательных командующих во главе с самим императором серьезно волновали огрехи французского военного командования, вскрывшиеся в ходе кампании 1859 года. Но, по мнению большинства в армии, да и во всей стране, одержанная победа гарантировала любые оправдания, необходимые для сохранения системы, которая, невзирая на все ее недостатки, все же выдержала испытание временем.
5
Автор не упомянул про Русско-иранскую войну 1826–1828 гг. и Русско-турецкую войну 1828–1829 гг., когда русские войска вышли к Константинополю (Стамбулу), в результате чего по Адрианопольскому мирному договору Греция фактически получила независимость, а Сербия, Валахия и Молдавия – реальную автономию. – Ред.
6
А вот французские наблюдатели были впечатлены увиденным в ходе мобилизации, в особенности использованием железных дорог и бланками приказов 1840 г., в которые достаточно было вписать дату и поставить подпись для придания им законного характера. – Авт.
7
Турция (1856) и Япония (1868) нанимали французских офицеров в качестве консультантов в ходе реформирования своих армий. – Авт.
8
Решение пруссаков решить проблему, примирив принцип обязательности призыва с интересами и пожеланиями высших классов и профессионалов, выразилось в учреждении статуса «добровольно поступившего на службу на годичный срок», закрепленного в законе Бойена в сентябре 1814 г. Молодые люди, получившие образование достаточно высокого уровня, могли по прохождении соответствующего тестирования поступить на армейскую службу «добровольцами на годичный срок». Они носили отличную от других форменную одежду, не находились на казарменном положении и в свободное от службы время имели право переодеваться в штатскую одежду. По истечении одного года их демобилизовывали. Эта практика сохранилась вплоть до роспуска рейхсвера в 1918 г. – Авт.
9
Примерно две трети офицеров, от капитана и выше, начинали службу рядовыми. Соответственно, такие кадры составляли до 25 % офицеров, занимавших командные должности и приблизительно 15 % дивизионных генералов. – Авт.