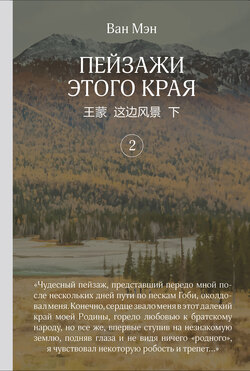Читать книгу Пейзажи этого края. Том 2 - Мэн Ван - Страница 3
Глава двадцать третья
ОглавлениеМайсум идет искать деда
Вернувшийся «оттуда» Латиф и судьба двух голубят
Эти люди всегда где-то рядом
Коммуна имени Большого скачка – одна из тех, где зимой и весной этого года проходит кампания по социалистическому воспитанию. Рабочие бригады это затронет в первую очередь, и неудивительно, что эта новость вызвала самые разные толки и ожидания. Майсум знал об этом от «деда» заранее и уже начал действовать, готовился, но все-таки чем ближе был старт кампании в рабочей бригаде, тем больше он волновался, тем больше его это пугало. Да к тому же и международная обстановка в последнее время…
Особенно после того, как этого лысого внезапно сняли и, по слухам, запретили ему «участвовать в открытых дискуссиях», навесили ярлык «капитулянта». Что вообще происходит? Если так дальше пойдет, то когда же они, наконец, придут? в каком месяце, в каком году? Он тут терпит унижения, живет, можно сказать, украдкой, кланяется налево и направо и влачит горькое существование – доколе? до какого века нашей эпохи? Как только он начинал думать об этом, ему сразу делалось нехорошо: будто кто-то пронзал ему сердце острым шилом и подвешивал коптиться на медленном огне…
В воскресенье он, держа двух белоснежных голубей, отправился к своему «деду» – к Алимамеду.
Тридцать лет назад Абас, отец Майсума, был известнейшим богачом в уезде Суйдин. У Абаса было больше тысячи мер земли, пятнадцать водяных мельниц, два больших фруктовых сада, угольная шахта, два торговых магазина и множество повозок, домов и скота. У тамошних крестьян даже ходила песенка:
Вода из арыка исчезает в полях,
В пустыне Гоби река пропадает.
Все наши деньги – в байских сундуках,
Красавиц всех один Абас ласкает…
Абас с молодости вел распутный образ жизни: пил, играл в азартные игры, любил охоту, курил гашиш. По мусульманским законам официально он взял себе семь жен, а женщин «позабавиться» у него было больше, чем волосков в бороде. За это его прозвали Быком; все женщины от пятнадцати до пятидесяти трепетали от страха перед ним. Но в 1939 году, когда Абасу было пятьдесят шесть, его вдруг поразил тяжелый недуг; сверху рвало, снизу лилось, бросало то в жар то в холод, четырнадцать дней кряду он пролежал без сознания; в основании шеи и на животе вздулись три огромных фурункула величиной больше грецкого ореха, сочащиеся кровью и гноем, болели они нестерпимо. Приглашали всех, кого могли в то время пригласить, самых разных ученых врачей и обманщиков-шарлатанов; мазали змеиным жиром, натирали самородным медным купоросом, давали пить отвар семян лисохвоста, делали обертывание всего тела в яичных желтках.
Самый последний пришел, как он сам сказал, из Хотана – не то знахарь, не то шаман, читал священные книги, плясал, зарезал петуха (чтобы переместить злых духов из тела больного в тело птицы, а потом убить ее, уничтожить) и еще раздел Абаса догола и хлестал его ивовыми прутьями, чтобы прогнать бесов. Абас был не то жив, не то мертв, барахтался на этой грани четыре месяца, можно сказать, из могилы выбрался. Прошло еще полгода – и он стал выходить из дома.
То ли тяжелая болезнь и страх смерти на него так повлияли, то ли наркотики, которые он долго принимал, – только Абас стал другим человеком. Высокий, сильный, никогда не уступающий никому злодей-разбойник, развратник Абас теперь ослеп на один глаз, сгорбился, втянул голову в плечи и постоянно покачивал ею (сельчане верят, что старики раскачивают головой, потому что в молодости ели слишком много утиного мяса: ведь утки двигают головой и шеей точно так же), руки у него дрожали и тряслись. Любитель распевать распутные песни и рассказывать похабные анекдоты, Абас теперь стал говорить неразборчиво и невнятно, как будто дул на горячую картофелину.
Прошлое распущенное житье было отброшено за седьмое небо, а с детства вдалбливаемые заповеди и наставления вдруг стали как никогда ясны, священны и сильны. Он больше не погружался в буйство кутежей, даже еда перестала доставлять ему удовольствие. Он не только перестал бросать косые взгляды на женщин, но даже самого любимого, единственного своего сына больше не ласкал: он все время думал о смерти, о душе, Коране, небесных чертогах и море бедствий – то есть аде. После болезни Абас днем и ночью говорил и думал об одном: пойти в Мекку, увидеть Каабу – совершить хадж, паломничество, одно из пяти обязательных предписаний ислама, исполнить этот самый последний, самый почетный долг мусульманина. Прошло еще два года, он наконец завершил все приготовления, продал две трети всего имущества, накупил верблюдов, коней, взял с собой достаточное количество денег на дорожные расходы, необходимые вещи, нанял слуг – и еще устроил невиданный в уезде по размаху назыр. Несколько сот баев, старост, ходжей, беков, кази, мулл и имамов приняли участие в прощальном пире; из ближнего Хочена и далеких Цзинхэ и Чжаосу приехали дорогие гости проводить его и вместе с ним вознести молитву; из подарков одних только китайских и иностранных монет набрался туго набитый мешок.
Потом Абас торжественно простился. Несколько месяцев спустя говорили, что видели его в Южном Синьцзяне, в Каргалыке. Через год передавали, будто он прошел Индию и направлялся на запад, к Красному морю. С тех пор о нем известий не было. Только в разговорах стариков можно было иногда услышать о прошлом: Бык – бай – больной – святой паломник.
Шесть жен, которых взял Абас, родили ему четырнадцать дочерей, но ни одна не родила сына. И так было, пока он в сорок два года не женился в седьмой раз – на пятнадцатилетней девушке, так что «тесть» был моложе его на шесть лет – мастер, делавший рисунки для окраски ковров. Через три года появился на свет Майсум.
Когда Майсуму исполнилось десять лет, его отдали в медресе – изучать Коран, при школе он и жил. Абас всеми силами воспитывал единственного сына так, чтобы он стал почитаемым муллой, ученым человеком. Абас говорил: «В свои немалые года я обрел тебя, милого моего сына, ты появился на свет, ты – мое богатство; все это – ниспосланная милость Худая. Люди боятся меня, заискивают передо мной, ходят вокруг кругами, угодничают, дрожат; но нет никого, кто по-настоящему уважал бы – потому что я нутром темен, нет на груди ни единого пятнышка туши: я ничему не учился! Богатство – это маленькая птичка; ты не можешь всю жизнь сжимать его в ладони, чуть шевельнешь не так пальцем – и богатство, как птичка, улетит, не оставит ни тени, ни следа. При игре в бараньи кости трудно их бросить так, чтобы они стали стоймя, а плашмя они падают легко; так и богатство: копить его трудно, а разбросать и потерять – быстро и просто. Но есть богатство, которое не потеряешь, которое не украдут, не отнимут – это знания. Хорошенько учись, палки сделают тебя человеком[1]. И помни, что ты – потомок Абаса, великого человека.
И все-таки Майсум не оправдал надежд отца; полная упорного труда жизнь в медресе, каждодневные бесконечные занятия совершенно не совпадали с его желаниями, а жестокие телесные наказания опустошают душу непослушных подростков и толкают их на беспорядочные, а иногда и разрушительные действия. Среди будущих мулл, получающих ежедневную порцию палок, попадаются особо строптивые и непокорные, по делу и без дела проявляющие свой характер. Майсум просуществовал в медресе год – как в кромешном мраке, из последних сил, а когда ему исполнилось одиннадцать, поверг всех в изумление: прикинулся душевнобольным. Сперва он, приехав домой, перед отцом и матерью полночи притворялся, что бредит и говорит во сне; он издавал такие жалобные стенания, что волосы становились дыбом; когда говорил, начинал об одном, а заканчивал совсем о другом; но все крутилось вокруг страха, и непонятно было, что именно его так пугало. Потом и средь бела дня он стал специально произносить совершенно непонятные речи и совершать непонятные поступки, принимать странное настроение и выражение лица. Он обманул почти всех окружающих и даже сам за эти несколько дней немного запутался, уже не понимал: то ли он нормальный и выдает себя за психически нездорового, то ли он действительно потерял душевное равновесие, но думает, будто только притворяется… В итоге он не доучился, бросил-таки учебу.
С малых лет Майсум был окружен любовью и заботой, ему во всем потакали – и он с самого детства осознавал свое особое положение и преимущество перед другими. Когда ему было пять лет, нянька повела его гулять в яблоневый сад, а он вдруг ни с того ни с сего заплакал – как раз отец проходил мимо, он тут же достал плеть и одним ударом повалил няньку наземь, вся голова и лицо у нее были в крови. Майсум был напуган; но вместе с тем он почувствовал какое-то особое удовольствие – и засмеялся.
Но когда ему было тринадцать и отец уехал в хадж, в его жизни произошла резкая перемена. Шесть «старших мам» и полтора десятка сестер, которые были даже старше его собственной матери, растащили оставшееся имущество дочиста – по исламским законам дочери тоже имеют право наследования. Матери Майсума пришлось снова выйти замуж – на этот раз за сапожника. Сапожник-отчим хотел, чтобы Майсум учился шить и чинить обувь. Майсум же этого не хотел. Он не выносил вони от кожи и старых туфель. Он портил обувь и кожу, ломал шила и иглы. Отчим в сердцах дал ему две самые обычные оплеухи – которых Майсум с самых малых лет никогда не получал, – и он в порыве гнева сбежал. Глава семьи соученика Майсума по медресе помог ему найти место в канцелярии гоминьдановского правительства уезда; ему тогда было всего шестнадцать лет. Когда пришел 1944 год и Майсуму было уже девятнадцать, народ трех районов – Или, Тачэна, Алтая – восстал против Чан Кайши и Гоминьдана, вспыхнула народно-демократическая революция – и Майсум снова переметнулся, вступил в национальную армию. Поскольку он был «из интеллигенции» и человек неглупый, то очень скоро стал батальонным офицером. После мирного освобождения Синьцзяна в сорок девятом Народно-освободительная армия и Национальная армия объединились, Национальная армия стала частью Народно-освободительной. В 1951 году Майсум стал офицером Народно-освободительной армии. Потом демобилизовался и был направлен в уезд начальником отдела.
Должность начальника отдела окрыляла. Кто первый пришел – того и базар. В двадцать четыре года – начальник отдела, он пришел первым. Начальником уезда может стать самое позднее в тридцать. В тридцать пять лет, возможно, будет начальником округа. Тогда к сорока – плюс-минус – он станет руководящим работником первого уровня в провинции. И все совершенно реально, потому что в этом далеком краю, посреди усердно работающих, простоватых, прямодушных казахов-пастухов и уйгуров-крестьян он ощущал себя верблюдом в овечьем стаде.
Первое время после перехода на гражданскую службу его дела шли как нельзя лучше. Жену звали Гулихан-банум – высокая, стройная, с очень смуглым лицом, бирюзовыми глазами и взглядом, как струящаяся вода. Гулихан-банум была узбечка. Поэтому Майсум при заполнении анкеты и просто в разговорах тоже назывался узбеком, а потом стал говорить, что он татарин. Глубоко в душе он считал, что уйгуры – народ глупый, невежественный, низкопробный и нецивилизованный; только выдавая себя за узбека или еще лучше – татарина, он со своей высокородной кровью мог бы соответствовать своему нынешнему положению.
У него были дом с большой верандой, фруктовый сад, одежда из хорошего сукна и шапка из меха сурка; в серьгах жены сверкали настоящие, купленные в Или на черном рынке рубины. Множество гостей – в том числе частные торговцы, ахуны[2] и друзья-родственники заключенных под стражу, – держа подарки на вытянутых руках, «навещали» его; столы в доме всегда были заставлены бокалами и блюдами, было полно гостей и приятелей. Майсум с детства взращивал в себе стремление быть выше, не как все, и жить в свое удовольствие; эта глубоко пустившая в нем корни мечта начала осуществляться, она заставляла еще больше стремиться к превосходству и наслаждениям.
Когда веселье заканчивалось и гости расходились, он часто вспоминал детство и особенно – пропавшего отца. Отец ушел в хадж, и после этого не было от него ни письма, ни вести, но величественность и достоинство его постепенно возрождалось в сыне. Множество воспоминаний вернулось: богатые пиры и мешребы. Слуги бегали между гостей с кашгарскими узорными бронзовыми кувшинами, поливая на руки – какой же пир без этого! Ведь уйгуры любят есть руками и постоянно их моют, хотя столовой посуды и приборов у них предостаточно; по столам струились мясной сок и вино; кубки переходили от одного к другому, бутыли вина стояли и лежали повсюду. Были еще танцы до рассвета – татарские, пьяные, сопровождавшиеся дикими и непристойными криками.
…На Курбан-байрам резали быков и баранов, пригоршнями разбрасывали медные деньги – садаку, милостыню; громко дудели в зурны, лица музыкантов от натуги были цвета коровьей печени… Летом охотились – с соколами и собаками, ездили в горы. Они с отцом ехали верхом на лошадях, а босые слуги бежали следом… И еще азартные игры! Замершее дыхание, выпученные глаза, брошенные кости, дикий вскрик, перекошенное, посеревшее как у мертвеца лицо, крупные, как горох, капли пота на лбу… В каком году, под какой луной Майсуму доведется вновь пережить такое беспредельное, такое пронзительное счастье?..
В 1954 году образовался Или-Казахский автономный округ, по всем уездам созывались собрания народных представителей, официально учреждались народные собрания всех уровней. Майсум почти наверняка – девять из десяти – должен был стать начальником уезда. Один из заместителей начальника округа уже говорил с ним, близкие приятели уже поздравляли его. Сам он по изменившемуся вниманию окружающих, по их заискивающим взглядам и желанию сблизиться тоже чувствовал, что повышение совсем близко. Ну никак нельзя было предположить, что собрание представителей выдвинет кандидатом в начальники уезда какого-то кадрового работника из народной коммуны – бывшего пастуха! не очень образованного, невзрачного… Там наверху просто сошли с ума! Делегаты сошли с ума! Весь мир сошел с ума! Да он сам сейчас от ярости сойдет с ума! Этот замначальника округа обманул его, все «близкие друзья» обманули, это коммунистическая партия его обманула! Талантливый оратор, образованный, представительный, харизматичный, с острым умом – чем он, Майсум, уступает этому пастуху, деревенщине?! Начальник уезда разъезжает по полям на джипе, а он, бедный начотдела… Вскоре после этого за нецелевое использование общественных средств и взяточничество, за покрывательство контрреволюционных элементов… В общем, Майсума подвергли критике и вынесли ему предупреждение (все потому что этот, из его отдела, сотрудник ханьской национальности, чтоб он сдох, написал на него заявление и обломал ему все планы!) – так он и не стал начальником уезда.
Майсум очнулся от своего сна и понял, что просто попался на эту уловку – ради крошечной – с горошинку – чиновничьей должности готов был на все, топтался, метался, утратил самоконтроль и вообще вел себя как суетливая негритянка перед свадьбой. Счастье, которого он так жаждал, удовлетворение и радость – они ни на чуточку не стали ближе и, что еще печальнее, что еще больше бесит – похоже, что и сейчас, и потом, и вечно так и останутся недостижимыми.
Он стал нервным и подавленным. Он всех возненавидел – начальника уезда, замначальника округа, приятелей и даже Гулихан-банум. А больше всего он ненавидел сотрудника-ханьца, написавшего донос. Все беды – от этих кадровых работников ханьской национальности! Если бы они не притащили с собой какой-то социализм, если бы они могли сравнить его способности и способности этого – пастуха! сравнить их методы… Да как их вообще можно сравнивать!
Таким вот образом этот стыдившийся признавать себя уйгуром господин постепенно превратился в защитника уйгурских национальных традиций, стал представителем уйгурского народа. В 1956 и 1957 годах он не скрываясь выступал с резкой критикой партийной политики в национальном вопросе, кадровой политики и кооперации в сельском хозяйстве; он со злобными, ядовитыми речами нападал на единство уйгурского и ханьского народов. В результате оказалось, что он снова ошибся в оценке ситуации: руководство партии не развалилось, а вот самого Майсума подвергли трехдневной критике.
Майсум посерел и совсем сник. Его плоское бледное желтоватое лицо казалось совершенно бескровным. Брови были постоянно сдвинуты к переносице, на которой пролегла глубокая складка, и только при посторонних на лице Майсума появлялось подобие смиренной улыбки. Сердечные друзья прошлых дней больше не приходили, в бездетном доме было тихо, как в могиле. В один из дней после жатвы он увидел на пшеничном поле одинокий кустик актукана – белой колючки – и расплакался: он думал о своей судьбе, об одиночестве; вот так же и он сохнет – скоро умрет, хоть и ощетинился колючими иголками, как этот жалкий кустик…
В ту ночь он, обычно боявшийся жены, до полусмерти избил Гулихан-банум за одно не понравившееся ему слово. Он пешком пришел в город Инин; когда рассвело, он был уже у винного магазина, где купил литр водки – и тут же выпил, не останавливаясь, расплескивая на лицо, подбородок, шею, намочив рубашку и даже штаны. Земля и небо завертелись, он еле держался на ногах; навстречу шел какой-то человек, по одежде – кадровый работник; Майсум бросился на него с кулаками, но сам рухнул на землю, словно пустой мешок; его рвало белой пеной, он ничего не соображал.
Майсум очнулся: голубой потолок, алый ковер на стене, резные деревянные ставни и двери, длинные шторы с вышитыми цветами. Что это за место? Он хотел сесть, но не было сил. Открылась дверь, Майсум скосил глаза – посмотреть, и кровь его похолодела: вошел звериного вида хромой, шея его поросла черной шерстью, а за ним – большая черная собака. Хромой глянул на него и спросил:
– Вы проснулись?
Майсум хотел ответить, но не мог произнести ни звука.
Через какое-то время вслед за хромым пришел изысканно одетый молодой человек, на верхней губе у него только начинали расти небольшие светлые усики; он улыбался.
– Как вы себя чувствуете? Уважаемый брат Майсум…
Майсум испугался:
– Вы… меня знаете?
– Можно сказать, мы давно знакомы. Аксакал мне давно рассказывал о вас.
– Аксакал? Какой аксакал? Кто такой аксакал?
Молодой человек продолжал улыбаться, не отвечая на его вопросы. Сказал только:
– Это аксакал – дедушка – привез вас сюда. Он велел мне сказать вам, что не следует так поступать. Вы – элита и надежда уйгурского народа. Дедушка также велел рассказать вам историю. Один правитель показал на свое лицо, а потом показал на свою голову. Очень много министров не могли отгадать его загадку – и отправились за это на виселицу. Потом к правителю пришел какой-то плешивый, с язвами на голове. Правитель показал на свое лицо – а плешивый показал на свое горло. Правитель показал на свою голову – плешивый показал на свой высунутый язык. И он стал главным министром. Вы слышали эту историю? Вы ее понимаете?
Эту историю Майсум смутно припоминал, он подумал и сказал.
– Может быть, имеется в виду, что слова «горло» и «голова» в уйгурском языке, так же как «взяточничество» и «ненадлежащие траты», связаны с корнем глагола «есть», поэтому горло – символ алчности. Из-за нее человек теряет лицо, а из-за языка теряет голову?
– Смотрите, как вы мудры; и еще дедушка велел сказать, чтобы вы не падали духом, не теряли надежды: дней впереди много, как говорится. О вас будут заботиться, вас будут оберегать. В нужное время вам придется пожертвовать кое-кем из ваших близких друзей недавнего времени… – Молодой человек не отвечал на расспросы Майсума, он говорил только свое: – Через некоторое время мы вместе подкрепимся, потом вы немного отдохнете – и можно будет возвращаться. В дальнейшем не приходите сюда и не ищите нас. Если будет необходимость, я вас навещу – вы ведь будете рады?
– Конечно, буду рад, – у Майсума голова все еще шла кругом. – Но вы, по крайней мере, должны сказать мне – как мне вас называть?
Молодой человек на секунду задумался в нерешительности.
– Меня зовут Латиф.
…Майсум вернулся в свою ипостась. В соответствии с указаниями «дедушки», которые ему передал Латиф, он взбодрился и собрался с духом. С большим красноречием, ожесточенно и с избыточным энтузиазмом он с соплями, слезами и тяжелыми вздохами анализировал и критиковал собственные ошибки. В то же время он инициативно, безжалостно, исчерпывающе и всесторонне препарировал двух своих ближайших друзей – и произвел подробный анализ этого вскрытия. Обличая и осуждая этих двоих, он покраснел, голос его дрожал – но только от переполнявшего его «справедливого гнева». Первопричиной всех его ошибок, по его словам, были эти двое; он сам вроде как изначально был чистый ангел, невинное дитя, а все беды – результат совращения этими двумя чертями. Он болел сердцем, он раскаивался, бил себя в грудь и громко восклицал; в горячке гнева и ненависти он чуть не упал в обморок. И действительно, все это сработало: рабочая группа объявила его классическим примером возвращения на правильную стезю. Тех двоих молодцев подвергли наказанию, а Майсум по-прежнему остался членом партии и начальником отдела.
Прошло полгода, прошел год, и еще полгода; за все это время от Латифа и деда не было ни звука. Кто такой дед? Как это он так про него все знает и еще помогает ему? Майсум никак не мог найти концов. Может – тот старец, что живет в мечети напротив? Но он уже плохо видит и слышит, говорит малопонятно. Может быть, директор школы в уезде? – он такой почтенный, уважаемый… Несколько раз пробовал завести с ним разговор; директор школы говорил – как будто читал газетную колонку комментариев от редактора. Странно! Неужели это он тот незримый посланец небес? Тот, который сидит на левом плече? Ну да, уйгуры верят, что у каждого человека на правом плече сидит ангел, ведущий учет всем добрым делам человека, а на левом – другой, записывающий плохие поступки. Но откуда он так хорошо все знает о Майсуме? Даже то, как в свое время он сомневался в здравости своего рассудка… Уж не выболтал ли сам в пьяном бреду? Майсум несколько раз ездил в Инин, думая найти тот загадочный дом: он помнил, что перед воротами был большой арык, а вдоль арыка густо росли невысокие, как кустарник, ивы… Ворота были плотно закрыты, запоры – в пятнах ржавчины. Сбоку от ворот – высокое крыльцо со ступеньками, карниз в виде арки, выкрашенная синей масляной краской дверь, за ней – сумрачный неосвещенный проход… Но он не осмелился: вспомнилось предостережение Латифа; а еще больше – тот заросший черными волосами хромой с угрюмым лицом и шедшая за ним страшная собака. Здесь было еще кое-что, о чем Майсум пока не знал, – недоброе, к чему люди не смели приблизиться…
Осенью 1961 года он должен был отправиться в коммуну Большого скачка «выпрямлять работу»; за день до отъезда к нему верхом на осле приехал бродячий лекарь; у него была очень аккуратная, симпатичная маленькая черная бородка, манерами он совершенно походил на странствующего лекаря; и только когда он уехал, Майсум догадался и поразился, одновременно и обрадовавшись, и испугавшись: ведь этим посетителем был Латиф!
Латиф рассказал ему тогда многое о событиях в коммуне Большого скачка, в особенности о Патриотической большой бригаде – о Лисиди и Кутлукжане, о Тайвайку и Исмадине…
Весной 1962 года стала усиливаться подрывная деятельность извне, и под пеплом давно сожженных иллюзий Майсума снова стал разгораться огонь; ему больше не нужно было притворяться, шутить, заискивать, ни к чему было искажать свой облик. Спина его выпрямилась, слова стали резче и грубее, словно весь мир снова лежал у него на ладони. Самое интересное, что двое его старых приятелей, которые в свое время имели большие неприятности из-за его обличений, теперь, как и он сам, тоже были очищены от подозрений – и дружно присоединились к истерии раскола, отступничества, провокаций и ожидания смены власти.
А в этом году Майсум действительно добыл через Общество советских эмигрантов – через Мулатова – документ Татарской автономной республики РСФСР СССР и превратился в татарина: раз уж взялся за дело, то надо его доводить до конца – татарин так татарин. В его представлении татары были вроде как больше европейцы, чем уйгуры. Вроде как еще один повод радоваться.
…И все же он не уехал. О Худай! О судьба! Почему они к нему так безжалостны? Он уже прошел все формальности, купил билет на автобус, за бесценок распродал имущество. Он всюду ходил, прощался, пил на прощание – и подхватил острую дизентерию: понос и рвота, вторая степень обезвоженности; если бы не двенадцать часов под капельницей – глюкоза и физраствор, – точно протянул бы ноги. Когда он вышел из больницы, власти уже приняли ряд мер по противодействию подрывной раскольнической деятельности, его удостоверение советского эмигранта оказалось фальшивкой чистейшей воды – и он никуда не смог уехать…
Это было еще хуже, чем когда в пятьдесят седьмом его осудила рабочая группа. Он хотел броситься в реку Или, повеситься на брючном ремне, выпить крысиный яд.
Он не совершил самоубийство. Он нашел то место, где его «спасли» пять лет назад. Он толкнул калитку на высоком крыльце, вошел в сумрачный коридор, на всякий случай покричал:
– Латиф-ахун!
Вышел человек. Майсум остолбенел от испуга: знакомое лицо, оспины на белой коже, жидкие брови, кривой выступающий нос, крупная родинка на нижней скуле и прядь волос на ней – этот человек пять лет назад входил в ту рабочую группу, которая рассматривала его дело и выносила решение – Алимамед, руководитель компании в управлении торговли округа!
– Я… ошибся дверью, – промямлил Майсум, пятясь к выходу.
– Ошибся дверью? Ну что за выражение! – Алимамед рассмеялся. – Разве мы не знакомы? Входите!
Майсум, поколебавшись, все же вошел в гостиную. В его ушах еще звучал строгий, властный голос Али, который тогда методично и размеренно осуждал его.
– Вы… не смогли уехать? – спросил Али.
– Я… – не зная что сказать, Майсум неловко и беспокойно ерзал, как курица со связанными ногами.
Али едва заметно улыбнулся и сказал дружелюбно и участливо:
– Я хотел было послать человека сказать вам, что лучше не уезжать, но в те дни все было так сумбурно. Они думали только о том, чтобы самим уехать, некого было послать к вам. Так неудачно. Вы были слишком слепы. Вы были как в тифозной горячке, это неправильно.
– Вы говорите, что хотели отправить ко мне человека? Кого? Кто он?
– Какая разница кого? Нам незачем об этом думать. Лучше расскажите о своем положении. Судя по выражению вашего лица – как у женщины во время родов… – Али попробовал пошутить, но, увидев, что Майсум молчит, сказал: – Вы – элита и надежда уйгурского народа. Мы не можем уехать из Синьцзяна, и Синьцзян без нас тоже не может. Даже собака вдали от своего дома лает не так звонко. Но все же – что с вами произошло? – Опять молчание. Али продолжил: – Когда человек жадно глотает, он теряет лицо; когда он много болтает – теряет голову. А если слепо бежать куда-то… – он указал на ноги Майсума, – может случиться большая беда!
– Вы – дед? – выпучив глаза, вскрикнул Майсум.
– Какой дед? – холодно отмахнулся Али.
– Вы – тот аксакал, о котором говорил Латиф? – продолжал Майсум удивленно и радостно.
– Какой Латиф? Я же спрашиваю о ваших делах.
Майсум рассказал о себе. Али качал головой:
– Глядите-ка, как глупо вы себя вели! Вам следовало быть умнее, не суетиться, как некоторые тыквоголовые. Сейчас все сложилось не очень удачно… Но это ничего. Вы побыли начальником отдела, поели-попили, повеселились, порезвились – теперь пора в деревню: подышать свежим воздухом – он освежит вашу голову и сделает вас гораздо умнее. Что это вы плачете? Что? Все кончено? Ну что за слова! Вы же почти хаджи[3] – для таких у них политика очень мягкая. К тому же все это лишь вопрос времени. Зимой снег укрывает землю, под снегом – земля, в земле спят личинки…
После того, как Майсум стал членом Седьмой производственной бригады Патриотической большой бригады в коммуне имени Большого скачка, он еще дважды ездил к Алимамеду; к этой комнате с голубым потолком и резными деревянными ставнями и дверями, с алым ковром на стене было теперь приковано его сердце.
В это воскресенье Алимамед полулежал-полусидел, прислонившись спиной к стене; в зубах он сжимал пропитанный слюной носовой платок и с горькой миной массировал десну. Увидев вошедшего Майсума, он выплюнул платок и пояснил:
– Зуб болит.
– Вот, принес вам двух голубят – вашим детям поиграть, – Майсум почтительно вручил голубей и добавил: – Вы и сами знаете – мы теперь нищие, нет никакого достойного подарка, уж так неловко…
Алимамед усмехнулся и снова скривился от боли. Он взял в руки вращающего в испуге красными глазками голубенка, погладил его мягкие белоснежные перья:
– Какая красивая птичка! – Он пристально разглядывал голубя и постанывал: – Ох! Клянусь печенкой, несчастной жизнью своей… Ах! – он отложил голубя в сторону. – Как жаль! Сейчас еще не время баловаться голубями. Потом…
Майсум покачал головой и тяжело вздохнул. Алимамед внимательно посмотрел на него.
– Как же далеко это «потом»! Кто знает, увидим ли мы его?
– Вы потеряли веру!
– Да, веры еще осталось немного, но в то же время очень грустно. Лысого сняли, о войне никто не решается говорить. А здесь взорвали атомную бомбу. Сплошное хвастовство… – сбивчиво заговорил Майсум.
Лицо Алимамеда сморщилось еще больше, и он стал как молотком стучать кулаком по правой щеке, где у него была родинка с длинными волосами, – словно хотел выбить этот больной зуб.
– Говорят, совсем скоро приедет в село рабочая группа проводить социалистическое воспитание, – Майсум сделал жалобное лицо и просительно посмотрел на Али.
– Ну и хорошо, – Али говорил будто через нос.
Взгляд Майсума потух, он тихо и меланхолично сказал:
– Повсюду говорят только о классовой борьбе – о классовой борьбе и еще каких-то трех великих революциях…
– Да, – Али стал немного серьезней и перестал колотить себя по родинке, – ситуация очень серьезная. Целыми днями твердят о том, что ни в коем случае нельзя забывать о классовой борьбе. Но вам-то чего бояться? Истинный владыка бережет вас. Вы каждый день газеты читаете?
– Я не выписываю газет.
– Это почему же? Может быть, вы умеете воровать?
– Что?! Нет, что вы, нет… – Майсум вздрогнул.
– Вы умеете выделывать кожу, ткать ковры, плести циновки, класть печки, сучить пряжу, красить ткани… Нет?
– Нет-нет, вы…
– Не торопитесь. Другими словами, у вас ничего нет. Вы не владеете никаким ремеслом. – Видя замешательство и недоумение Майсума, Али довольно улыбнулся. – Но вы хотите самой лучшей жизни, хотите превосходить обычных людей – а на каком основании? Что у вас есть?
– У меня есть образование, я кадровый работник…
– А вот это правильно, – кивнул Али. – Культура, теория, политика – вот ваше искусство. Вы, я, все мы – политики. Но разве может политик быть настолько близоруким, так отчаяться и разочароваться? Разве он может, как вы, не выписывать газет, не вооружать себя самыми новыми формулировками и лозунгами? Вай-вай-вай, брат мой начальник отдела! Вай-вай-вай, господин Майсум! Неужели среди деревенщины вы понемногу стали такой же по-крысиному близорукой деревенщиной и видите только то, что у вас под носом? – Алимамед прервался, чтобы нанести еще несколько ударов по родинке, под которой пульсировала боль. – Все верно, сейчас говорят о классовой борьбе, хорошо; ни в коем случае не забывать – это не только для них сказано, но и для нас. Из нас уж точно никто не забудет. Мы живем среди бесконечных громких речей, это эпоха громких и пустых слов, одно громче другого, чем дальше – тем больше хвастовства и вранья; а все мы: русские, узбеки, татары, казахи, уйгуры – мы все самые большие мастера громких слов. Казахская поговорка: «Громкими словами можно дойти до неба» – громкими словами можно двигать горы! можно изменить весь мир, изменить вас, меня, можно повернуть вспять течение реки Или! Например: «ни в коем случае не забывать о классовой борьбе» – хорошо, очень хорошо! Однако кто с кем борется? это ведь не то же самое, что две армии выстраиваются друг против друга. Какие-то внутри— и внешнепартийные противоречия и столкновения, какие-то четыре – чистим, четыре – не чистим – тоже противоречия; какая каша, какой омач из них сварится? Я читал какие-то статьи в последнее время, там попадается такое, что просто страшно! Кадровых работников на селе рисуют такими черными красками! Ну ладно, пусть сами жарят себя в собственном же соку. Вам-то что переживать? Вы же самый простой, обычный член коммуны из народных масс. Вы даже можете быть передовиком, вы можете и справа и слева получать выгоду… Классовая борьба расцветает пышным цветом, так что если небо рушится и земля переворачивается, и никто ничего понять не может – разве это не выгодно для нас? Я ведь это все вам уже говорил. И еще говорил вам, что не надо ко мне часто приходить. Но сегодня вы пришли, – недовольно закончил Али.
– Я себе места не находил, – Майсум приложил ладони к груди.
– Да, главная причина – у вас недостаточно веры, а это для политика очень опасно. Сейчас я хочу, чтобы вы увиделись с одним человеком, он вам скажет то, что вы больше всего хотите услышать… – Майсум стал нетерпеливо интересоваться, с кем он должен встретиться, но Али вдруг повернул разговор в другую сторону: – Спасибо за ваш подарок. Скажите, я могу свободно распорядиться этими двумя голубками?
– Конечно.
– Может, мне следует их отпустить? – Али вопросительно и с издевкой смотрел на Майсума; по-видимому, он хорошо разбирался в этом вопросе: если голубя отпустить, то он полетит назад, к Майсуму домой – «подарок» сам собой вернется, это знают те, кто держал голубей. – Голубь должен быть в небе, рыба – в глубине моря, осел – под наездником, а шакалы и волки – в горных ущельях и густых лесах. – Внезапно он так быстро, что едва можно было уловить взглядом, свернул голубям шеи[4] – и свежая кровь брызнула на их белоснежные перья, на его руки и капнула на край штанины; безжалостно лишенные голов голуби в конвульсиях дергали лапами. – Их поджарят – будет хорошая закуска, можно угостить дорогого гостя, – сказал он и свистнул.
Из внутренней комнаты вышел человек в высоком белом тюрбане, с длинной бородой, в очень длинном чапане, по виду – важный мулла.
Майсум поспешил встать, приложил руки к груди и, поклонившись, поприветствовал муллу-ахуна.
«Уважаемый мулла» не ответил на церемонные слова Майсума как положено, зато сказал очень знакомым голосом:
– Вы меня не узнаете?
– Латиф! – вскрикнул пораженный Майсум.
Латиф приложил палец к губам.
– Вы откуда… Оттуда? – Майсума била легкая дрожь, по всему телу прошла волна – то ли страха, то ли отвращения, то ли радости.
Латиф зажмурил один глаз, поджал губы и тихонько кивнул.
1
В школе нерадивых строго наказывали. – Здесь и далее – примеч. авт.
2
Ахун – богослов, ученый мулла.
3
Паломник; человек, совершивший хадж в Мекку
4
Уйгуры, когда готовят голубей в пищу, не режут их, а сворачивают им шеи.