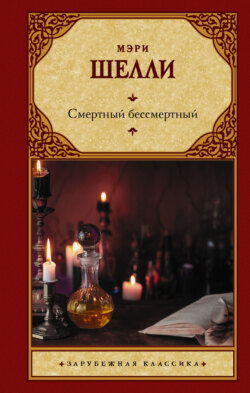Читать книгу Смертный бессмертный - Мэри Шелли - Страница 3
Дурной Глаз
ОглавлениеКрасив албанец в юбочке с подбором,
В чалме, с ружьем в насечке золотой
И в куртке, шитой золотым узором;
Вот, в алых шарфах, македонцев рой.
Джордж Байрон. Паломничество Чайльд-Гарольда. Песнь вторая[25]
Мореот[26] Катустий Зиани держал путь по Янинскому пашалыку[27]. Он устал и страшился обитателей этой местности, известных своими разбойничьими привычками; однако бояться было нечего. В пустынных деревушках, где останавливался он, усталый и голодный, или в необитаемой глуши, порой окруженный шайкой клефтов[28], или в городах, где не встречался ему ни единый соотечественник – лишь дикие обитатели гор и деспотичные турки, – везде, едва объявлял он себя побратимом[29] Дмитрия Дурного Глаза, каждая рука протягивалась ему навстречу, каждые уста произносили приветствие.
Албанец Дмитрий родился в деревне Корво. Среди диких гор, что вздымаются между Яниной и Тепелене, протекает глубокий и широкий поток Аргирокастрон: с запада защищают его крутые лесистые холмы, с востока затеняют высокие горы. Высочайшая из них зовется горой Требуччи: на романтических склонах ее, заметная издали своей мечетью с куполами минаретов, что высятся над пирамидальными кипарисами, расположилась живописная деревушка Корво. Овцы и козы составляют явное достояние ее обитателей; но куда бо́льшие богатства доставляют им ружья и ятаганы, воинственные обычаи и благородное искусство грабежа. Среди народа, славного беззаветной отвагою и кровопролитным ремеслом, как никто другой был прославлен Дмитрий.
Говорили, что в молодости Дмитрий отличался более мягким нравом и утонченным вкусом, чем свойственно его соотечественникам. Он путешествовал и изучал европейские науки, чем, впрочем, нимало не возгордился. Он умел читать и писать по-гречески, и за кушак его, рядом с пистолетами, нередко бывала заткнута книга. Несколько лет он провел на Хиосе, самом цивилизованном из островов Греции, и женился на хиотке. Презрение к женщинам – характерная черта албанцев; но Дмитрий, став мужем Елены, перенял более рыцарские взгляды и обратился в лучшую веру. Часто отправлялся он в родные горы и становился под знамена славного Али, но неизменно возвращался назад, на остров, ставший ему домом. Любовь охватила все существо укрощенного варвара, более того – неразрывно слилась с его живым, бьющимся сердцем, стала благороднейшей частью его самого́, божественной формой, в которой переплавилась его грубая натура.
Вернувшись однажды из очередного албанского похода, он обнаружил, что дом его разграблен майнотами[30]. Елена… ему указали на ее могилу, но не осмелились рассказать, как она умерла; единственное его дитя, милая малютка-дочь, была похищена; дом – сокровище любви и счастья – разрушен; богатство исчезло без следа. Три года провел Дмитрий в поисках потерянной дочери. Он подвергался тысяче опасностей; выносил неописуемые лишения; он осмелился потревожить диких зверей в их логове – майнотов в их приморском убежище; он напал на них, а они на него. Знаком его отваги стал глубокий шрам, пересекший щеку и бровь. От этой раны он едва не умер – но Катустий, увидев стычку на берегу и человека, брошенного умирать, сошел с мореотской саколевы[31], взял раненого к себе, выходил и вылечил. Они обменялись клятвами дружбы, и некоторое время албанец разделял труды своего побратима; но мирное ремесло купца не пришлось ему по вкусу, и он вернулся в Корво.
Кто узнал бы в этом изуродованном дикаре красивейшего из арнаутов[32]? Вместе с переменой в облике изменился и нрав его: он сделался свиреп и жестокосерд; улыбался, лишь отправляясь на опасное предприятие. Он стал худшим из разбойников – разбойником, получающим наслаждение от кровопролития. Так прошли его зрелые годы; к старости натура его сделалась еще безжалостнее, взор – еще мрачнее; люди трепетали от его взгляда, женщины и дети восклицали в ужасе: «Дурной глаз!» Толки о дурном глазе распространились; соглашался с ними и сам Дмитрий и наслаждался своей ужасной способностью: когда жертва дрожала и слабела под его взглядом, злобный смех, коим увеличивал он торжество своей силы, вселял в трепещущее сердце околдованного еще больший ужас. Однако Дмитрий умел управлять стрелами своего взгляда: товарищи еще более уважали его за эту сверхъестественную силу, ибо не боялись, что он станет испытывать ее на них.
Дмитрий только что вернулся из похода на Превезу. Он и его товарищи захватили богатую добычу. В честь возвращения они зажарили целиком козу, осушили несколько бурдюков вина, а затем, собравшись вокруг костра, отдались наслаждению «танца с платками»: громогласным хором повторяя припев, то падали на колени, то снова вскакивали и самозабвенно кружились вокруг огня. Лишь у Дмитрия было тяжело на сердце: он не стал плясать со всеми и присел в стороне. Попробовал он было голосом и лютней подтягивать песню – но изменившаяся мелодия скоро напомнила ему о лучших днях; голос его затих, инструмент выпал из рук, и голова опустилась на грудь.
При звуке чужих шагов он приподнялся; в фигуре, представшей перед ним, узнал друга – и не ошибся. С радостным восклицанием приветствовал он Катустия Зиани, пожал ему руку и поцеловал в щеку. Катустий был утомлен путешествием; друзья удалились в дом Дмитрия – глинобитную беленую хижину, земляной пол которой был безукоризненно сух и чист, а стены увешаны оружием, в том числе богато изукрашенным, и другими трофеями его разбойничьих побед. Престарелая служанка разожгла огонь; друзья устроились на циновках из белого камыша, пока старуха варила ягненка и готовила пилав[33]. На деревянный чурбан перед ними она поставила блестящий жестяной поднос с кукурузными лепешками, козьим сыром, яйцами и маслинами; кувшин воды из чистейшего источника и мех с вином были призваны освежить и приободрить жаждущего путника.
После ужина гость заговорил о цели своего приезда.
– Я пришел к своему побратиму, – начал он, – чтобы потребовать исполнения клятвы. Когда я спас тебя в Буларии от свирепых каковуниев, ты обязался мне вечной благодарностью: исполнишь ли свой долг?
Дмитрий сдвинул брови.
– Брат мой! – воскликнул он. – Нет нужды напоминать мне о долге. Жизнь моя в твоих руках – какой подмоги ждет от горного клефта сын богача Зиани?
– Сын Зиани – нищий, – ответствовал Катустий, – и погибнет, если брат откажет ему в помощи.
И мореот рассказал свою историю.
Отец его, богатый коринфский купец, взрастил его как единственного сына. Часто Катустий плавал как каравокейри[34] на судах своего отца в Стамбул и даже в Калабрию. Несколько лет назад он попал в плен к берберским корсарам. С тех пор, рассказывал Катустий, жизнь его изобиловала опасностями; в действительности же она стала бесчестной, ибо мореот сделался вероотступником и завоевал расположение своих новых союзников не мужеством – он был труслив, – а хитростью, направленной к преумножению богатства. Однако посреди такой жизни какой-то суеверный страх овладел им, и он вернулся к своей прежней религии. Он бежал из Африки, странствовал по Сирии, перебрался в Европу, обосновался в Константинополе. Прошли годы. Наконец, уже собираясь жениться на фанариотской[35] красавице, он внезапно снова впал в бедность и вернулся в Коринф, чтобы узнать, не преумножилось ли за время его долгих странствий состояние отца. И что же? Отцовское богатство в самом деле возросло необычайно, но было навеки потеряно для Катустия. Во время его продолжительного отсутствия отец признал наследником другого сына и год назад, умирая, завещал все тому. Какой-то неведомый родственник, вместе с женой и сыном, получил долгожданное наследство! Правду сказать, Кирилл предлагал разделить с братом состояние отца: но Катустий желал всего и не хотел мириться на половине. Тысячи планов убийства и мести роились в его мозгу; но кровь брата была для него священна, к тому же он понимал, что нападение на Кирилла, человека известного и уважаемого в Коринфе, дело рискованное. Было и другое препятствие – его сын. Приняв наконец решение, Катустий поспешно отплыл в Бутринто и отправился за советом и помощью к своему побратиму-арнауту, которому когда-то спас жизнь. Историю свою он рассказал не так, как здесь изложено, а сильно приукрасил; на случай, если Дмитрий нуждается в оправдании своих поступков – ибо понятие справедливости было ему не чуждо – Катустий изобразил Кирилла негодяем, обманом втершимся в доверие к отцу, а передачу наследства – делом бесчестным и подлым.
Ночь напролет раздумывали побратимы, как передать богатство Зиани в руки старшего сына неразделенным. На рассвете Катустий уехал, а два дня спустя и Дмитрий покинул свою горную хижину. Прежде всего купил он коня, к которому уже долго присматривался, любуясь его красотой и быстрым бегом, запасся патронами и наполнил пороховой рог. Богатое снаряжение было на нем и праздничное платье; оружие его блистало на солнце. Длинные волосы черной волной ниспадали из-под обернутой вокруг головы шали до самого пояса; с плеча спускался белый плащ; лицо в морщинах от солнца и ветра, грозно нахмуренные брови, длинные смоляные усы, шрам на лице, дикий, безжалостный взгляд – весь вид его, любезный варварскому вкусу, но преисполненный свирепости и разбойничьей удали, внушал трепет. Неудивительно, что суеверные греки верили, будто во взгляде его обитает некий сверхъестественный злой дух, дух проклятия и разрушения! Подготовившись к путешествию, Дмитрий выехал из Корво, пересек леса Акарнании и направился в Морею.
– Отчего дрожит Зелла и прижимает сына к груди, словно страшится зла? – так спрашивал Кирилл Зиани, вернувшись из Коринфа в свою сельскую обитель.
Родное его селение было воплощением красоты. Крутые склоны холмов, покрытых оливами и апельсиновыми деревьями, смотрелись в синие воды Эгинского залива. Миртовые заросли, купающие в море свои темные блестящие листья, распространяли кругом сладостный аромат. Домик с низкой крышей тонул в тени двух огромных смоковниц; к северу, на равнине, простирались пшеничные поля и виноградники.
Увидев мужа, Зелла улыбнулась – но щеки ее были еще бледны и губы дрожали.
– Теперь, когда ты рядом, – отвечала она, – я ничего не боюсь; но нашему Констансу грозит опасность: я с дрожью вспоминаю, что на него взглянул Дурной Глаз.
Кирилл подхватил сына на руки.
– Клянусь головою, – воскликнул он, – не о сглазе ли ты говоришь? Франки[36] думают, что это суеверие, но мы лучше остережемся. Что ж, щечки у него по-прежнему розовые, кудри вьются чистым золотом… ну же, Констанс, мой храбрец, поздоровайся с отцом!
Боялись они недолго: никакой болезни не последовало, и супруги скоро забыли о случае, наполнившем их сердца тревогой. Неделю спустя Кирилл, по обыкновению, вернулся из плавания с грузом коринки[37] в свое прибежище на берегу моря. Стоял чудный летний вечер: скрип водяной мельницы перекликался с последней песней цикады; ленивые волны почти бесшумно наползали на прибрежную гальку и откатывались прочь. Вот и дом: но где же его милый цветок? Зелла не вышла Кириллу навстречу. Слуга указал на часовню на склоне соседнего холма; там Кирилл нашел жену; сын (которому было без малого три года) дремал на руках у кормилицы, а Зелла пламенно молилась, и по щекам ее струились слезы. В тревоге Кирилл стал спрашивать, что значит эта сцена; вместо ответа кормилица разрыдалась; Зелла продолжала молиться со слезами; видя, что плачут все вокруг, заплакал и мальчик. Этого отец вытерпеть не мог. Выйдя из часовни, Кирилл прислонился к орешнику и воскликнул (есть у греков такая поговорка): «Благословенно будь несчастье, лишь бы оно явилось одно!» Но что же произошло? Он ничего не мог понять – но дух зла всего страшнее, когда невидим. Кирилл был счастлив: прелестная жена, цветущий сын, мирный дом, успех в делах и надежда на богатство – всем одарила его судьба; но как часто Фортуна превращает жизненные блага в ловушку для простаков! Он – раб в порабощенной стране, смертный, подвластный неведомым судьбам; быть может, он обречен, и десять тысяч отравленных стрел уже нацелены ему в сердце.
Из часовни показалась Зелла – робкая, трепещущая; ее объяснение не успокоило его страхов. Снова Дурной Глаз взглянул на ребенка, и в этом втором посещении ясно проявилась недобрая цель. Тот же человек, арнаут со сверкающим оружием, в многоцветном платье, верхом на вороном скакуне, появившись из соседней падубовой рощи, на всем скаку подлетел к дому и у самого порога вдруг натянул поводья. Ребенок подбежал к нему; арнаут устремил на него свои страшные глаза.
– Как хорош ты, ясный мальчик, – проговорил он, – сияют твои голубые глаза, прекрасны твои золотые кудри – но красота твоя недолговечна: взгляни на меня!
Невинное дитя взглянуло, вскрикнуло и без чувств повалилось на землю. Женщины поспешили к нему; албанец пришпорил коня и, промчавшись галопом через равнину, скоро скрылся из глаз на склоне лесистого холма. Зелла с кормилицей отнесли ребенка в часовню, побрызгали на него святой водой и, едва он очнулся, обратились к Панагии[38] с усердными мольбами уберечь его от сглаза.
Прошло несколько недель: маленький Констанс становился все красивее и смышленее. Ничто не указывало, что цветок любви готов увянуть, и родители забыли о страхе. Временами Кирилл осмеливался даже шутить о Дурном Глазе; но Зелла считала, что смеяться над такими вещами – к несчастью, и крестилась всякий раз, когда об этом заходила речь.
В это время их жилище навестил Катустий. «Я направляюсь в Стамбул, – так он сказал, – и заехал узнать, не могу ли быть чем-нибудь полезен брату в его денежных делах». Кирилл и Зелла приняли его с сердечной теплотой и с радостью решили, что братская любовь, похоже, начала согревать его сердце. Он казался полон надежд и ожиданий. Братья долго обсуждали его планы, европейскую политику и интриги Фанара; касались в разговоре и мелких коринфских дел, поговорили и о том, что Кирилл, несмотря на молодость, может вскоре получить должность коджа-баши[39] провинции. Наутро Катустий стал готовиться к отъезду.
– Об одном одолжении, – сказал он на прощание, – просит вас добровольный изгнанник: не проводят ли меня брат и сестра по дороге к Навплии, где я сажусь на корабль?
Зелле не хотелось покидать дом пусть даже на несколько часов; но она позволила себя уговорить, и все вместе они прошли несколько миль по дороге к столице Мореи. В полуденный час они простились в тени дубовой рощи, а затем расстались.
На обратном пути супруги беседовали о своей безмятежной жизни и мирном счастье, столь отличном от одиноких наслаждений бездомного скитальца. Чем ближе подходили они к своей обители, тем сильнее возрастало в них блаженное чувство: радостно предвкушали они, как боготворимое дитя пролепечет им свой привет. Вот открылась плодородная долина, где стоял их дом: она была расположена на южной стороне устья и выходила на Эгинский залив; все здесь зеленело, все дышало покоем и красотой. Супруги спустились в долину: здесь странное зрелище привлекло их внимание. Плуг с впряженными в него быками был брошен посреди пашни; животные отволокли его к краю поля и старались лечь, насколько позволяло им ярмо. Солнце уже коснулось своего западного предела, и прощальные лучи его золотили верхушки деревьев. Все вокруг молчало; затихла даже вечная мельница; не видно было слуг за обычными деревенскими работами. И вдруг из дома отчетливо донесся звук рыданий.
– Мое дитя! – вскричала Зелла.
Кирилл начал ее успокаивать, но из дома послышались новые рыдания, и он поспешил вперед. Зелла спешилась и хотела бежать за ним, но бессильно упала у дороги. Муж ее скоро вернулся.
– Не отчаивайся, любимая, – воскликнул он, – я ни днем, ни ночью не буду знать покоя, пока не верну Констанса – верь мне – прощай!
С этими словами он поскакал прочь. Итак, сбылись ее худшие опасения; материнское сердце, еще недавно переполненное радостью, обратилось в приют от- чаяния.
Рассказ кормилицы о прискорбном происшествии прибавил к страху Зеллы новый, ужаснейший страх. Вот что произошло: снова появился незнакомец с дурным глазом, но не так, как раньше, проносясь мимо дома с орлиной быстротой, а словно возвращаясь из долгого путешествия; конь его хромал и шел, опустив голову, сам арнаут был покрыт пылью и, казалось, едва держался в седле.
– Ради жизни твоего дитяти, – обратился он к кормилице, – дай чашу воды умирающему от жажды.
Кормилица, не выпуская из рук Констанса, подала путнику кувшин. Едва растрескавшиеся губы незнакомца коснулись воды, сосуд вдруг выпал из его рук. Женщина отшатнулась – и в то же мгновение, рванувшись вперед, сильной рукой чужестранец выхватил ребенка из объятий кормилицы. Вмиг исчезли оба – со скоростью стрелы арнаут пересек равнину и углубился в чащу. Воплями и криками о помощи кормилица созвала домашних. Они бросились по следам похитителя, и пока ни один не вернулся.
По мере того как сгущались сумерки, слуги возвращались. Им нечего было сообщить: они обшарили холмы, прочесали рощи – но не узнали даже, какой дорогой уехал албанец.
К ночи вернулся и Кирилл, изнуренный, осунувшийся, убитый горем: он не нашел никаких следов сына. Наутро он снова отправился на поиски и на этот раз несколько дней не возвращался. Для Зеллы дни тянулись бесконечно: то она сидела, погруженная в безнадежное уныние, то всходила на близлежащий холм посмотреть, не едет ли муж. Но недолгим было спокойствие: слуги, оставленные для охраны, дрожа, предупредили ее, что вокруг бродят дикие арнауты; и сама она видела, как какой-то высокий человек, закутанный в потертый белый плащ, крался по мысу, но, заметив ее, мгновенно исчез; а однажды ночью ее пробудили от беспокойной дремоты стук копыт и фырканье коня. Несчастная, какой только может быть мать, потерявшая ребенка, сама она почти не страшилась беды; но она себе не принадлежала, жизнью ее владел тот, кто был ей невыразимо дорог, и сознание долга, как и любовь, заставляло ее заботиться о своей безопасности. Кирилл вернулся наконец – еще мрачнее прежнего, но в нахмуренных бровях его было больше решимости, в движениях – больше энергии; он нашел ключ к загадке, хоть этот ключ мог привести лишь в глубокое отчаяние.
Кирилл узнал, что Катустий не сел на корабль в Навплии. Он присоединился к шайке арнаутов, рыщущих близ Василико, и вместе с протоклефтом[40] отправился в Патры; там они сели на моноксилон[41] и отплыли к северным берегам залива Лепанто; с собой они везли ребенка, объятого тяжким, болезненным сном. У бедного Кирилла кровь стыла в жилах при мысли, что его мальчик, быть может, стал жертвой колдовства и злых чар. Он хотел последовать за разбойниками, но получил сообщение, что прочие клефты направились на юг, к Коринфу. Кирилл не мог пуститься в долгие поиски по глухому бездорожью Эпира, оставив Зеллу беззащитной перед нападением этих бандитов. Вот почему он вернулся – посоветоваться с ней и придумать какой-нибудь план, который сохранит ее в безопасности, а его розыскам посулит успех.
После долгих обсуждений было решено, что сперва Кирилл отвезет Зеллу в родительский дом и, прежде чем ринуться в гущу опасностей, поговорит с ее отцом, доверившись его военному опыту. Похищение сына может быть ловушкой, и не дело ему, единственному защитнику ребенка и его матери, безрассудно подвергать себя опасности.
Зелла, как ни странно (ибо этого никак нельзя было предположить по ее голубым глазам и светлой коже), была дочерью майнота: эти обитатели мыса Тенар, для прочего мира страшные и ненавистные, славятся семейными добродетелями и силой родственных уз. Зелла любила отца и свой дом на скалистом морском берегу, откуда в недобрый час ей пришлось бежать.
Ближайшие соседи майнотов, каковунии, населяют самые дикие и нецивилизованные районы Майны: это угрюмый и подозрительный народ, их низкорослые, приземистые фигуры являют разительный контраст с гармоничной красотой майнотов. Два племени проводят свой век в непрерывных раздорах: узкий гористый мыс, с трех сторон окруженный морем, предоставляет им разом безопасное укрытие от чужеземного врага и все удобства для междоусобной войны. Как-то раз, когда Кирилл плыл вдоль берега, непогода заставила его зайти в небольшой залив, на берегу которого стоит городок Кардамила. Поначалу моряки страшились пиратов, но приободрились, обнаружив, что пираты поглощены собственными разногласиями. Шайка каковуниев осаждала укрепленную скалу близ Кардамилы; разбойники обложили крепость, где нашли прибежище майнотский капитан и его семейство. Прошло два дня; жестокие ветры не позволяли Кириллу покинуть залив. На третий вечер порывы западного ветра утихли, и бриз, дующий с берега, возвестил путникам освобождение. Наступила ночь; моряки уже готовились сняться с якоря, как вдруг группа майнотов, подойдя, обратилась к ним с приветствием, и один из них, старик с властной осанкой, объявил, что хочет поговорить с хозяином судна. Это был капитан Кардамилы, командир крепости, осажденной теперь неумолимыми врагами: он не видит путей к бегству – он должен погибнуть, – единственное его желание в том, чтобы спасти от вражеских рук сокровища и семью. Кирилл согласился взять их на борт: семья состояла из старухи-матери, параманы[42] и юной красавицы-дочери. Кирилл доставил их в безопасное место – в Навплию. Вскоре после этого мать капитана и парамана вернулись в родной город, а прекрасная Зелла, заручившись отцовским согласием, стала своему избавителю женой. С тех пор дела майнота процветали: капитан Кардамилы стал вождем большого племени и человеком, уважаемым во всей округе.
К нему-то и направились убитые горем родители: маленькая саколева их вышла из Эгинского залива, прошла острова Скиллос и Керигос, обогнула крайнюю точку Тенара; скоро благодаря попутным ветрам супруги достигли желаемого порта и вошли в гостеприимный дом старого Камараза. Их историю он выслушал с гневом, поклялся бородою, что омоет свой кинжал кровью из сердца Катустия, и настоял на том, чтобы отправиться в Албанию вместе с зятем. Времени терять не стали – седой, но полный сил моряк торопил приготовления. Кирилл и Зелла расстались: тысячи страхов, тысячи часов горя пролегли между супругами, еще так недавно наслаждавшимися ничем не омраченным счастьем. Бурное море, дальние земли – вот ничтожнейшие из опасностей, их разделивших; они не устрашились бы и худшего; но надежда, хрупкий цветок, поблекла в их сердцах, когда, после прощальных объятий, они оторвались друг от друга.
Из плодородных окрестностей Коринфа Зелла вернулась к родным скалистым берегам. В миг, когда паруса саколевы растаяли вдали, казалось, всякая радость покинула осиротевшую мать. Дни, недели текли в одиночестве и горестном ожидании: Зелла не принимала участия ни в плясках, ни в собраниях деревенских женщин, что сходились по вечерам для песен, рассказов, танцев и веселья. Уединившись в самой пустынной части отцовского дома, неотрывно смотрела она сквозь решетчатое окно на плещущее внизу море или блуждала по каменистому берегу; когда же буря омрачала небеса и обрывистые скалы под сенью гонимых ветром туч делались пурпурными, когда рев моря разносился по побережью и белые хребты волн на глади океана казались овечьими стадами, бегущими по широкой равнине – тогда Зелла не ощущала ни ветра, ни холода, и не возвращалась домой, пока ее не призывали служанки. Покорная, шла она в дом – но недолго там оставалась: свирепые ветры взывали к ней, и бушующий океан упрекал в бесстрастии. Не в силах совладать с собой, спешила она из своего жилища на берег, не думая о том, что папуши ее забыты на горной тропе, платье в беспорядке и что негоже в такую непогоду выходить из дому без покрывала. Неисчислимые часы проводила Зелла – осиротевшее дитя счастия, – прислонившись к холодной, темной скале; над ней нависали хмурые утесы, волны разбивались у ее ног, брызги окатывали ее нежные ноги, а кудри трепал ветер. Она рыдала безутешно: но, стоило показаться на горизонте парусу, как Зелла осушала быстротекущие слезы; вперив взор вдаль, она не отрывала прекрасных глаз от тающих вдали очертаний корабля. Порою буря превращала тучи в гигантские башни, бушующее море темнело, становилось все свирепее – тогда естественная скорбь Зеллы усугублялась суеверным ужасом: Мойры, старухи-Судьбы ее родной земли, завывали в порывах урагана, призраки, твердящие, что дитя ее страждет от Дурного Глаза, а муж стал жертвою ужасного фракийского колдовства, вроде того, каким занимаются по соседству в Лариссе, наполняли ее прерывистый сон и страшными тенями преследовали по пробуждении. Померкла сияющая прелесть Зеллы, глаза потеряли блеск, тело – цветущую округлость; силы покинули ее, и с трудом спускалась она изо дня в день на свое всегдашнее место – чтобы снова, как прежде, смотреть и смотреть в пустоту.
Что страшнее ожидания грядущих бедствий? Порою среди слез – или, хуже того, среди бесслезных вздохов отчаяния – мы упрекаем себя за то, что своими мрачными предчувствиями кличем беду; но если на дрожащих губах скорбящего и показывается улыбка, ее останавливает стон муки. Увы! Не в такие ли часы седина окрашивает темные кудри юности и горестные морщины ложатся на цветущий лик красоты? Скорбь – более желанная гостья, когда является в мрачнейшем своем обличии и погружает нас во мглу без просвета; тогда сердце уже не терзается напрасной надеждой.
Кирилл и старый Камараз, не без труда огибая многочисленные мысы Мореи, плыли вдоль берега Кардамилы к заливу Арта, на север Кефалонии и к Сан-Мауро. В пути у них было довольно времени, чтобы разработать план. Отряд мореотов, путешествующих вместе, привлек бы слишком много внимания, поэтому они решили высадить своих товарищей в разных местах и пробираться в Албанию по отдельности; первую встречу они назначили в Янине. Кирилл и его тесть высадились в самой укромной из многочисленных бухточек, разрезающих крутые и ветреные берега залива. Шестеро членов команды должны были идти иным путем и встретиться с ними в столице. За себя путники не страшились: одни, но хорошо вооруженные и защищенные мужеством отчаяния, углубились они в дебри Эпира. Успех им не сопутствовал: они дошли до Янины, не найдя ни малейшего следа. Там к ним присоединились товарищи, кои получили указания ждать в городе три дня, а затем поодиночке выходить в Тепелене, куда Кирилл и его тесть немедля направили свой путь.
В первой же встречной деревне, в Зитце[43], ждали их вести, добрые, хоть и не указывающие направления поисков. Путники испросили приюта и гостеприимства в монастыре, расположенном сразу за деревушкой, на зеленой возвышенности, увенчанной дубовой рощей. Быть может, во всем мире не найти места столь же прекрасного и романтического: купы дерев скрывают его от мира; с возвышенности открывается вид на холм и долину, усаженную виноградниками, то здесь, то там испещренную белыми точками пасущихся стад; в глубине лощины оживляет пейзаж река Каламас, а с востока, запада, севера и юга возвышаются далекие голубые вершины Зумеркас, Загора, Сулли и Акрокеравния. Кирилл завидовал нерушимому спокойствию калуеров[44]. Они приняли путников просто, но радостно и с сердечным радушием. Расспросив их о цели путешествия, монахи душевно посочувствовали тревоге отца и охотно поведали все, что знали.
Две недели назад в монастырь явился арнаут, хорошо им известный – Дмитрий Дурной Глаз, знаменитый клефт из Корво, и с ним какой-то мореот; с собой они везли ребенка, прекрасного собою, смелого и смышленого мальчика, который с отвагой, удивительной для его возраста, попросил у калуеров защиты и обвинил своих спутников в том, что они насильно увезли его от родителей. «Клянусь головою! – воскликнул албанец, – храбрый паликар[45]; он держит слово, брат; ведь он поклялся Панагией, несмотря на наши угрозы сбросить его с утеса на пищу стервятникам, что обвинит нас перед первыми же добрыми людьми, каких встретит; он не чахнет от дурного глаза, не трусит наших угроз!» При этих похвалах Катустий нахмурился. Вскоре стало ясно, что в расположении к мальчику албанец и мореот меж собой не сходятся. Суровый житель гор, глядя на ребенка, забывал всю свою суровость. Когда маленький Констанс спал, Дмитрий не отходил от него, с женской заботливостью отгоняя от дитяти мух и комаров. Когда мальчик обращался к нему, Дмитрий отвечал самыми нежными словами, осыпал его подарками, учил – такого кроху! – подражать воинским упражнениям. Когда же мальчик преклонял колени и обращался к Панагии с мольбой вернуть его родителям – детский голосок его дрожал, и по щекам струились слезы, – глаза Дмитрия увлажнялись, и он прикрывал лицо плащом. «Так, быть может, молилась и моя дочь, – шептало ему сердце. – Но небеса нас не слышат – увы! – где-то она теперь?» Ободренный такими знаками сочувствия, которые дети скоро замечают, Констанс однажды обвил ручонки вокруг шеи арнаута и воскликнул, что любит его, что будет за него сражаться, когда вырастет – лишь бы Дмитрий вернул его в Коринф! При этих словах Дмитрий вскочил, бросился к Катустию, принялся его увещевать – в ответ безжалостный напомнил ему о данном обете. И все же албанец поклялся, что ни один волосок не упадет с головы ребенка; но Катустий, незнакомый с раскаянием, уже замыслил племяннику гибель. С этих пор начались меж побратимами частые и жестокие споры; наконец, устав от препирательств, Катустий решил достичь своей цели хитростью. Однажды ночью он тайно покинул монастырь, забрав с собой дитя. На Дмитрия, когда он услышал об их отъезде, добрым калуерам страшно было взглянуть: инстинктивно схватились они за всякие железные предметы, до которых могли дотянуться, дабы отвратить действие дурного глаза, сверкавшего с ни чем не сдерживаемой свирепостью. Несколько монахов в панике поспешили к обитой железом двери, ведущей из обители наружу; с мощью льва Дмитрий отшвырнул их, выбежал за ворота и, словно бурный поток, напоенный весенним таянием снегов, ринулся вниз по крутому холму. Не столь стремителен полет орла, не столь неукротим бег дикого зверя!
Таков был ключ, полученный Кириллом. Слишком долго было бы нам следовать за ним в дальнейших поисках: вместе со старым Камаразом он пересек долину Аргирокастрона, взошел на гору Требуччи и достиг Корво. Дмитрий, как выяснилось, вернулся, собрал отряд верных товарищей и снова покинул дом; куда он направился и что замышлял – о том односельчане судили розно. Одно из указаний направило наших путников в Тепелене, а оттуда назад в Янину, и здесь им снова улыбнулась удача. Они остановились на ночлег у священника в деревушке Мосме, лигах в трех к северу от Зитцы, где им встретился арнаут, покалеченный падением с лошади; некогда он принадлежал к шайке Дмитрия; от него они узнали, что арнаут выследил Катустия, гнался за ним по пятам и принудил искать убежища в монастыре Пророка Ильи, что стоит на одной из высоких вершин Загоры, в восьми лигах от Янины. Дмитрий последовал за ним и потребовал ребенка. Калуеры отказались его выдать, и теперь клефт в безумной ярости осаждает монастырь, стремясь силой вернуть мальчика, любовь к которому так нежданно оживила его окаменевшее сердце.
В Янине Камараз и Кирилл встретились с товарищами и вместе отправились в путь, чтобы присоединиться к своему невольному союзнику. Свирепее горного потока или бушующих океанских валов, тот вселял ужас в сердца осажденных непрестанными и неустрашимыми нападениями. Катустий, оставив ребенка в монастыре, отправился в ближайший загорийский город, дабы призвать на подмогу местного белук-баши. Загорийцы – мягкие, дружелюбные, общительные люди: они жизнерадостны, умны и откровенны, храбрость их известна всему свету, даже диким обитателям гор Зумеркас, а грабеж, убийство и иное насилие им неведомо. Эти добрые люди немало разгневались, услыхав, что шайка арнаутов осадила священный приют любимых ими калуеров. Отважнейшие из них собрались в отряд и, взяв с собой Катустия, поспешили к монастырю, чтобы изгнать нечестивых клефтов. Но они прибыли слишком поздно. В полночь, когда монахи горячо молились об избавлении их от врагов, Дмитрий и его молодцы вышибли обитую железом дверь и ворвались в святые пределы. Протоклефт подошел к вратам святилища и, возложив на них руки, поклялся, что пришел спасти, а не погубить. Его увидел Констанс. С криком радости мальчик вырвался из рук монаха и бросился в объятия арнаута: это была победа. Принеся монахам искренние извинения за причиненные волнения, клефт с товарищами покинул часовню, увезя с собой свой трофей.
Несколькими часами позже вернулся Катустий: и так ловко этот предатель изложил свою историю добрым загорийцам, так сокрушался о судьбе малютки-племянника в руках «этих злодеев», что загорийцы решились следовать за ним и, поскольку числом они превосходили разбойников, вырвать мальчика из их губительных рук. Катустий, обрадованный таким предложением, настоял на том, чтобы ехать немедля. На рассвете они пустились в путь по горным тропам следом за зумеркийцами.
Счастливый тем, что вернул своего маленького любимца, Дмитрий усадил его на коня впереди себя и во главе своих товарищей двинулся в путь вверх по горным склонам, поросшим древними дубами Додоны, а ближе к вершине – гигантскими угрюмыми соснами. После нескольких часов пути они спешились, чтобы передохнуть. Для привала избрали мрачное ущелье, угрюмость которого усугублялась широкими тенями темных падубов; густой подлесок и россыпь каменных обломков не давали лошадям идти быстро. Разбойники спешились и сели у ручья. Явилась небогатая трапеза, и Дмитрий тысячью ласковых слов убедил мальчика поесть. Вдруг один из его людей, поставленный на страже, принес весть, что от монастыря Пророка Ильи идет сюда отряд загорийцев, и Катустий предводительствует ими; и другой страж поднял тревогу, объявив, что по янинской дороге приближаются шесть или восемь хорошо вооруженных мореотов. В тот же миг исчезли все признаки бивака. Арнауты взбежали на холмы: одни укрылись за скалами, другие за стволами деревьев; все затаились, чтобы не спугнуть пришельцев. Скоро появились мореоты, взбираясь на гору по узкой тропе, позволявшей идти лишь двоим в ряд; не ведая об опасности, они шли беспечно, пока выстрел, что просвистел у одного из них над головой и сбил ветку дерева, не указал им на опасность. Греки, привычные к такому роду войны, также бросились под защиту скал и принялись стрелять оттуда, целясь в противников, занявших более возвышенные позиции; пригибаясь и перебегая от камня к камню, они палили так часто, как только успевали перезаряжать пистолеты. Один лишь старик остался на тропе. Камараз, старый моряк, не раз встречал врага на борту своего каика[46]; на судне он и сейчас был бы первым в бою, но лесная битва требовала недоступной ему быстроты. Кирилл звал его укрыться за низким широким камнем, но майнот лишь махнул рукой.
– Не страшись за меня, – крикнул он, – я знаю, как надлежит умирать!
Храбрец любит храбреца. Увидев, что старик стоит недвижимо, мишенью для всех пуль, Дмитрий поднялся из-за своего скалистого укрытия и приказал своим людям прекратить огонь. Затем, обращаясь к врагу, он крикнул:
– Кто ты? Откуда ты? Если пришел с миром, иди своим путем. Отвечай и не бойся!
Расправив плечи, старик ответил:
– Я майнот, и страх мне неведом. Вся Эллада трепещет перед пиратами с мыса Матапан, а я – один из них! Я пришел не с миром! Смотри – в своих руках ты держишь причину нашего раздора! Я – дед этого ребенка: отдай его мне!
Если бы Дмитрий держал в руках своих змею и она вдруг зашипела бы у него на груди – и тогда его чувства не изменились бы столь внезапно.
– Отпрыск майнотов!..
Он разжал руки, и Констанс упал бы, если бы не обхватил его за шею. Тем временем весь отряд покинул свои каменистые бастионы и сгрудился на тропе. Дмитрий оторвал ребенка от себя; в этот миг он мог бы сбросить его с утеса вниз – но в то самое мгновение, когда он замер, дрожа от избытка страстей, на тропе появился Катустий и с ним передовые загорийцы.
– Стой! – вскричал разъяренный арнаут. – Смотри, Катустий! Смотри, друг, которому я, влекомый неодолимой судьбой, дал безумную и бесчестную клятву! Теперь я исполняю твое желание – дитя майнота умрет! Сын проклятого племени падет жертвою моей праведной мести!
В порыве ужаса Кирилл бросился к албанцу: он навел мушкет, но не выстрелил, опасаясь поразить собственное дитя. Старый майнот, не столь робкий и более отчаянный, прицелился; Дмитрий это заметил и метнул в него кинжал, уже направленный на ребенка – кинжал вошел тому в бок, – но в это время Констанс, почувствовав, что хватка его былого защитника разомкнулась, бросился в объятия отца.
Камараз упал, однако рана его была незначительна. Он увидел, как окружают его загорийцы и арнауты, увидел, что его спутники стали пленниками. Дмитрий и Катустий бросились к Кириллу, стремясь завладеть плачущим мальчиком. Майнот поднялся: тело его ослабело, но сердце не знало слабости; заслонив своим телом отца и дитя, он перехватил подъятую руку Дмитрия.
– Пусть, – воскликнул он, – на меня падет твоя месть! Я – из проклятого племени; дитя невинно! Майна не может похвалиться, что это ее сын!
– Лживый пес! – вскричал разъяренный арнаут. – Этот обман тебе не поможет!
– Нет, ради душ тех, кого ты любил, выслушай меня! – продолжал Камараз. – И, если я не подтвержу своих слов, пусть смерть заберет меня и детей моих! Отец мальчика из Коринфа, а мать его – хиотка!
– Хиотка?! – От этого слова у Дмитрия кровь застыла в жилах. – Злодей! – вскричал он, отталкивая руку Катустия, занесенную над бедным Констансом. – Это дитя под моей охраной, не смей прикасаться к нему! Говори, старик, и ничего не страшись, если только говоришь правду.
– Пятнадцать лет назад, – начал Камараз, – я на своем каике в поисках добычи высадился на хиотский берег. Недалеко от моря стоял скромный дом из орешника – там обитала вдова богатого островитянина со своей единственной дочерью. Дочь вышла замуж за албанца; он в то время был в отъезде. Поговаривали, что у себя в доме добрая женщина прячет сокровище – да и дочь ее стала бы славной добычей! – и мы решили рискнуть. Мы ввели судно в узкую бухточку, дождавшись, когда луна пойдет на убыль, высадились и под покровом ночи прокрались к одинокому жилищу женщин…
Дмитрий схватился за рукоять кинжала – кинжала не было; наполовину выхватил из-за кушака пистолет – но маленький Констанс, вновь прильнув к своему былому другу, схватил его за руку. Клефт взглянул на мальчика; он страстно желал прижать его к груди, но боялся обмана. Он отвернулся и закрыл лицо плащом, пряча скорбь и не давая воли своим чувствам, пока не услышит все до конца. Камараз продолжал:
– Все обернулось куда хуже, чем я ожидал. У молодой женщины была дочь: страшась за жизнь ребенка, она боролась с моими молодцами, словно тигрица, защищающая потомство. Я в другой комнате разыскивал спрятанное сокровище, как вдруг душераздирающий вопль пронзил воздух. Хоть никогда прежде я не ведал жалости, этот крик проник мне в сердце – но было слишком поздно: женщина уже пала на землю, влага жизни сочилась из ее груди. Не знаю почему, но сострадание к зарубленной красавице пересилило во мне иные чувства. Я приказал перенести ее и дитя на борт, чтобы посмотреть, нельзя ли ее спасти, но она умерла, едва мы снялись с якоря. Я подумал, что она предпочла бы покоиться на родном острове, а кроме того, по правде сказать, боялся, что, если увезу ее, она обернется вампиром и начнет меня преследовать; вот почему мы оставили тело хиотским священникам, а девочку увезли с собой. Ей было около двух лет, она едва могла пролепетать несколько слов: мы разобрали только, что ее зовут Зеллой. Она-то и есть мать этого мальчика!
Много ночей бедная Зелла не смыкала глаз, следя за прибывающими в Кардамилу кораблями. Видя, что госпожа лишилась сна, служанка подмешала в пищу опиум и уговорила ее немного поесть; бедная женщина забыла, что дух сильнее плоти, а любовь одолевает все препятствия, и телесные, и духовные. С открытыми глазами лежала Зелла на своем ложе: дух ее затуманился, но сердце бодрствовало. Среди ночи, ведомая необъяснимым порывом, она прильнула к окну – и увидела, что в залив входит маленькая саколева: она шла быстро, подгоняемая попутным ветром, и скоро скрылась за выступающим утесом. Легко спрыгнула Зелла на мраморный пол своих покоев, окутав плечи шалью, спустилась по каменистой тропе и быстрым шагом достигла берега. Судно все не показывалось, и Зелла уж готова была поверить, что ее обмануло возбужденное воображение – однако не трогалась с места. Всякий раз, пытаясь шевельнуться, она ощущала слабость и тошноту; веки ее отяжелели и сами собой закрывались. Наконец желание заснуть стало необоримым: она прилегла на камни, плотнее завернулась в шаль и забылась сном.
Так глубоко было ее забытье, навеянное снотворным снадобьем, что много часов она не замечала, что творилось вокруг. Просыпалась она постепенно, и постепенно осознавала, что происходит. Веет прохладный свежий ветерок – значит, она по-прежнему на берегу моря; где-то рядом плещут волны – тот же плеск звучал у нее в ушах перед сном. Но ложе ее не из камня, и мрачный утес более не служит ей пологом. Зелла подняла голову… что это? Она на борту суденышка, разрезающего морские волны; под головой у нее соболья накидка; по левую руку – мыс Матапан; корабль идет прямо на полдень. Ее объял не страх – изумление; быстрой рукой отодвинула она занавес, скрывавший ее от глаз моряков…
Боже! Страшный албанец сидел с ней рядом, и на руках его покоился Констанс. Зелла испустила крик – Кирилл обернулся, и в следующий миг она упала к нему в объятия.
25
Перевод Г. Шенгели.
26
Мореоты, или морейцы – греки – жители Пелопоннеса.
27
Административно-территориальная единица в Османской империи, управляемая пашой.
28
Разбойники (греч.).
29
В Греции, в особенности в Иллирии и Эпире, часто случается, что люди одного пола клянутся друг другу в дружбе; существует и церковный обряд, освящающий эту клятву. Мужчины, соединенные клятвой, именуются побратими, женщины – посестриме. – Примеч. автора.
30
Этническая группа греков, уроженцы полуострова Мани, или Майна.
31
Греческое малоразмерное парусное судно, широко использовавшееся для плаваний между островами и полуостровами Эгейского моря.
32
Субэтническая группа православных албанцев.
33
Турецкая разновидность плова.
34
Капитан купеческого судна (греч.). – Примеч. автора.
35
Фанариоты – этнические греки, живущие в Стамбуле (Константинополе), в районе Фанар.
36
Восточное наименование европейцев.
37
Изюм из особого сорта винограда без косточек. – Примеч. ред.
38
«Всесвятая» – греческое наименование Богородицы.
39
Коджа-баши, или кодзабасы – «староста», глава местного самоуправления в греческих владениях Османской империи.
40
Атаман разбойников (греч.).
41
Легкая лодка, выдолбленная из ствола дерева (греч.).
42
Кормилица (греч.).
43
Монастырь и деревня Зитца упоминаются в поэме Джорджа Байрона «Чайльд-Гарольд» (песнь вторая).
44
Монахи (греч.).
45
Молодец (греч.).
46
Легкое гребное судно.