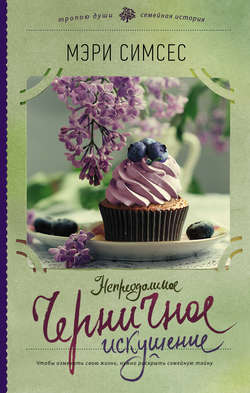Читать книгу Непреодолимое черничное искушение - Мэри Симсес - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Письмо
ОглавлениеМокрая, измочаленная и униженная, я поднялась на крыльцо «Виктори Инн». Открыв дверь, проскользнула в лобби. Паула Виктори, хозяйка гостиницы, сидела на своем месте за высокой деревянной стойкой спиной ко мне и что-то напевала себе под нос. Больше всего на свете мне хотелось сейчас как можно скорее оказаться в своей комнате, встать под горячий душ и забыть о причале, океане… и о Рое. И меньше всего мне хотелось, чтобы Паула меня увидела в таком виде.
Эта дама была слегка резковата и шумна, если не сказать – груба. Сегодня, когда я заселялась, заметила, как она разглядывает кольцо на моей руке, которое Хайден подарил мне, делая предложение. А потом она довольно бесцеремонно спросила, настоящее ли оно. Теперь она, вероятно, захочет узнать, почему я его сняла. «Да потому, что всего через час пребывания в вашем городе, пальцы у меня стали похожи на сосиски», – вот что я бы ей ответила! Могу себе представить выражение ее лица при этом… Слава богу, в номерах предусмотрены сейфы – именно так думала я, с трудом стягивая свое кольцо от «Ван Клиф и Арпелс» со слегка отекшего от соленой воды пальца.
Я набрала в грудь воздуха, задержала дыхание и на цыпочках пошла в противоположный конец холла. С моей одежды капала вода. «Хоть бы она меня не увидела», – думала я, снимая кусок водоросли с ноги. Наверняка Паула не преминет поинтересоваться, почему я мокрая и чью это машину она слышала снаружи… и вообще – что эта гостья из Нью-Йорка делает в Бейконе и зачем она заявилась.
Уже почти достигнув своей цели, я услышала за спиной ее голос:
– Забыли свой купальник, мисс Брэндфорд?
Я не стала останавливаться и ничего не ответила. Побежала через две ступеньки по лестнице на третий этаж, чтобы как можно скорее оказаться в своем номере и запереться там.
Мне хотелось вернуться в Нью-Йорк, к Хайдену. Хотелось свернуться калачиком рядом с ним на диване, смотреть «Неспящих в Сиэттле», хотелось ерошить пальцами его густые волосы и гладить свежевыбритую щеку. Мы могли бы заказать бутылочку «Петрус» и еду из «Сан-Тропе», того маленького бистро на 60-й Ист. А вместо этого я была здесь. Мокрая и продрогшая.
Хайден был прав – мне не стоило сюда приезжать. Надо было отправить бабушкино письмо по почте, а не мчаться сломя голову, чтобы его доставить. Или по крайней мере нужно было хотя бы немного подождать, привести в порядок мысли и чувства – и только потом отправляться в поездку. Ведь бабушка умерла всего неделю назад. Мы были с ней очень близки, я все еще не осознала эту потерю и не смирилась с ней. Может быть, именно поэтому я и не заметила ту проклятущую табличку «Посторонним вход воспрещен!».
Из кармана штанов я вытащила за мокрый кожаный шнурок ключ от комнаты. Открыв замок, бросила кожаную куртку на стул в углу, стащила с себя мокрую одежду и торопливо завернулась в сухое полотенце. Взглянула на часы – шесть пятнадцать. Я достала мобильник из ящика прикроватной тумбочки и, усевшись на край ванны, набрала номер Хайдена. После второго гудка он взял трубку.
– Эллен?
Я вздохнула с облегчением.
– Хайден.
– Я тебе пытался дозвониться, – сказал он. – Все в порядке?
Глаза у меня защипало от слез, готовых политься в любую секунду. Мне так хотелось, чтобы он обнял меня сейчас! Так хотелось почувствовать тепло его рук.
– Все хорошо, – сказала я, но сама услышала, как дрогнул мой голос.
– А где ты была днем? Я тебе звонил несколько раз.
У меня перед глазами предстал причал со сломанными досками и «Никон» на дне океана, наполовину зарывшийся в песок… о поцелуе я решила не думать.
– Я… гуляла, – ответила я, сердце у меня екнуло.
– О, это хорошо. Это как раз то, что тебе было нужно после такой длинной поездки за рулем. И как тебе твой первый визит в Мэн? Какой он, Бейкон?
Какой он, Бейкон? Вряд ли тебе действительно нужно это знать, подумала я. Вы с мамой были правы – это была плохая идея. Не нужно мне было ехать сюда. Вон уже сколько всего произошло. Может быть, это просто такое место – невезучее. Может быть, поэтому бабушка отсюда и сбежала, как только появилась такая возможность.
– Бейкон? – переспросила я. – Ну, думаю, он ничем не отличается от большинства других таких же маленьких городков, – я глубоко вздохнула. – Хайден, я тут думала… наверно, ты был прав. Ну, то есть… надо было просто отправить это письмо по почте. Поэтому завтра я возвращаюсь в Нью-Йорк. Если я выеду в…
– Что? – он явно был шокирован. – Эллен, но ты же уже приехала туда! Так зачем тебе уезжать?
– Но сегодня утром, когда я уезжала, ты говорил…
– Я прекрасно помню, что я говорил, милая, но я просто… ну, ты понимаешь, я просто рассуждал практически. И волновался, что ты поедешь одна, сама за рулем. Но теперь – уже поздно отступать.
Уже поздно отступать.
Мне хотелось плакать. Я уставилась на плитку на стене ванной – ярко-голубые, красные и золотые квадратики складывались в узор в виде компаса.
– Мне бы так хотелось, чтобы ты был здесь.
– Ты же знаешь, я бы поехал, – сказал он. – Если бы не эта встреча с Петерсоном завтра.
Я все знала об этой встрече с Петерсоном. И не только потому, что мы с Хайденом встречались – мы еще и работали в одной фирме, только он в отделе судебных разбирательств.
– Слушай, – продолжал он. – Ты же сама говорила, что твоя бабушка не стала бы просить тебя об этом, если бы это не было для нее так важно.
Я теперь смотрела на картинку в раме, висящую над полотенцесушителем – парусник, плывущий в тумане к гавани.
– Да, я знаю. Но, может быть, мама права, когда говорит, что бабушка под конец уже не понимала, где находится и что происходит вокруг. Может быть, она уже была не в себе. Может быть, она думала, что этот Чет Каммингс живет на соседней улице. Кто знает?
– Эллен, твоя мама просто беспокоится о тебе, поэтому так говорит. Я знаю, как ты любила свою бабушку, и я знаю, как важно тебе доставить это письмо. И я горжусь тем, что ты это делаешь.
Я сидела на краю ванны в полотенце и думала о бабушке. О ее последнем дне. Всего неделю назад мы были вместе, в ее гостиной в Пайн-Пойнте, городке в Коннектикуте, где она жила много лет и где до сих пор живет моя мама. Образ бабушки встал у меня перед глазами: такая элегантная, изящная, она сидит на бледно-голубом диване, серебряные волосы убраны в низкий пучок на шее, как она всегда носила, а в руке шариковая ручка, которой она вписывает правильные ответы в кроссворд.
– Эллен, слово из четырех букв, обозначает «множество»? – спросила она меня тогда.
Я задумалась на мгновение, откинувшись на спинку стула и уставившись в экран своего макбука. Краем глаза я видела в окне маленький дворик за домом, розарий и зеленую лужайку, которая вела к железной калитке у подъездной дорожки. Где-то вдалеке лениво, словно пчела, жужжала чья-то газонокосилка.
– Много? – ответила я, подсчитывая в уме буквы. – Хотя нет, тут пять букв.
Из открытого окна дул легкий бриз, неся с собой свежие запахи только что скошенной травы и розовых лепестков.
Бабушка что-то пробормотала и развернула газету таким образом, чтобы мне тоже было видно то, на что она смотрела: большая фотография модели в черном, квадратном платье из блестящей ткани с жатым эффектом.
– Как будто мешок для мусора, – сказала бабушка. – Что случилось с одеждой? Куда делись костюмы, которые носила Жаклин Кеннеди? А теперь вот кто икона стиля.
– Жаклин Онассис, – поправила я ее.
Она махнула на меня рукой:
– Она навсегда осталась Жаклин Кеннеди. Никто никогда не считал этого человека ее мужем.
– Ну, она-то точно считала его своим мужем, бабуль.
– Чушь, – отрезала бабушка. – Что она в нем могла найти? Конечно, он был ужасно здоровый и богатый – но ведь он был начисто лишен привлекательности, не то что она! Никакого чувства стиля.
Я встала со стула и села на диван рядом с бабушкой.
– Может быть, он все-таки был по-своему привлекателен, – сказала я. – Может быть, она чувствовала себя рядом с ним защищенной. Может быть, он заменил ей отца. Ей ведь на самом деле несладко пришлось в жизни – одно это ужасное убийство чего стоит.
– Это еще не повод выходить замуж, – заявила бабушка, качая головой и глядя на меня своими зелеными глазами. Она вернулась к кроссворду: – Ага, это куча. Точно – куча. – Она начала шевелить губами, произнося слово по буквам – и вдруг, на букве «ч», замерла. Тело ее выгнулось и задрожало, голова запрокинулась назад. Глаза закрылись, а лицо сморщилось, словно от боли, губы были плотно сжаты. Ей, без сомнения, было плохо.
– Бабушка?! – я схватила ее за руку. – Что с тобой? Что случилось?! – от страха у меня заколотилось сердце.
Она снова выгнулась – как будто все мышцы ее тела окаменели. А потом подбородок ее упал на грудь.
– Бабушка! – заорала я в ужасе и с силой встряхнула ее руку. Комната вокруг меня закружилась, я совершенно растерялась. – Бабушка, пожалуйста! – кричала я. – Скажи мне, что с тобой все в порядке, скажи мне! – живот у меня свело от страха.
Она произнесла мое имя очень тихим, еле слышным шепотом.
– Я здесь! – ответила я. – Я здесь, бабушка!
Кожа у нее была холодная, я чувствовала под тонкой высохшей кожей каждую косточку ее руки. – Я сейчас позвоню в больницу!
– Эллен… – снова шепнула она.
Лицо у нее было белое-белое, глаза по-прежнему закрыты.
– Не разговаривай, – скомандовала я. – С тобой все будет хорошо!
Не знаю, кого я пыталась убедить в этом больше, ее или себя.
Схватив телефон, я набрала «911». Это было не так просто, потому что пальцы совершенно не слушались, они были мягкими и скользкими, как желе. Мне пришлось дважды повторить адрес, хотя он был совсем простой – Хилл-Понд-Лейн, но я говорила слишком быстро и неразборчиво. Потом я помчалась в кухню и крикнула Люси, домработнице бабушки, чтобы она срочно нашла мою мать в яхт-клубе «Доверсайд», а затем бежала встречать машину «скорой помощи».
Сама я вернулась к бабушке. Теперь глаза у нее были приоткрыты, но она по-прежнему не двигалась. Она посмотрела на меня, а потом схватила за запястье с такой неожиданной силой, что я удивилась, и притянула меня к себе. Мое ухо касалось ее щеки, я чувствовала слабый аромат лавандовой воды, которой она всегда пользовалась.
– Прошу тебя, – скорее прошелестела, чем сказала она. – Письмо… я написала письмо. Оно в спальне, – она сжала мою руку еще крепче. – Ты… передай ему… Эллен.
– Бабушка, я…
– Передай ему письмо. Просто… обещай.
– Конечно, – ответила я. – Обещаю. Я все сделаю, чтобы ты…
Пальцы ее разжались, с губ слетел последний вздох.
И ее не стало.
В ту ночь я искала письмо: начала с ночного столика, стоявшего рядом с кроватью бабушки. В ящиках я нашла три ручки и пачку бумажных листов – чистых, две пары очков, упаковку леденцов и экземпляр «Ста лет одиночества» Маркеса.
Потом я осмотрела ее антикварный письменный стол вишневого дерева, привезенный из Парижа. Там нашелся выпуск местной газеты «Пайн-Пойнт Ревью» за среду – он лежал на столешнице. Открыв ящик, я обнаружила записную книжку и пролистала страницы, испытывая одновременно щемящую тоску и удовольствие от того, что видела знакомый ровный бабушкин почерк. Писем там никаких не было.
Из одежного шкафа на меня пахнуло лавандой. На вешалках рядом висели костюмы от «Шанель» и вещи, купленные на распродажах в универмаге. На полках были аккуратно сложены кофточки и джемпера самых разных цветов – от персикового до клюквенного. Я провела рукой по розовому свитеру – кашемир был мягчайшим, словно облако.
На верхней полке встроенного шкафа стояли фотографии в серебряных рамочках. На одной из них был мой дед, запечатленный в годы учебы на медицинском факультете Чикагского университета: он обнимает бабушку за талию, они стоят на фоне массивного каменного здания в готическом стиле. Она, высоко задрав подбородок, смотрит прямо в камеру, на длинной шее – нитка жемчуга. Дед смотрит на нее с широкой улыбкой во все лицо.
На другой фотографии в овальной рамке были мы с мамой в Аламо-сквер – парке неподалеку от дома моих бабушки и дедушки в Сан-Франциско. Мне десять, значит, бабушке около пятидесяти пяти. Взглянув на фото, я вдруг поразилась тому, насколько мы с ней похожи. У меня были такие же зеленые глаза и длинные темно-рыжие волосы, как у бабушки, только та обычно убирала их в пучок. Я помнила тот день, когда была сделана эта фотография: у меня на плече висел фотоаппарат, и какие-то туристы, решив, что мы тоже туристы, предложили нам нас сфотографировать. Мы встали перед огромной клумбой красных цветов, обе улыбнулись, а на заднем фоне был хорошо виден желтый дом моей матери.
Я вернула фотографии на место и начала открывать ящик за ящиком, повторяя себе, что просто обязана сделать то, что она просила.
Я перерыла ящики, где было все что угодно: кулинарные рецепты, руководства по эксплуатации бытовых приборов, иностранные банкноты, скрепленные скрепками – остатки валюты, которую она привозила из заграничных поездок, открытки ко дню рождения и Рождеству, которые она получала, и даже копия уведомления из «Уинстон Ред», в котором говорилось, что я становлюсь партнером.
Письма не было.
Вернувшись в спальню, я присела на краешек ее постели. Что бы там она ни написала – здесь этого не было. А может быть, она вовсе ничего и не писала, подумала я. Может быть, это она бредила перед смертью.
Книжные полки бабушки ломились от романов и семейных фотографий, и я уставилась на них, размышляя, что же мне делать дальше. Потом я смотрела на картины на стенах – морские пейзажи и просто пейзажи. Даже несколько фотографий она вставила в рамки и повесила на стену: например, то фото, которое я сделала в далекой юности – пустынный пляж и пара старых кроссовок.
Я снова открыла ящик прикроватного столика и увидела книгу – «Сто лет одиночества». А когда я взяла ее в руки – из нее выпал голубой листок бумаги, который был заложен между страницами. На самом верху листочка красовались инициалы бабушки – РГР: Рут Годдард Рей. Я сразу узнала высокие, острые буквы ее почерка, которыми было написано имя того, кому письмо предназначалось: Чет Каммингс. Под именем значился адрес: 55 Дорсет-Лейн, Бейкон, Мэн. У меня все поплыло перед глазами: листок пестрел зачеркиваниями и исправлениями, но несомненно было одно – я нашла письмо.
Поглубже вдохнув, я начала читать.
«Дорогой Чет.
Я очень много раз собиралась написать тебе – но всякий раз меня останавливал страх. Я все время боялась, что ты просто отправишь мое письмо обратно, даже не распечатав, и я обнаружу его в собственном почтовом ящике, обжегшись взглядом о безжалостную ремарку твоим почерком на конверте: «вернуть отправителю». Хотя, возможно, ты просто его проигнорируешь, бросишь в мусорное ведро вместе с апельсиновыми шкурками, пустыми кофейными гранулами и старыми газетами – и тогда я никогда не узнаю, что с ним случилось. Это было бы совершенно справедливо и заслуженно – но все же я не готова столкнуться с этим разочарованием лицом к лицу.
Наверно, когда человеку исполняется восемьдесят – что-то в нем меняется. И я почувствовала в себе мужество написать тебе – через шестьдесят два года, теперь я чувствую, что смогу это сделать невзирая ни на что. Сейчас, когда мне уже за восемьдесят, я поняла, что пришло время сделать то, что давно следовало сделать, а главное – попытаться искупить свою вину.
Если честно, раньше я не написала еще и потому, что не была уверена, что смогу тебя найти – я не знала, где ты. Последнее, что я о тебе слышала – что ты где-то в Северной Каролине. И это было около пятнадцати лет назад. И тут вдруг в один прекрасный день, в марте, я узнаю, что ты вернулся в Бейкон! Я сидела за компьютером и искала адрес одного селекционера роз в Нью-Хэмпшире. И без всякой задней мысли зачем-то набрала твое имя в поисковике, а потом добавила: «Бейкон, Мэн». И хлоп – оказывается, ты там! На Дорсет-Лейн. Ты даже представить себе не можешь, как я удивилась. Вот так просто, за один клик, я тебя нашла. Мне пришлось посидеть перед компьютером некоторое время, чтобы успокоиться и начать нормально дышать – это заняло добрых тридцать секунд, не меньше.
А следующие три месяца я все никак не могла решиться написать тебе. Но вот наконец – наконец я пишу ручкой на бумаге то, что очень хочу сказать: я очень сожалею о том, что произошло между нами, и очень прошу тебя простить меня. Я очень любила тебя, Чет, по-настоящему любила. Я так сильно тебя любила, любила все, что у нас с тобой было: наши мечты о будущем, о том, как мы вместе будем жить в Бейконе… Когда ты приехал в Чикаго, и я заявила, что больше тебя не люблю – я солгала. Думаю, я пыталась убедить в этом саму себя, поверить в это – потому что так было проще тогда… проще расстаться. По крайней мере, тогда я была в этом уверена. Я считала, что нам нужно расстаться. И делала для этого все.
Я знаю, как дорого тебе обошлось это расставание. И никогда не смогу простить себя за это. Если бы я не поступила так с тобой – тебе не нужно было бы уезжать из Бейкона, не нужно было бы бросать все, что так много значило для тебя. Я всегда чувствовала свою вину за это – и мне ужасно жаль. Надеюсь, ты сможешь простить меня.
У меня осталось множество прекрасных воспоминаний о том времени, когда мы были вместе. И я была бы счастлива узнать, что хотя бы некоторые воспоминания обо мне вызывают у тебя добрые чувства. Интересно – вспоминаешь ли ты о том, как мы сидели с тобой под тем дубом… как трещали цикады и сверчки вечером. О том, как иней покрывал тонким слоем кусты черники зимой – и от этого они становились какими-то нереальными, словно сказочными. О том, как мы помогали твоей маме продавать пироги на придорожном прилавке.
До сих пор при виде черники я думаю о тебе. Всегда.
С нежностью,
Рут».
Я стояла тогда в спальне своей бабушки, держа в руке письмо и представляя себе, как она писала его – писала человеку, с которым не виделась и не разговаривала больше шестидесяти лет. Была ли это любовь всей ее жизни? Ей было всего восемнадцать, совсем девочка еще. И вот спустя столько лет она пишет ему, чтобы попросить прощения за то, что оставила его. Присев на бабушкину кровать, я разгладила голубой листочек с письмом на коленке: интересно, какой он, этот Чет Каммингс, и что он подумает, когда я вручу ему это письмо? А может быть, он действительно главная любовь ее жизни? Ведь она никогда никому не рассказывала об их романе, хранила его в секрете.
Теперь, завернувшись в мокрое полотенце, в своем номере в «Виктори Инн», я держала около уха трубку и невольно подумала: а какой была бы жизнь моей бабушки, если бы она все-таки вышла замуж за Чета Каммингса? Тогда у нее не было бы огромного дома в стиле Тюдоров с шестью спальнями, и розового садика, и фонтанчиков, и лужайки, на которой трава летом такая изумительно зеленая и так прекрасно пахнет, когда ее стригут. Тогда она осталась бы в Бейконе. И мою мать она родила бы в Бейконе, и мама тоже осталась бы скорей всего тут – и родила меня тоже в Бейконе. И я росла бы за городом, как сельская девчонка, жила бы в крохотном городке, оторванная от всего того, что я так люблю. Я не представляла себе жизнь без своих любимых музеев, джаз-клубов, кофеен на каждом углу, Бродвея, Бруклинского моста – жизнь без всего этого была бы такой блеклой!
– Ты здесь? – спросил Хайден.
Я очнулась и прижала телефон к уху.
– Да, прости. Я просто задумалась о бабушке. О том, что было бы, если бы она осталась в Бейконе.
– Ну, на мое счастье, она не осталась, – сказал Хайден. – А то я бы не встретил тебя.
С моих волос упала капля воды и поползла по губе – я почувствовала соленый привкус.
– Ага, – ответила я. – Это точно.
Я смотрела теперь снова на стрелку компаса. Возможно, мне нужно выяснить все об этой части жизни бабушки. Может быть, я как бы помогу ей таким образом разгадать до конца не разгаданный при жизни кроссворд и сложить все детали пазла воедино.
– Наверно, ты прав, Хайден, – сказала я. – Я должна остаться и передать письмо. Она просила меня об этом – и я обещала, что сделаю, – я обхватила руками колени, прижимая ими телефон к уху. – Но я так скучаю по тебе.
– Я тоже по тебе скучаю.
– Я вернусь завтра вечером, – продолжала я. – В крайнем случае – во вторник.
– Отлично, потому что ужин в пятницу вечером. И я хотел бы видеть там только одного человека со своей стороны.
Пропустить этот ужин я никак не могла: Хайден был включен в число претендентов на премию «Человек года Нью-Йорка» за те проекты, которыми он занимался на протяжении нескольких лет, начиная с Коалиции по борьбе с неграмотностью и заканчивая кампанией по сбору средств для музея Гуггенхейма.
– Не беспокойся, – ответила я. – Я здесь не задержусь. И ни за что на свете не пропущу этот ужин.
Закрыв глаза, я представила себе, как мэр вручает Хайдену эту премию. Я была так счастлива, что он этого добился! И я буду так рада помочь ему в будущем году, когда он будет баллотироваться в муниципальный совет. Хотя ему помощь-то и не нужна особо, на самом деле.
Его отец, Х. К. Крофт, был старшим сенатором от Пенсильвании и главой Финансового комитета Сената. Его дядя, Рон Крофт, был губернатором Мэриленда, избранным на второй срок, а его кузина Черил Хиггинс была представителем конгресса в законодательном собрании Род-Айленда. А его покойная двоюродная бабушка Селия, кстати, была суфражисткой. Помимо стали, на которой они сделали состояние, политика была еще одним семейным бизнесом Крофтов, и они чувствовали себя в ней как рыба в воде. Я достаточно хорошо была знакома с отцом и дядюшкой Хайдена, они оба были очень обаятельными и харизматичными мужчинами, способными очаровать толпу на благотворительном балу или во время визита в хозяйственный магазин. В СМИ уже вовсю обсуждалось решение Хайдена идти на выборы.
– Я так горжусь тобой, – сказала я. И поцеловала телефонную трубку.
Отключившись, я обнаружила, что пропустила звонок от мамы. Сердце у меня затрепетало, как хвост вытащенной из воды рыбы. Я не могла с ней пока разговаривать. По крайней мере – сейчас. У мамы всегда было это шестое чувство – она непостижимым образом чувствовала, что со мной что-то не так, а мне не хотелось ее расстраивать рассказом о том, как я свалилась в океан и чуть не утонула. И уж точно я не собиралась делиться с ней информацией о том, как целовалась с совершенно незнакомым мне мужчиной. Она, пожалуй, так разволнуется, что примчится сюда своей собственной персоной. Поэтому я решила отправить ей смс-сообщение: «Все хорошо, гостиница отличная, позвоню тебе попозже, люблю-целую». Конечно, я чувствовала себя виноватой перед ней, что уж там. Это ведь была только часть правды. Большая часть – но далеко не вся правда. Но я позвоню ей завтра, обязательно – и тогда мне будет, что ей рассказать.
Я переключила воду на душ.
Завтра вообще будет совсем другой, хороший день. В десять часов у меня телефонные переговоры, но они продлятся не больше часа, а потом я сразу отправлюсь к дому мистера Каммингса, поболтаю с ним, отдам ему письмо – и отбуду на Манхэттен. Приеду домой как раз к моменту вечернего коктейля из водки с тоником и ужину на террасе, если, конечно, снаружи не будет очень уж жарко. Чудесно.
Попробовав рукой воду, я убедилась, что она холодновата. Паула предупреждала меня об этом, когда показывала номер: «Воде нужно время, чтобы нагреться, она идет снизу, из котла в подвале», – сказала она, разведя руки в стороны, словно демонстрируя мне то расстояние, которое нужно пройти воде.
Я подождала еще пару минут – наконец ванная стала наполняться восхитительным паром. Я смотрела, как исчезают буквы «С», «З», «Ю» и «В» на компасе в клубах этого пара. Войдя в кабинку, я подставила тело горячим упругим струям воды, которые с силой хлестали по моей спине. Руками я помогала воде вымывать песок и соль из волос. Это было божественно. Затем я вылила на голову содержимое маленькой бутылочки с шампунем и как следует намылила волосы, вдыхая чистый цветочный аромат. И вот когда я собиралась уже смывать шампунь – из душа вдруг забили ледяные струи, горячая вода кончилась совсем, и я стояла под этими ледяными струями, трясясь и проклиная «Виктори Инн», Бейкон и вообще весь штат Мэн.
А потом я расплакалась.