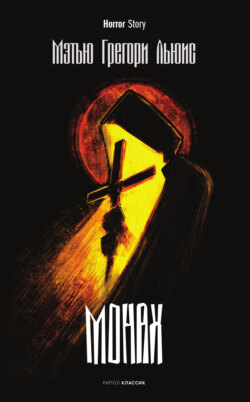Читать книгу Монах - Мэтью Грегори Льюис - Страница 2
Энциклопедия готических преступлений: о «Монахе» М. Г. Льюиса
ОглавлениеАнглийского писателя Мэтью Грегори Льюиса (1775–1818) обычно называют автором одной книги. Но так называли его еще при жизни: знакомые и не очень обращались к нему «монах Льюис», на что он не обижался – все же своему бестселлеру он был обязан немеркнущей с годами славой. Постоянные переиздания, с исправлениями, вносимыми по требованиям читателей и критиков, восторженно-опасливые отзывы современников, начиная с Кольриджа, наконец, мода на все страшное и таинственное не позволяли автору скрыться. Еще несколько десятилетий назад государственный деятель счел бы позорным для себя занятие художественной литературой, но мы смотрим на обложку канонического издания 1796 года и видим на ней не только имя автора, но и указание на его государственную должность – M. P., Member of Parliament, член парламента. Это было второе издание, первое Льюис выпустил анонимно в 1794 году в Гааге, где служил атташе. И действительно, современникам Льюис запомнился как безупречный аристократ, путешественник, собиратель фольклора во время первой дипломатической миссии в Германию, советчик молодых авторов, парламентский оратор. Итогом его жизни стала работа на Ямайке, где прежде вел дела его отец, с 1815 года: писатель показал себя настоящим реформатором, отменившим позорное рабство и создавшим промышленность.
Конечно, мнения младших современников были разноречивы. Вальтер Скотт, считавший себя отчасти учеником Льюиса и обязанный ему вниманием к первым шагам в литературе, равно как и стратегиями создания книжных сенсаций, вспоминал Льюиса как слишком общительного и великосветского человека, ищущего знакомств со всеми министрами и желающего обратить на себя внимание короля. Конечно, человек с Ямайки мог казаться слишком суетливым в лондонском обществе, но нужно понимать, что это взгляд профессионального литератора на того, кто литератором в полном смысле не был, – кто писал на досуге до того, как романтики окончательно утвердили литературную деятельность как профессию, отдельную от государственных, политических, ораторских заслуг. Благословленный Льюисом Байрон считал, что Льюису немного не хватало воображения, но это тоже взгляд свободного человека, существовавшего среди подготовленных читателей, делающего из собственной жизни поэму, на автора, которому еще только предстояло научить читателей правильно воспринимать художественные произведения, например не считать, что если в романе есть «безнравственные» сцены, то его автор – безнравственный человек.
Так что хотя после Льюиса литература быстро пошла вперед, следует понимать, что этот бестселлер – одно из лучших в мировой литературе исследований границ художественного вымысла как такового: исследование того, до каких границ может доходить художественная литература и как сами литературные эффекты «фантазии», «подражания» или «творческой личности» могут проявиться в реальном сцеплении событий. Создавая скандальный роман, Льюис выяснял прежде всего то, почему старая эстетика, эстетика «подражания образцам», уже не работает в современном мире.
Конечно, Льюис равнялся на прежнюю традицию готического романа, образцовое произведение которой «Замок Отранто» Горация Уолпола (1764) представляло собой расширение эстетического принципа правдоподобия. Уолпол показал, что правдоподобным может оказаться не только обыденное – поведение данного характера в данных обстоятельствах, – но и чрезвычайное и исключительное, например если люди Средних веков верили в призраков, то их встреча с призраками оказывается вполне правдоподобной. Готический роман еще не был в строгом смысле историческим, доказывающим, что люди других эпох могут мыслить и чувствовать иначе, чем наши современники, но он делал то же, что в философии делали Монтескье и Юм, – показывал, что нет людей, которые не были бы лишены предрассудков, так что сама естественность поведения оказывается тоже подражанием довольно искусственным моделям.
Несколько дальше пошла главная соперница Льюиса за внимание публики Анна Радклифф, создательница жанра сенсационного романа, то есть хоррора, романа, заставляющего сильно переживать. Она показывала, как вполне тривиальные характеры могут оказываться в непривычной обстановке из-за действия роковых механизмов в обществе, в которых при этом нет ничего мистического: это может быть большое наследство, семейная тайна о давнем убийстве или загадка происхождения – вещи довольно земные, но вдруг запускающие большую интригу помимо собственного содержания характеров. Так отступал век Просвещения, с его классификацией характеров и поиском естественного в человеке, и наступала романтическая эпоха, в которую всем приходится быть участниками всемирной исторической драмы.
Льюис сделал большой шаг вперед: по сути его роман, чтобы не пересказывать отдельные эпизоды, это большой трактат о том, как усвоенные со школы эстетические понятия, вроде «подражания», «влечения сердца», «вечного искусства» и другие, могут роковым образом срабатывать, увлекая героев в пропасти. По сути, этот роман, написанный девятнадцатилетним юношей за невероятные десять недель, это расставание со всем школьным антуражем литературного опыта и постановка его под вопрос: всегда ли этот опыт полезен или нужно, чтобы читатель свободнее смотрел на все старые образцы и самостоятельно принимал жизненные решения?
Именно с этим связан самый скандальный для современников эпизод романа, где мать дает дочери читать только цензурированную Библию, опустив все жестокие и непристойные эпизоды. Строго говоря, в Испании чтение Библии мирянами не особо поощрялось – считалось, что опасно читать текст без толкований, – но для протестантской Англии, где Библия понималась как моделирующая правильное поведение любого человека, независимо от упомянутых в ней преступлений и пороков, сама мысль о таком поведении матери казалась оскорблением и религии, и литературы, так что в конце концов Льюису пришлось стилистически смягчить и этот эпизод, как и натуралистическое описание гибели главного героя, – непосредственное вхождение злого и ужасного в нашу социальную реальность, что, оказывается, нормативные тексты могут спровоцировать насилие и пытки, а среди людей может явиться сам дьявол, вызвав грозу, потоп и человеческие страдания, было еще немыслимо для тогдашних читателей, приходилось иногда немного отступать.
И действительно, в романе мы видим, как попытка подражания образцам всякий раз оборачивается преступлением. В романе прямо пародируется платоническая по происхождению эстетика, требующая восходить от прекрасных образов к постижению истинной реальности красоты: икона Мадонны оказывается для испорченной души поводом к эротическому соблазну. Подражание многовековым образцам святости не просто угрожает гордыней и катастрофическим падением, как в средневековых житиях, но само уже есть нечто недолжное, что-то вроде самозванчества. Вместо возвышающей платонической любви, переходящей от прекрасного тела к прекрасной душе, мы, напротив, видим инцест и убийство.
В конце концов только сам Сатана объясняет главному герою, какие преступления он на самом деле совершил, что его жертвами стали мать и сестра, потому что ни из логики характеров, ни из логики образов, понятных герою, это не следовало. Это следовало из той сделки со злом, которую он совершил с самого начала, сочтя, что не существует по-настоящему добрых людей, поддавшись тем самым эффектам речи, которая только обличает других и вытесняет других из мира твоих собственных желаний. Тем самым это роман о крушении прежней риторики, требовавшей от всех держать свое поведение в рамках: оказывается, что само устройство благонамеренного желания, поощряемого речью, может стать убийством другого.
Можно читать этот роман как выворачивание наизнанку всей эстетики, в которую верили многие поколения от Античности до Просвещения, когда вдруг самые прекрасные способы отношения к действительности, вроде любования, увлечения или восторга перед чистотой, оказываются самыми преступными. По сути, книга Льюиса, как мы уже сказали, это большое исследование, как стандартная топика, вроде «монастырь – это место подготовки к смерти», «любовь преображает тело человека» или «воображение – это пылкое чувство», на которой строились многие прежние романы и вообще отношение к жизни, вдруг реализуется так, что приводит к действительным катастрофам, и, например, столкновение воображаемого и действительного образа возлюбленной оборачивается отравлением, которое и должно создать вечно мертвый образ, – пародирование классических статуарных идеалов сквозит на многих страницах романа.
Конечно, самый сильный спор с концепцией подражания идеалу – это побочная линия с призраком Окровавленной монахини. Оказывается, что и простые размышления об этом призраке могут материализовываться, а попытка действовать в логике призрака, вытеснить призрак в область чистого воображения, оборачивается кошмаром, иначе говоря, собственной неподражаемой жизнью призрака. Именно в этой побочной линии показаны возможности выйти из порочного круга подражания: с одной стороны, вводится фантастический герой, Агасфер, который, как живой свидетель дел Иисуса, только и может разрушить все миры ложного подражания, только и выступить как защитник реального переживания, с другой стороны, происходит народный бунт, не начинающий, но останавливающий последние пережитки кровной мести, которую и творили монахини уже как духовную месть, замуровывая невинных женщин.
Поворот к испанской теме вообще не случаен – на Испанию тогда смотрели как на страну закрытую и исполненную тайн, примерно как сейчас смотрят на успехи Китая – нынешняя всемирная слава романов Мо Яня, с описанием пыток, насилия и каннибализма, наиболее близкое соответствие тогдашней славе Льюиса. Испанско-монастырская тема, конечно, найдет продолжение в знаменитой новелле П. Мериме «Кармен» (1845), конструирующей уже один из первых образов роковой женщины и тем самым частично реабилитирующей подражание и эстетику эротического влечения как допустимую – зло уже причиняют вновь характеры, а не само подражание. Продолжателей Льюиса было много – от Пушкина с его Рыцарем Бедным, для которого образ Мадонны стал спасением, а не соблазном, до французских сюрреалистов, видевших в Льюисе и де Саде (с восторгом прочитавшем роман «Монах») своих предшественников. Сейчас и мы будем читать славную книгу, объясняющую уже не только романтизм, но и некоторые тупики взаимопонимания, возникающие в наши дни.
Александр Марков, профессор РГГУ