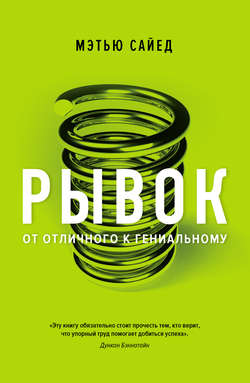Читать книгу Рывок. От отличного к гениальному - Мэтью Сайед - Страница 3
Часть I. Миф о таланте
1. Скрытая логика успеха
ОглавлениеАвтобиографический уклон
В январе 1995 года я впервые поднялся на верхнюю строчку в рейтинге британских игроков в настольный теннис, что – уверен, вы с этим согласитесь – можно назвать огромным успехом. В двадцать четыре года я вдруг оказался объектом повышенного внимания: меня регулярно приглашали в школы, чтобы я рассказывал молодежи о своем пути к всемирной славе и демонстрировал золотые медали.
Настольный теннис очень популярен в Великобритании: 2,4 миллиона играющих в теннис, 30 тысяч спортивных функционеров, получающих зарплату, тысячи команд и серьезные заработки для лучших. Но что сделало меня особенным? Что позволило мне достичь грандиозного успеха? Думаю, несколько качеств: скорость, хитрость, смелость, психологическая устойчивость, способность к адаптации, ловкость и быстрые рефлексы.
Иногда я поражаюсь тому, что эти качества присутствовали у меня в таком количестве, что позволили поднять меня – такого маленького! – над сотнями тысяч тех, кто стремился к этой вершине. И все это вдвойне удивительно, учитывая, что я родился в обычной семье в обычном пригороде обычного города на юго-востоке Англии. И совсем не «в рубашке». Ни привилегий. Ни семейных связей. Своим успехом я обязан только себе – это была моя личная одиссея успеха, триумф вопреки всему.
Конечно, именно так начинают свой рассказ многие люди, достигшие вершин в спорте или в любой другой области. Наша культура воспитывает и поощряет индивидуализм. Голливудские фильмы построены именно на таких сюжетах, часто подслащенных сентиментальностью «американской мечты». Все это – вдохновляющие, будоражащие воображение и необыкновенно увлекательные истории, но правдивы ли они? Вот моя история, рассказанная повторно, с деталями, которые я предпочел опустить в первый раз, поскольку они преуменьшали романтичность и индивидуальность моего успеха.
1. Стол
В 1978 году по причине, которую они до сих пор не могут объяснить (никто из них не играл в настольный теннис), мои родители решили купить теннисный стол – Super Deluxe 1000, с золотыми буквами, если вам интересно, – и поставить в нашем большом гараже. Точной цифры я назвать не могу, но вы можете представить, что в моем родном городе было не так много детей моего возраста, у которых имелся профессиональный, пригодный для соревнований теннисный стол. И еще меньше обладателей гаража, где можно было держать такой стол. Это была моя первая удача.
2. Брат
Второй раз мне повезло, что у меня был старший брат, Эндрю, который полюбил настольный теннис так же сильно, как я. После школы мы часами играли в гараже: сражались на дуэли, проверяли рефлексы друг друга, экспериментировали с подкрутками, исследовали новые покрытия ракеток и приглашали друзей – обычно более искусные в других видах спорта, они удивлялись нашим успехам в настольном теннисе. Сами того не сознавая, мы накапливали опыт тренировок, тысячи часов.
3. Питер Чартерс
Мистер Чартерс работал учителем в местной начальной школе – высокий усатый мужчина с огоньком в глазах, который презирал традиционные методы обучения, а его страсть к спорту граничила с фанатизмом. Он был тренером почти всех внешкольных спортивных клубов, менеджером школьной футбольной команды, организатором дней спорта в школе, хранителем оборудования для бадминтона, изобретателем игры «Ведробол», похожей на импровизированный баскетбол.
Но главной любовью Чартерса оставался настольный теннис. Он считался одним из лучших теннисных тренеров страны и был влиятельной фигурой в Английской ассоциации настольного тенниса. Другие виды спорта были для него просто поводом, возможностью найти спортивный талант, в каком бы виде он ни проявился, а затем направить его – безоговорочно и исключительно – в настольный теннис. Все дети, прошедшие через Олдрингтонскую школу в Ридинге, подверглись проверке со стороны Чартерса. Его страсть, энергия и преданность настольному теннису были таковы, что каждый, у кого обнаруживались способности, не мог устоять перед уговорами и приходил совершенствовать свои навыки в местный клуб «Омега».
Чартерс пригласил меня и моего брата Эндрю в «Омегу» в 1980 году, в тот самый момент, когда гараж нам стал уже тесен.
4. «Омега»
Клуб «Омега» не назовешь роскошным – хибара с одним теннисным столом на гравийной площадке в трех километрах от пригорода Ридинга, где мы жили. Зимой там было холодно, летом очень жарко, а сквозь крышу и пол пробивались зеленые стебли растений. Но у клуба имелось одно преимущество, которое делало его уникальным среди всех теннисных клубов графства: для крошечной группы членов, имевших свои ключи, он был открыт 24 часа в сутки.
Мы с братом в полной мере использовали это преимущество, тренируясь после уроков в школе, до уроков, по выходным и во время каникул. К нам присоединялись и другие ученики Олдрингтонской школы, замеченные и рекрутированные Чартерсом, и в 1981 году клуб «Омега» стал знаменитым. Только одна улица (Силвердейл-роуд, где была расположена школа) дала Англии невероятное количество игроков, входивших в число лучших.
В доме № 119 жила семья Сайед. Мой брат Эндрю стал одним из самых успешных юниоров в истории английского настольного тенниса – он выиграл три национальных чемпионата, но в 1986 году был вынужден оставить спорт из-за травмы. Чартерс впоследствии назвал его лучшим молодым игроком, появившимся в Англии за последние четверть века. Мэтью (то есть я) тоже жил в доме № 119 и долгое время занимал первую строку рейтинга взрослых английских игроков, выиграл три чемпионата Содружества и два раза участвовал в Олимпийских играх.
В доме № 274, напротив Олдрингтонской школы, выросла Карен Витт. Она была одной из лучших теннисисток своего поколения. За свою блестящую карьеру Карен завоевала бесчисленное количество юниорских титулов, выиграла чемпионат страны среди взрослых, необыкновенно престижный чемпионат Содружества, десятки других соревнований. Спортивную карьеру она оставила в двадцать пять лет из-за проблем со спиной, навсегда изменив лицо женского настольного тенниса в Англии.
В доме № 149, примерно посередине между домами Сайедов и Виттов, жил Энди Велмен. Он был очень сильным игроком, выигравшим несколько титулов, в основном в парных соревнованиях, и его очень боялись, особенно после победы над одним из лучших английских игроков на престижном турнире Top-12.
В конце Силвердейл-роуд стояли дома Пола Тротта, еще одного известного юниора, и Кита Ходдера, одного из лучших игроков графства. За углом жили Джимми Стоукс (чемпион Англии среди юношей), Пол Сейвинс (участник международных юношеских соревнований), Элисон Гордон (четырехкратная чемпионка Англии среди взрослых), Пол Эндрюс (один из ведущих игроков страны) и Сью Колье (чемпионка Англии среди школьников). Этот список можно продолжить.
В 1980-х эта улица и ее окрестности дали больше выдающихся английских игроков в настольный теннис, чем вся остальная страна. Одна дорога среди десятков тысяч дорог, одна крошечная группа школьников против миллионов сверстников по всей стране. Силвердейл-роуд была неиссякаемым источником победителей для английского настольного тенниса, Мекка пинг-понга, которая кажется необъяснимой и невероятной.
Может, в этом районе произошла некая генетическая мутация, не коснувшаяся окружающих дорог и деревень? Конечно, нет: успех Силвердейл-роуд обусловлен сочетанием благоприятных факторов, похожих на те, которые время от времени складываются в крошечных уголках нашей планеты и влияют на спортивные достижения (в период с 2005 по 2007 год «Спартак», нищий московский теннисный клуб, дал больше теннисисток из первой мировой двадцатки, чем все Соединенные Штаты).
Самое главное – спортивные таланты безжалостно направлялись в настольный теннис, и всех честолюбивых игроков воспитывал выдающийся тренер. Что касается меня, то стол в гараже и брат, увлекавшийся пинг-понгом так же страстно, как и я, позволили мне начать еще до того, как я пошел в Олдрингтонскую школу.
Миф о меритократии
Мои родители по-прежнему описывают мой успех в настольном теннисе как вдохновляющий триумф, случившийся вопреки всему. Это очень мило, и я благодарю их. Когда я показывал им черновик этой главы, они оспорили ее основной тезис: «А как насчет Майкла О’Дрисколла (соперника из Йоркшира)? У него были все те же возможности, что и у тебя, но он не добился успеха. А как насчет Брэдли Биллингтона (еще один соперник из Дербишира)? Его родители были игроками в настольный теннис международного класса, однако он не стал первым номером в английском рейтинге».
Это всего лишь небольшая вариация того, что я называю автобиографическим предубеждением. Речь не о том, что я плохой игрок; скорее у меня были серьезные преимущества, недоступные сотням тысяч молодых людей. В сущности, я стал лучшим из очень маленькой группы спортсменов. Можно сформулировать и по-другому: я стал лучшим из очень большой группы, лишь крошечная часть которой обладала моими возможностями.
Не подлежит сомнению, что если бы у большого количества восьмилетних детей был теннисный стол и старший брат, с которым можно тренироваться, если бы их обучал один из лучших тренеров в стране, если бы у них в графстве имелся теннисный клуб с круглосуточным доступом и возможность тренироваться несколько тысяч часов, я не стал бы лучшим теннисистом Англии. Возможно, я не вошел бы даже в число первой тысячи. Любой другой вывод – преступление против статистики (конечно, я мог бы стать первым, но вероятность этого только теоретическая).
Нам нравится думать, что спорт – это меритократия, где достижения обусловлены способностями и упорным трудом, но это не так. Подумайте о тысячах потенциальных чемпионов по настольному теннису, которым не посчастливилось жить на Силвердейл-роуд с ее уникальным набором преимуществ. Подумайте о тысячах потенциальных чемпионов Уимблдона, которым не посчастливилось стать обладателями теннисной ракетки или тренироваться под наблюдением специалиста. Подумайте о миллионах потенциальных победителей турниров по гольфу, у которых никогда не было доступа в гольф-клуб.
При ближайшем рассмотрении выясняется, что практически каждому человеку, мужчине или женщине, который добился успеха вопреки всем ожиданиям, помогли необычные обстоятельства. Мы заблуждаемся, фокусируясь на индивидуальных особенностях их триумфа и не замечая – или не давая себе труда заметить – мощных факторов, которые им благоприятствовали.
Это подчеркивает Малкольм Гладуэлл в своей замечательной книге «Гении и аутсайдеры». Гладуэлл показывает, что успех Билла Гейтса, The Beatles и других знаменитостей обусловлен не столько «их личными качествами», а тем, «откуда эти люди взялись». «Кажется, что выдающиеся личности сделали себя сами, – пишет Гладуэлл. – Но в действительности они неизменно получают выгоду от скрытых преимуществ, необыкновенных возможностей и культурного наследия, что позволяет им упорно учиться, работать и осмысливать мир так, как этого не могут другие».
Когда у меня возникают мысли о собственной уникальности, я напоминаю себе, что следующий дом на той же улице относится уже к другому школьному округу, а это значит, что если бы я жил там, то не учился бы в Олдрингтоне, не познакомился бы с Питером Чартерсом и не вступил бы в клуб «Омега». Часто говорят, что в спорте высших достижений победу от поражения отделяют миллисекунды: на самом деле эта граница определяется еще более неуловимыми факторами.
Здесь стоит сделать паузу и рассмотреть возражения. Наверное, вы согласитесь с аргументом, что возможность необходима для успеха, но достаточно ли ее? Как насчет врожденных талантов, которые отличают лучших от всех остальных? Разве эти навыки не являются необходимыми, чтобы выиграть Уимблдонский турнир или подняться на олимпийский пьедестал? Разве они не влияют на то, станет ли человек гроссмейстером или главой транснациональной корпорации? Разве не будет заблуждением предположить, что вы (или ваши дети) сможете добиться грандиозного успеха, не обладая особым талантом?
Так считало современное общество с тех пор, как Фрэнсис Гальтон, английский эрудит Викторианской эпохи, опубликовал книгу «Наследственный гений» (Hereditary Genius)[1]. В ней Гальтон пытается понять, как его двоюродный брат Чарльз Дарвин разработал теорию происхождения человека, которая не утратила своего значения и в наше время.
«Я собираюсь показать, – писал Гальтон, – что естественные возможности человека определяются наследственностью точно с такими же ограничениями, как при формировании внешней формы и физических признаков во всем органическом мире… Я отвергаю гипотезу… что дети рождаются абсолютно одинаковыми, и единственными факторами, создающими различия… служат постоянные усилия и нравственное воздействие».
Идея, что успех или неудачу определяет природный талант, сегодня настолько влиятельна, что принимается без возражений. Она кажется неоспоримой. Наблюдая, как Роджер Федерер фирменным ударом справа выигрывает матч, когда гроссмейстер дает сеанс одновременной игры вслепую на двадцати досках или Тайгер Вудс отправляет мяч в лунку с расстояния 320 метров, мы неизменно приходим к выводу, что они обладают особым даром, отсутствующим у остальных.
Эти навыки настолько необычны и до такой степени не связаны с обыденной жизнью и повседневным опытом, что даже мысль о достижении сравнимых результатов, будь у нас те же возможности, кажется просто нелепой.
И даже метафоры, которые мы используем в отношении добившихся успеха, поощряют такого рода взгляд на вещи. Например, о Федерере говорили, что «теннис у него в генах», а о Тайгере Вудсе – что «он рожден для гольфа». Сами выдающиеся личности тоже так думают. Диего Марадона однажды заявил, что его ноги «с рождения умели играть в футбол».
Но не ошибаемся ли мы в своем восприятии таланта?
Что такое талант?
В 1991 году Андерс Эрикссон, психолог из Университета штата Флорида, и двое его коллег провели исследование выдающихся достижений, самое дорогостоящее из когда-либо выполненных.
Объекты их исследования – скрипачи из знаменитой Берлинской высшей школы музыки – были разделены на три группы. К первой группе отнесли выдающихся студентов: мальчиков и девочек, которые могли стать всемирно известными солистами, войти в элиту музыкального мира. Этих детей назвали бы необыкновенно талантливыми – им повезло родиться с особыми музыкальными генами.
Студенты второй группы обладали выдающимися способностями, но их не причисляли к исполнительской элите. Считалось, что они будут играть в лучших оркестрах мира, но не как звездные солисты. К последней группе относились наименее способные студенты: из них могли выйти преподаватели музыки, и требования к ним были наименее жесткими.
Уровень способностей трех групп оценивался на основе мнения профессоров и был подкреплен объективными показателями, такими как результаты участия в конкурсах.
После ряда сложных интервью Эрикссон обнаружил, что биографические характеристики всех групп были сходными – никаких систематических различий не наблюдалось. Все начали заниматься музыкой в восьмилетнем возрасте, одновременно с поступлением в обычную школу. Средний возраст, в котором студенты решили стать музыкантами, тоже оказался одинаковым – приблизительно пятнадцать лет. У каждого в среднем было 4,1 преподавателя музыки, а среднее количество музыкальных инструментов, на которых они учились, равнялось 1,8.
Но между группами выявилось одно различие, неожиданное и существенное. Оно буквально поразило Эрикссона и его коллег. Это количество часов, посвященных серьезным занятиям.
К двадцати годам лучшие скрипачи упражнялись в среднем 20 тысяч часов, на две с лишним тысячи больше, чем просто хорошие скрипачи, и на шесть с лишним тысяч часов больше, чем студенты, собиравшиеся стать преподавателями музыки. Такая разница не только статистически значима, но и удивительна.
Однако и это еще не все. Эрикссон обнаружил, что в этой закономерности нет исключений: никто не попал в элитную группу без упорного труда, а все, кто много занимался, преуспели. Целенаправленные занятия были единственным фактором, отделявшим лучших от худших.
Эрикссон с коллегами были поражены полученными результатами и поняли, что они означают коренное изменение представлений о мастерстве – в конечном счете все определяет практика, а не талант. «Мы отрицаем, что эти различия [в уровне мастерства] неизменны, то есть определяются природным талантом, – писали исследователи. – Наоборот, мы утверждаем, что различия между выдающимися мастерами и обычными взрослыми людьми отражают целенаправленные усилия по совершенствованию навыка, прикладывавшиеся на протяжении всей жизни».
Цель первой части этой книги – убедить читателя в правоте Эрикссона: талант – это не то, что вы думаете, и вы можете достичь совершенства во многих занятиях, которые кажутся вам необыкновенно далекими от ваших возможностей. Но это не будет стандартной тренировкой позитивного мышления. Основу моих аргументов составят новейшие открытия в области когнитивной нейропсихологии, свидетельствующие о том, как можно изменить тело и разум путем специальных тренировок.
И вообще, что такое талант? Многие люди уверены, что смогут распознать его с первого же взгляда, что могут посмотреть на группу детей и по тому, как они двигаются, как взаимодействуют друг с другом, как приспосабливаются к разным ситуациям, сказать, кто из них обладает скрытыми генами, необходимыми для успеха. Директор одной из престижных школ для скрипачей выразился так: «Талант – это нечто, что может заметить в юных музыкантах преподаватель, некая печать будущего величия».
Но откуда преподаватель игры на скрипке знает, что юный музыкант, который выглядит таким талантливым, на самом деле не посвящал много часов занятиям? Откуда он знает, что начальная разница в способностях у этого ребенка и остальных сохранится после многих лет упражнений? Преподаватель этого знать не может, о чем свидетельствуют многочисленные исследования.
Например, при исследовании британских музыкантов выяснилось, что лучшие исполнители учились не быстрее тех, кто не достиг таких высот мастерства: у разных групп результаты улучшались с одинаковой скоростью, буквально по часам. Разница лишь в том, что лучшие исполнители посвятили занятиям большее количество часов. Дальнейшие исследования показали, что в тех случаях, когда у лучших исполнителей талант проявлялся раньше, причина состояла в том, что им давали дополнительные уроки родители.
А как насчет вундеркиндов – исполнителей, достигших высочайшего уровня еще в подростковом возрасте? Может быть, они учились в сверхбыстром темпе? Нет. Как мы увидим в следующей главе, только кажется, что вундеркинды добрались до вершины в два раза быстрее, но на самом деле они вместили астрономическое число занятий в краткий период между рождением и юностью.
Джон Слобода, профессор психологии Килского университета, формулирует эту мысль так: «Нет абсолютно никаких доказательств “ускоренного продвижения” успешных людей». С ним согласен Джек Никлаус, один из лучших гольфистов всех времен и народов: «Никто – ни один человек – не приобрел мастерства в гольфе без практики, без серьезных размышлений и большого количества ударов. Большинству игроков мешает не отсутствие таланта, а неспособность раз за разом повторять хорошие удары. Ответ тут только один – практика».
К тому же выводу – о главенстве практики – мы приходим при обращении и к другим областям человеческой деятельности, что наглядно продемонстрировал Эрикссон. Подумайте о том, как повысились стандарты практически во всех областях. Возьмем, к примеру, музыку: когда в 1826 году Ференц Лист сочинил «Блуждающие огни», современники говорили, что это произведение сыграть практически невозможно, а сегодня его исполняют все ведущие пианисты.
То же самое относится к спорту. На Олимпийских играх 1900 года победитель в забеге на 100 метров преодолел дистанцию меньше чем за 11 секунд, и это назвали чудом; сегодня такого результата недостаточно, чтобы пройти в финал общенациональных студенческих состязаний. В прыжках в воду на Олимпийских играх 1924 года двойное сальто было практически запрещено, поскольку считалось слишком опасным – теперь элемент стал стандартным. Победитель марафона на Олимпиаде 1896 года преодолел дистанцию лишь на несколько минут быстрее квалификационного результата Бостонского марафона, в котором участвуют несколько тысяч любителей.
Стандарты в науке тоже стали неизмеримо выше. Английский ученый XIII века Роджер Бэкон утверждал, что математику нельзя изучить меньше чем за тридцать или сорок лет – сегодня с дифференциальным исчислением знаком почти каждый студент колледжа. И так далее.
Но суть в том, что эти успехи обусловлены не тем, что люди становятся более талантливыми: для дарвиновского отбора потребовалось бы гораздо больше времени. Люди просто практикуются больше, усерднее (благодаря профессионализму) и эффективнее. Именно качество и количество практики, а не гены, являются движущей силой прогресса. И если этот вывод справедлив для всего общества, то почему не распространить его на отдельных людей?
Но тогда возникает следующий вопрос: как долго нужно тренироваться, чтобы достичь выдающихся успехов? Многочисленные исследования позволяют дать достаточно точный ответ: выяснилось, что во всех областях, от искусства до науки и от настольных игр до тенниса, требуется минимум десять лет, чтобы достичь мирового уровня в любом сложном деле.
Например, два американских психолога, Герберт Саймон и Уильям Чейз, обнаружили, что в шахматах никто не добивался звания международного гроссмейстера раньше чем через десять лет интенсивных тренировок. По мнению Джона Хейса, в сочинении музыки для достижения совершенства требуется десять лет упорного труда – этот вывод он делает в своей книге «Универсальное решение» (The Complete Problem Solver).
Исследование девяти лучших гольфистов XX века показало, что свой первый международный турнир они выигрывали приблизительно в двадцать пять лет, по прошествии более десяти лет после начала занятий гольфом. Аналогичные результаты дало изучение таких разных областей, как математика, теннис, плавание и бег на длинные дистанции.
С той же самой закономерностью мы сталкиваемся в интеллектуальной деятельности. Изучение биографий 120 самых известных ученых и 123 самых известных писателей и поэтов XIX века показало, что между их первой и лучшей работой в среднем прошло десять лет. Таким образом, десять лет – магическое число, позволяющее достичь совершенства.
В книге «Гении и аутсайдеры» Малкольм Гладуэлл указывает, что большинство лучших в своем деле практикуются приблизительно тысячу часов в год (при меньшей продолжительности трудно поддерживать качество практики), и формулирует правило десяти лет как правило десяти тысяч часов. Это минимальное время, необходимое для приобретения мастерства в выполнении любой сложной задачи. Именно таков был объем практики лучших скрипачей в эксперименте Эрикссона[2].
Теперь вспомните, часто ли вам приходилось слышать, что люди отрицают свои возможности такими фразами, как: «У меня нет способностей к языкам», «Я не дружу с цифрами» или «Плохая координация не позволяет мне заниматься спортом». Но где же свидетельства, обосновывающие подобный пессимизм? Зачастую он основан на нескольких неделях или месяцах не слишком настойчивых попыток. Однако наука свидетельствует, что для попадания в мир мастеров требуется несколько тысяч часов практики.
Прежде чем двигаться дальше, стоит подчеркнуть одну особенность следующих глав: убедительность аргументов серьезно повлияет на то, как мы решим прожить свою жизнь. Если мы верим, что достижение совершенства обусловлено талантом, то, скорее всего, отступимся, не показав обнадеживающих результатов в самом начале. И это будет рационально – учитывая исходное допущение.
Если же мы считаем, что талант не определяет будущие достижения (или вносит в них лишь небольшой вклад), то с большей вероятностью проявим упорство. Более того, мы пустим в ход все средства, чтобы обеспечить необходимые возможности для себя и своей семьи: квалифицированный наставник, доступ к подходящему оборудованию. Все эти факторы и ведут к успеху. И если мы правы, этот успех обязательно придет. Таким образом, решающее значение имеет наше представление о таланте.
Завершая этот раздел, хочу привести пример из книги «Гении и аутсайдеры», позволяющий сделать два вывода из современных исследований мастерства: значение возможностей с одной стороны, и значение практики – с другой.
В середине 1980-х годов канадский психолог Роджер Барнсли вместе со всей семьей присутствовал на матче хоккейной команды Lethbridge Broncos, и его жена, листавшая программку, обратила внимание на странное совпадение – большинство игроков родились в начале года.
«Я подумал, она бредит, – рассказывал впоследствии Барнсли. – Но решил сам посмотреть, и в глаза сразу же бросилось то, о чем говорила Пола. По какой-то непонятной причине в списке чаще всего встречались дни рождения в январе, феврале и марте».
В чем же дело? Неужели канадские хоккеисты, рожденные в начале года, были подвержены какой-то генетической мутации? Или во всем виновато благоприятное расположение звезд в эти месяцы?
На самом деле причина проста: в Канаде отбор в возрастные хоккейные группы заканчивается 1 января. Это значит, что десятилетний мальчик, родившийся в январе, будет играть в одной группе с детьми, родившимися во все остальные месяцы того же года. В этот период жизни такая разница в возрасте может стать причиной серьезных различий в физическом развитии.
Вот что пишет об этом Гладуэлл:
«В Канаде – самой помешанной на хоккее стране в мире – тренеры начинают отбирать игроков в элитные команды в возрасте девяти и десяти лет, и, разумеется, более талантливыми считаются более рослые и ловкие ребята, имеющие преимущество в несколько решающих месяцев.
Что происходит, когда игрока отбирают в команду со звездным составом? С ним занимаются лучшие тренеры, он играет рядом с более сильными товарищами и, кроме того, принимает участие не в двадцати играх в сезон, как те, кто остался в «домашней» лиге, а в пятьдесят-семьдесят. Ему приходится тренироваться в два, а то и в три раза больше… К тринадцати-четырнадцати годам, благодаря первоклассному обучению и дополнительной практике, он действительно обретает мастерство и имеет больше шансов быть завербованным в Канадскую хоккейную лигу, а оттуда перейти во взрослые лиги».
Асимметричное распределение по возрасту не ограничено детской хоккейной лигой Канады. Такая же картина наблюдается в детских футбольных командах Европы и в детской бейсбольной лиге США. В сущности, в большинстве видов спорта возрастная селекция и распределение по группам являются частью процесса воспитания будущих звезд.
Это опровергает многие мифы, окружающие спортивную элиту. Получается, что достигшие вершин, по крайней мере в определенных видах спорта, не обязательно более талантливы или работоспособны, чем их менее удачливые соперники: возможно, они просто чуть-чуть старше. Случайная разница в дате рождения запускает цепочку последствий, которые за несколько лет создают непреодолимую пропасть между теми, кто изначально имел равные шансы на звездную карьеру в спорте.
Конечно, месяц рождения – всего лишь один из множества невидимых факторов, определяющих закономерности успеха или неудачи в нашем мире. Но у всех подобных факторов есть одна общая черта – хотя бы в том, что касается достижения мастерства, – это степень, в какой они способствуют (или препятствуют) возможностям для серьезной практики. Если такая возможность есть, то появляется перспектива высоких достижений. Если же практика невозможна или ограниченна, никакой талант не приведет вас к вершине.
Это подтверждает мой собственный опыт в настольном теннисе. Благодаря теннисному столу в гараже и брату, с которым я мог тренироваться, у меня была фора перед одноклассниками. Фора небольшая, но достаточная для того, чтобы сформировать траекторию развития с серьезными долговременными последствиями. Мое превосходство в настольном теннисе посчитали признаком таланта (а не результатом долгих тренировок), и меня включили в школьную команду, что привело к еще более интенсивным тренировкам. Затем я вступил в местный теннисный клуб «Омега», вошел в сборную графства, а затем и в национальную сборную.
По прошествии времени – через несколько лет – мне выпала возможность провести показательный матч перед всей школой, и тогда я уже значительно превосходил мастерством своих одноклассников. Они топали ногами и ободряюще вопили, когда я доставал шарик из любого угла площадки. Они восхищались моей быстротой, координацией и другими «природными талантами», которые делали меня выдающимся спортсменом. Но эти таланты не были заложены в генах – они по большей части определялись обстоятельствами.
Точно так же нетрудно представить зрителя хоккейного матча высшей лиги, который с трибуны восхищенно наблюдает за одноклассником, забивающим победный гол потрясающей красоты. Он аплодирует стоя, а потом в беседе с друзьями, собравшимися пропустить по стаканчику после матча, превозносит своего героя и вспоминает, как когда-то играл с ним в одной школьной команде.
А теперь представьте, как вы говорите хоккейному болельщику, что его кумир – игрок, талант которого кажется неоспоримым, – теперь работал бы в местной скобяной лавке, если бы родился на несколько дней раньше, что звездный игрок мог бы очень стараться, пытаясь достичь вершины, но его стремление было бы разрушено силами, слишком мощными, чтобы им сопротивляться, и такими неуловимыми, что на них невозможно повлиять.
И еще представьте, как вы говорите болельщику, что он сам мог бы стать звездой хоккея, если бы мать родила его на несколько часов позже: 1 января, а не 31 декабря.
Скорее всего, он принял бы вас за сумасшедшего.
Талант переоценивают
Как вы думаете, сколько согласных звуков вы запомните, если я буду произносить их в случайном порядке, разделяя секундной паузой? Попробуем провести эксперимент с буквами прямо на этой странице. Прочтите строку, задерживая взгляд на каждой букве в течение одной или двух секунд, дойдя до конца, закройте книгу и попробуйте воспроизвести прочитанное:
ОУРДСПЧЩКТЛДЕЫ
Думаю, вам удастся правильно вспомнить шесть или семь букв. В этом случае вы подтверждаете основной принцип, заявленный в одной из самых знаменитых статей по когнитивной психологии, опубликованной Джорджем А. Миллером из Принстонского университета в 1956 году: «Магическое число семь, плюс-минус два». В этой статье Миллер показал, что объем кратковременной памяти взрослого человека составляет приблизительно семь элементов и для запоминания большего числа элементов требуется концентрация и многократное повторение.
А теперь рассмотрим удивительные достижения в запоминании чисел, продемонстрированные человеком, который в литературе известен как SF. Эксперимент проводился в лаборатории психологии Университета Карнеги – Меллона в Питтсбурге 11 июля 1978 года, и руководили им Уильям Чейз и Андерс Эрикссон (впоследствии он исследовал берлинских скрипачей).
Они проверяли объем оперативной памяти SF с помощью теста на запоминание цифр. В этом тесте исследователь в произвольном порядке зачитывает цифры с интервалом в одну секунду, а затем просит испытуемого повторить их в том же порядке. В тот день SF предложили запомнить невероятно длинную последовательность из 22 цифр. В замечательной книге Джеффа Колвина «Талант ни при чем!» (Talent Is Overrated) описывается ход этого эксперимента:
– Так, так, так, – пробормотал он, когда Эрикссон прочел ему цифры. – Хорошо! Хорошо. О… черт! – Он три раза громко хлопнул в ладоши, затем умолк и, казалось, сосредоточился еще больше. – Ладно, ладно… Четыре, тринадцать и одна десятая! – выкрикнул он. Он тяжело дышал. – СЕМЬДЕСЯТ СЕМЬ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ, – голос его стал еще громче. – НОЛЬ ШЕСТЬ, НОЛЬ ТРИ! – теперь он кричал во все горло. – ЧЕТЫРЕ-ДЕВЯТЬ-ЧЕТЫРЕ, ВОСЕМЬ-СЕМЬ-НОЛЬ! – пауза. – ДЕВЯТЬ, СОРОК ШЕСТЬ! – он заскрежетал зубами. Осталась только одна цифра. Но вспомнить ее никак не удавалось. – ДЕВЯТЬ, СОРОК ШЕСТЬ… НОЛЬ, ДЕВЯТЬ, СОРОК ШЕСТЬ…
Он кричал, и в голосе его сквозило отчаяние. Наконец хриплым, сдавленным голосом он произнес: «ДВА!» Готово. Когда Эрикссон и Чейз проверяли результат, послышался стук в дверь. Это была полиция кампуса. Им сообщили, что в лаборатории кто-то кричит.
Удивительно и довольно драматично, правда? Но такие способности SF были только началом. Прошло немного времени, и испытуемый уже справлялся с сорока цифрами, потом с пятьюдесятью. В конце концов, после 230 часов тренировок в течение почти двух лет, SF научился запоминать 82 цифры. Если бы мы видели это собственными глазами, то неизбежно пришли бы к выводу, что перед нами продукт особых «генов памяти», «сверхчеловеческих способностей» – или нашли бы любой другой штамп, который используют для описания высшей степени мастерства.
Это явление Эрикссон называет иллюзией айсберга. Когда мы становимся свидетелями чудес памяти (а также спортивных или творческих достижений), то видим конечный продукт процесса, измеряемого годами. Невидимой для нас, подводной частью айсберга, остаются бесчисленные часы практики, предшествовавших непревзойденному мастерству: неустанные тренировки, овладение техникой и формой, концентрация в одиночестве, которая в буквальном смысле изменила анатомические и неврологические структуры виртуоза. Невидимую часть можно назвать скрытой логикой успеха.
Мы имеем дело все с тем же правилом десяти тысяч часов, только теперь попытаемся понять его смысл, его научное происхождение и применение в реальной жизни.
Принимавший участие в эксперименте SF был выбран по одному единственному критерию: его память была ничуть не лучше, чем у среднего человека. Приступая к тренировкам, он мог запомнить всего шесть или семь цифр – как вы или я. Поэтому удивительные результаты, которых он в конечном счете достиг, были обусловлены не врожденным талантом, а практикой. Впоследствии один из друзей SF улучшил его результат до 102 цифр, причем это явно не был предел его возможностей. Как выразился Эрикссон: «Вероятно, нет пределов улучшению памяти при помощи практики».
Задумайтесь над этим заявлением – оно революционное. Подрывным элементом в нем является не утверждение о памяти, а обещание, что любой может достичь таких же результатов – при наличии возможности и упорства. Последние тридцать лет Эрикссон открывал эту же революционную логику в таких разных областях, как спорт, шахматы, музыка, образование и бизнес.
«Мы снова и снова видим замечательный потенциал «обычных» взрослых и их потрясающую способность изменяться при помощи практики», – говорит Эрикссон. Это преображает наше понимание высоких достижений. Трагедия в том, что большинство все еще живет с неверными представлениями: в частности, мы сохраняем иллюзию, что высокие достижения уготованы особым людям с особыми талантами и недоступны остальным.
Как же SF добился таких результатов? Вернемся к упражнению на запоминание букв. В обычных обстоятельствах для того, чтобы запомнить больше шести или семи букв, требуется усиленная концентрация и многократное повторение. А теперь попробуйте запомнить 14 букв, приведенных ниже. Подозреваю, вы сделаете это без всякого труда – даже не потрудившись прочесть их по отдельности.
Ненормальность
Проще простого, правда? Почему? Причина очевидна – буквы составляют мгновенно узнаваемую последовательность, или структуру. Вы смогли запомнить набор букв, составив из них конструкцию высшего порядка (то есть слово). Психологи называют это «чанкинг» (от англ. chunking) – разбиение элементов на группы для облегчения работы с ними.
Предположим теперь, что я составил список из случайных слов. Из предыдущего примера известно, что вы сможете запомнить шесть или семь слов из списка. Такое количество элементов помещается в нашу кратковременную память. Но если считать, что в каждом слове 14 букв, то вы запомните больше 80 букв. При помощи «чанкинга» вы запомните столько же букв, сколько SF запоминал цифр.
Вернемся к битве SF с цифрами. Он произносил примерно такие фразы: «Три, сорок девять и две десятых». Почему? Джефф Колвин объясняет: «Когда он слышал цифры 9, 4, 6, 2, то представлял их как 9 минут и 46,2 секунды, превосходный результат в забеге на две мили. Аналогичным образом 4, 1, 3, 1 превращались в 4:13,1 – время в забеге на одну милю» (3,22 и 1,61 км соответственно. – Ред.). Фактически словами SF были мнемосхемы, основанные на его опыте бегуна. Психологи называют это структурой считывания.
А теперь совершим путешествие в мир шахмат. Вы, наверное, знаете, что шахматные гроссмейстеры способны помнить и разыгрывать множество партий одновременно, не глядя на доску. Русский гроссмейстер Александр Алехин в 1925 году в Париже давал сеанс одновременной игры вслепую на 28 досках: 22 партии он выиграл, три свел вничью и три проиграл.
Не подлежит сомнению, что такие удивительные достижения превосходят способности «обычных» людей, таких как вы и я. Или нет?
В 1973 году два американских психолога, Уильям Чейз и Герберт Саймон, придумали удивительно простой эксперимент, чтобы это выяснить (впоследствии Чейз проводил эксперимент с SF). Они взяли две группы людей – одну из опытных шахматистов, другую из новичков – и показали им шахматные доски с 25 фигурами, расставленными как в реальных партиях. Испытуемым показывали доски в течение короткого времени, а затем просили воспроизвести позиции на доске.
Как и ожидалось, опытные шахматисты запоминали расположение всех фигур, тогда как новички – только четырех или пяти. Но гениальность эксперимента проявилась позже. В следующей серии тестов процедуру повторили, но на этот раз фигуры расставили на доске в случайном порядке. Новички, как и раньше, смогли вспомнить расположение приблизительно пяти фигур. Но поразительным оказалось другое – опытные шахматисты, посвятившие игре много лет, справились ничуть не лучше. Они точно так же могли вспомнить правильное расположение не более пяти-шести фигур. Таким образом, у них не было какой-то особенно сильной памяти, как это казалось вначале.
В чем же дело? Суть в том, что для опытного шахматиста позиция на доске является эквивалентом слова. Большой опыт шахматной игры позволяет им за минимальное количество зрительных фиксаций «группировать» в определенные структуры расположение фигур точно так же, как знание языка позволяет группировать набор букв в знакомое слово. Этот навык приобретается многолетним знакомством с соответствующим «языком», а вовсе не талантом. Случайное расположение фигур разрушает язык шахмат, и опытные игроки видят просто набор букв, как и все остальные.
Эти особенности встречаются и в других играх, например в бридже, а также много где еще. Раз за разом удивительные способности мастеров своего дела оказываются не врожденным талантом, а результатом длительных усилий, и мгновенно исчезают, стоит только выйти за границы конкретной профессиональной области. Возьмем, например, SF. Выработав поразительную способность запоминать до 80 цифр, он по-прежнему не мог вспомнить больше шести или семи произвольно выбранных согласных букв.
Теперь попробуем перенести эти выводы в мир спорта.
Мысленный взгляд
В декабре 2004 года я играл в теннис с Михаэлем Штихом, бывшим чемпионом Уимблдона из Германии. Матч проходил в Harbour Club, роскошном спортивном заведении на западе Лондона, и был частью рекламной акции с участием журналистов и лучших теннисистов в преддверии соревнований в лондонском Альберт-холле. Большинство матчей были несерьезными – Штих играл не в полную силу и делал журналистам поблажки, развлекая зрителей. Но, когда настала моя очередь, мне захотелось провести эксперимент.
Я попросил Штиха подавать в полную силу. Его подача – одна из самых мощных в истории этого вида спорта (личный рекорд 215,6 километра в час), и мне захотелось проверить, позволят ли мои рефлексы, натренированные двадцатью годами международных состязаний по настольному теннису, отбить летящий с такой скоростью мяч. В ответ на мою просьбу Штих улыбнулся, любезно согласился исполнить ее, а затем добрых десять минут интенсивно разминался, готовя плечи и торс к мощной подаче. Зрители – около тридцати членов клуба – внезапно стали серьезными, а атмосфера сделалась напряженной.
Штих вернулся на корт слегка вспотевший, позволил мячу отскочить от корта и взглянул через сетку – это его привычка. Я присел и сосредоточился, напрягшись, словно пружина. Я не сомневался, что приму подачу, хотя понимал, что она не будет похожа на слабую «свечу» в центр корта. Штих высоко подбросил мяч, выгнулся дугой, а затем случилось то, что показалось мне вихрем. Я видел, как мяч соприкасается с его ракеткой, однако он пролетел мимо моего правого уха с такой скоростью, что я почувствовал дуновение воздуха. К тому времени, как мяч ударил в мягкую зеленую ткань за моей спиной, я едва успел повернуть голову.
Я растерянно выпрямился, что развеселило Штиха и многих зрителей, которые едва сдерживали смех. Я не мог понять, каким образом мяч так быстро преодолел расстояние от ракетки соперника до корта, а затем просвистел у моего уха. Я попросил Штиха подать еще один раз, потом еще. Он выполнил четыре подачи на вылет, пожал плечами, подошел к сетке и похлопал меня по спине, сообщив, что последние два раза подавал не в полную силу, чтобы дать мне шанс. Я этого даже не заметил.
Из этого довольно унизительного эксперимента большинство сделают вывод, что способностью среагировать на мяч, летящий со скоростью 210 километров в час, не говоря уже о том, чтобы отбить его, обладают лишь люди с врожденной скоростью реакции – иногда мы называем это инстинктом, – которая значительно превосходит человеческие возможности. Вы практически неизбежно приходите к такому выводу, когда мяч пролетает мимо вашего носа с бешеной скоростью, и вам остается только радоваться, что он вас не задел.
Но я не мог сделать этого вывода. Почему? Потому что в других обстоятельствах я проявлял необыкновенную скорость реакции. За теннисным столом я мгновенно реагировал на убийственные смеши. Время, отведенное игроку для реакции на теннисную подачу, составляет приблизительно 450 миллисекунд, а для реакции на смеш в настольном теннисе – менее 250 миллисекунд. Почему же я справлялся во втором случае и не справлялся в первом?
В 1984 году Десмонд Дуглас, лучший в британской истории игрок в настольный теннис, стоял в Университете Брайтона перед экраном с несколькими сенсорными пластинами. Ему сказали, что пластины будут подсвечиваться в произвольном порядке, а его задача – как можно быстрее касаться этой пластины указательным пальцем той руки, которой ему удобно, и ждать, когда подсветится следующая пластина. Мотивация Дугласа была высока, поскольку все остальные члены команды уже прошли тест и дружески подначивали его.
Осветилась одна пластина, затем другая. Касаясь пальцем экрана, Дуглас уже искал глазами следующую цель. Через минуту тест закончился, и товарищи Дугласа зааплодировали (и я тоже – мне было тринадцать лет, и это были мои первые сборы в команде взрослых игроков). Дуглас улыбнулся, и исследователь удалился в соседнюю комнату, чтобы вычислить результат. Через пять минут он вернулся и объявил, что реакция Дугласа оказалась самой медленной во всей английской сборной – медленнее, чем у юниоров и кандидатов, даже медленнее, чем у менеджера команды.
Я помню свое потрясение. Этого просто не могло быть. Все считали, что у Дугласа самая быстрая реакция в мире настольного тенниса, и эта репутация сохранялась еще десять лет после того, как он ушел из большого спорта. Стиль игры у него был необычным: он стоял в нескольких сантиметрах от края стола и с быстротой молнии подставлял ракетку под мяч, удивляя зрителей всего мира. Он был настолько быстр, что перед ним пасовали даже ведущие китайские игроки, славящиеся необыкновенной скоростью реакции. Но тот ученый сообщил нам, что у Дугласа самая медленная реакция среди всей английской команды.
Неудивительно, что после первоначального шока исследователя высмеяли, и он поспешно ретировался. Ему сказали, что машина, вероятно, неисправна или он перепутал данные. Впоследствии руководитель английской команды сообщил исследователям из Брайтона, что в их услугах больше не нуждаются. В то время спортивная наука была новой дисциплиной, и руководитель команды проявил необычную смелость, решив проверить, можно ли извлечь пользу из ее достижений, однако этот эксперимент как будто бы показал, что наука ничем не может помочь настольному теннису.
И никто, даже невезучий исследователь, не подумал о том, что у Дугласа действительно была самая медленная реакция в команде, а его успех у теннисного стола обусловлен чем-то совсем иным. Но чем?
Я стою в лаборатории Ливерпульского университета имени Джона Мурса на северо-западе Англии. Передо мной на экране изображение теннисиста, стоящего на другом конце виртуального корта. Направление моего взгляда отслеживает специальная система, а мои ноги стоят на датчиках. Все это разработано профессором Марком Уильямсом, который изучает моторное поведение человека и считается ведущим специалистом в области перцептивной оценки в спорте.
Марк нажимает на кнопку «Пуск», и я смотрю, как мой «соперник» подбрасывает мяч, готовясь к подаче, и выгибает спину. Сосредоточившись, я внимательно слежу за ним, но результат точно такой же, как тогда, когда я не мог принять подачу Штиха.
«Вы смотрели не туда, – говорит Марк. – Лучшие теннисисты смотрят на корпус и бедра соперника, чтобы определить, в какую часть корта тот собирается подавать. Если бы я остановил запись до удара по мячу, они все равно могли бы довольно точно сказать, куда он полетит. Вы смотрели на его ракетку и руку, но это не дает почти никакой информации о будущей траектории мяча. У вас может быть лучшая в мире реакция, но вы все равно не отобьете мяч».
1
В русском сокращенном переводе 1875 года эта книга называлась «Наследственность таланта, ее законы и последствия». Здесь цитируется по этому изданию. – Примеч. ред.
2
Одна довольно очевидная оговорка: в командных видах спорта уровень мирового класса может быть достигнут не через десять тысяч часов, а раньше. В конце концов, не так уж трудно войти в число лучших в мире спорта – или в любой другой области, – где немногие играют серьезно. – Здесь и далее, если не указано иное, примеч. автора.