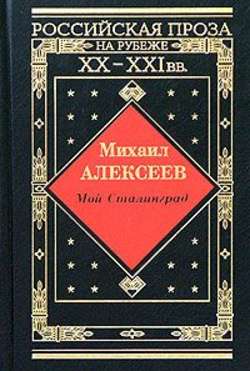Читать книгу Драчуны - Михаил Алексеев - Страница 2
Часть первая
2
ОглавлениеМужики рассказывали потом, что труднее всего им было разнять, отцепить друг от друга нас с Ванькой. Меня лично привела в чувство и мгновенно отрезвила редкая по ядрености, звончайшая оплеуха, отпущенная от всех щедрот (знать, по-родственному) дядей Иваном, который затем ухватил железными лапищами племянника за уши и отдернул от Ваньки. Последнего сгреб в охапку здоровенный и упитанный отец Василий и унес зачем-то (не на исповедь же?) прямо в церковь, куда уже направлялись самые набожные прихожане.
Остальными бойцами занимался Иван Павлович, построив их перед собой, как строит новобранцев ротный старшина перед казармой.
Вышла из школы и стала рядом с мужем Мария Ивановна; вдвоем они вели все четыре класса до тех пор, пока на селе не поставили новую школу и не открыли в ней семилетку, а потому и отвечали здесь за все и перед районо, и перед сельсоветом. На Марии Ивановне лежала обязанность не только учить, но и производить набор первоклассников. Именно к ней припожаловал прошлой осенью и я. «Где родился?» – первым долгом спросила она, склонившись над списком новых учеников. Так как я был наслышан от домашних, где мне суждено было явиться на свет божий, то тут же и ответил: «У бабушки на печке». Оказавшийся рядом Иван Павлович коротко хмыкнул. Я решил, что он мне не поверил, и пустился в подробности, но Мария Ивановна остановила меня, сказав: «Ну, ладно. Первого сентября приходи в школу». Губы ее чуть поморщились в грустновато-светлой, по обыкновению, улыбке.
Иван Павлович ощупывал каждого своими колючими глазами и произносил какую-то гневную речь, но не остывшие до конца, не пришедшие в себя ребятишки не улавливали ее смысла, может быть, и вовсе не слышали этой речи, и о том, что она была очень сердитой, могли догадываться по обжигающе острому блеску зеленоватых глаз и подергивающимся кошачьим усам учителя. Мария Ивановна молчала, скрестив руки на груди и глядя на провинившихся удивленно-печальными, укоряющими очами, – с ними-то как раз больше всего и боялись встретиться притихшие вдруг, потерянные, оробевшие и в общем-то несчастные драчуны. На чужом пиру им досталось одно похмелье. Решительно всем. И второму после Ваньки Жукова, а теперь, наверное, первому, моему другу из Непочетовки Кольке Полякову, стоявшему на правом фланге с рассеченною нижней губой и страдающему скорее всего не от полученных в бою ран, а от мысли, что за изодранную, единственную на двух братьев сатиновую рубаху придется держать ответ перед строгой матерью и перед отцом, хоть и добрым, но, кажется, самым бедным на селе мужиком, положившим основание Непочетовке своей убогой лачугой; и Миньке Архипову с той же улицы, единственному сыну у молодых родителей, больше всего опасавшихся, чтобы их слабое, изнеженное дитя не ввязалось бы в какую ни то ребячью свару; и Петьке Денисову-Утопленнику (прошлым летом, вытащив из пруда, его едва откачали и вернули к жизни) с одноименной Денисовой улицы, потому как на ней проживало с полдюжины семейств, объединенных одной фамилией; и Гриньке Музыкину, безотцовщине, забубенной головушке, грозе чужих огородов, садов, а в зимнюю пору и погребов, неутомимому говоруну («Уж больно ты речист – видно, на руку нечист», – пословица, нацеленная прямехонько в таких добрых молодцев, как Гринька), завидовскому забияке, с которым не мог справиться даже Ванька Жуков, – он и сейчас не отводил в сторону и не опускал долу своих отчаянных, по-рачьи выпуклых, нагловатых глаз, а бесстрашно и вызывающе скрещивал их с глазами Ивана Павловича, чаще всего оставлявшего Гриньку Музыкина без обеда; и моему тезке Михаилу Тверскову, к которому со следующего дня я перейду за парту и буду сидеть какое-то время рядом с ним и учиться до пятого класса, вплоть до незабываемого тридцать третьего года, который отнимет у меня и Михаила Тверскова, и множество других бесконечно дорогих мне людей; стоял перед учителями со всегдашней своей загадочной ухмылкой и мой двоюродный племянник, одним лишь годом младше меня, Колька Маслов, чуть ли не единственный, на лице коего только что закончившееся сражение не оставило никаких следов-отметин, – объяснить это почти невероятное явление можно лишь исключительной хитростью этого темноглазого сорванца.
Хуже всех, надо полагать, чувствовал себя Янька Рубцов, самый робкий из моих друзей в Непочетовке, оказавшийся в свалке отнюдь не по своей воле: его кто-то из старших неласковым пинком под зад втолкнул в круговерть мальчишескую, где, судя по разбитой «сопатке», Яньке попало, кажется, больше всех. Сейчас он находился прямо против Марии Ивановны и ждал только от нее одной для себя защиты.
– А Рубцов как сюда попал? – ахнула Мария Ивановна, заметив наконец Яньку и сразу же определив, что он без вины виноватый. Милостиво попросила мужа: – Отпустите его, Иван Павлович. И Архипова Мишу – тоже. – Старая учительница была совершенно уверена, что этот-то недотрога, мамкин сынок, наверняка вовлечен в потасовку другими.
– Марш домой, Рубцов! И ты, Архипов, – ну! – скомандовал Кот. – И наперед смотрите!..
Я дружил с Янькой, прощая многие его слабости (у кого их нет!), одна из которых казалась мне особенно неприятной и менее извинительной, – это Янькина скупость, не ведающая границ. Однажды она проявилась у него, пожалуй, в самой крайней степени.
После половодья, когда наша речка Баланда возвращается в прежние, привычные для нее берега и скликает в свое лоно разбежавшиеся во все стороны, по лесам и лугам, вешние воды, когда вместе с ними по бесчисленным рукавам, овражкам, рытвинам, проделанным ими же в прежние весны, по колеям, углубленным шустрыми ручьями, по старице устремляются в обратный путь нагулявшиеся вволю и отнерестившиеся щуки, красноперки, жерехи, язи и всякая другая рыбья мелочь, вроде ершей и уклеек, жители села Монастырского, мужская его половина, от мала до велика, выходят на промысел. В дело пускаются снасти самые разнообразные, изготовленные загодя, в долгие зимние вечера. Тут и вентери, и вершки, и наметки, и всевозможных форм и размеров сачки, и другие премудрые штучки, рассчитанные на то, чтобы изловить заблудшую рыбешку. Тяжелыми наметками здоровенные мужики и парни орудуют прямо с берега: в мутной воде, окрашенной в глинистый цвет весенними потоками, низвергающимися с оврагов, рыба слепая, она ничего не видит, и ее накрывают, наметывают такой снастью и волохом тащат на берег. С вершами же, вентерями и сачками уходят на луга, в лес – к шумно сбегающим в материнское ложе Баланды ручьям, где и преграждают путь рыбе. При этом торопятся и все и вся. Ручей спешит потому, что боится быть перехваченным каким-нибудь невидимым сейчас холмиком или перемычкой. Рыба может остаться на свою погибель в любом сезонном лесном болотце, с которым в две недели расправится солнце, выпьет его до самого донышка – долго ли проживешь, оказавшись на мели в прямом и переносном смысле! Ну а человеку и подавно не следует мешкать: весенний разлив недолог, а рыба выходит на свою прогулку или на пастбище на очень малый срок, равный одной неделе, не более того. Тут уж, рыбачок, не зевай. Замешкавшийся, ты можешь вернуться от иссякающего рукава или ручья ни с чем, несолоно, значит, хлебавши.
Не знаю почему – то ли мы опоздали, то ли пришли раньше времени, но за весь день в наши с Янькою верши не попалось ни единой рыбешки. Утащить снаряжение в другое место мы не могли – не хватало силенок. Верши для нас расставили тут наши старшие братья. Мы только дежурили и время от времени подымали за хвост свою снасть, чтобы заглянуть сквозь мокрые, лоснящиеся прутья, не трепещет, не барахтается ли там серебристая рыбина. Рыбины не было. Под вечер, когда терпение могло кончиться не только у ребятишек, но и у взрослых, я заскучал и, позевывая, внутренне усмехнулся.
– Янь! – окликнул своего соседа, впавшего от неудачи в апатию.
– Што-с? – сонным, ленивым голосом ответствовал тот.
– А што ежли счас в твою вершу попадет сто щук, ты отдашь мне половину?
Янька мгновенно оживился, сонную одурь как рукой смахнуло с его круглого, похожего на полную луну лица. Воззрившись на меня в удивлении, он горячо, с досадою вымолвил:
– Ишь ты какой умный! Нашел дурачка! Эт почему же я отдам их тебе?..
На другой ответ я и не рассчитывал, а потому и расхохотался. Отсмеявшись, выпалил как можно громче:
– Дурак ты, Янька, скупердяй, жмот несчастный! Да ни хренинушки ты не пымашь! Ну, лады. Прячь подальше своих щук, не то Гринька Музыкин стащит. Бывай! – с этими словами я поднялся, засунул в карман порожнюю, приготовленную для улова сумку, скверно свистнул и нырнул под голые еще ветки пакленика, оставив напарника, так, видно, и не понявшего, отчего это я рассмеялся.
Но сейчас мне было не до смеха. Усмиренный дяди Ваниной оплеухой, я был поставлен в строй рядом с другими учениками, в полном безразличии выслушал проповедь Ивана Павловича, зацепившись ухом лишь за ее концовку, где учитель наказывал, чтобы мы сообщили своим родителям: их завтрашним вечером вызывают в школу. Это означало, что впереди нас ждала трепка более внушительная, чем та, которую мы только что учинили друг другу. Разбитые наши носы дружно, согласно шмыгнули. Кто-то непроизвольно, судорожно, с прерывистым всхлипом вздохнул. Словом, заключительная часть преподавателевой речи пришлась решительно не по вкусу всем. Видя это, Кот передернул усами, пряча под ними нехорошую ухмылку. Мы же – опять все разом – впервые за эти тягостные минуты подняли свои глаза на Марию Ивановну – инстинктивно, точно так же, как Рубцов Янька, ища у нее ежели и не защиты, то хотя бы сочувствия. Что-то материнское, жалеющее и именно сочувствующее и мерцало в ее добрых и, как всегда, грустноватых глазах, но это было все, что могла нам предложить старая, боящаяся своего жестковатого мужа учительница. Мне показалось, что в реденьких ее ресницах, не прикрывавших красноватых век, запуталась одна слезинка.
Между тем Иван Павлович выговорился до конца и повелительным, отстраняющим жестом дал понять, что мы свободны. Никому, однако, не хотелось идти домой. Ученики не без основания опасались, что родители уже прознали о грандиозной драке возле школы (худая весть быстронога) и о том, что в ней принял активное участие их сын, и теперь где-нибудь под рукой у отца находился ремень или чересседельник, которыми чаще всего и потчевали нашкодившего. Мы понимали, что ремня не избежать, но хотели бы повременить с этим делом. Пускай уж тебя высекут поздним вечером, на сон грядущий: меньше будет свидетелей.
Взяв это в соображение, я нешибко вышел к озеру, ополоснул хорошенько лицо, отчего царапины, кровоподтеки, синяки и шишки выступили на нем еще отчетливей, и я полагал, что теперь должен выглядеть вполне сносно.
Озеро, в котором я умылся, называлось Кочками – потому, наверное, что с весны до осени берега его были изрыты коровьими и лошадиными копытами, и выворачиваемая грязь, высыхая, превращалась в несокрушимо твердые, остроконечные кочки, о которые больно укалывались даже наши задубелые, закаленные на стерне и на степных колючках босые ноги. Летом мы купали в Кочках лошадей и купались сами.
Было шумно и весело, хотя в теплой, стоячей, непроницаемо-мутной воде кишмя кишели не только караси и головастики, но и пиявки, норовившие присосаться к голому заду и напиться крови. Больших, жирных пиявок (их почему-то у нас называли «лошадиными») мы не боялись: эти насосутся и сами отвалятся. Куда вреднее и противнее были тонкие, красноватые, в узкую полоску, ленточные, – они забирались под кожу и снаружи оставляли чуть видимый кончик хвоста, а за него ухватиться не могли и наши цепкие пальцы.
Сейчас Кочки были пустынны. Вода в них охолодала, обрела свинцово-тяжелый, нерадостный цвет. По ней кое-где еще плавали редкие семейства домашних уток и гусей: рачительные, экономные хозяева не торопились загонять на свои дворы эту крякающую и гогочущую пернатую живность, берегли корм, которого было всегда в обрез. Прилетали сюда и гнездились, выводили потомство и дикие утки, чирки и даже крячки, но они выплывали на открытое зеркало озера лишь ночью, а днем прятались в камышах, вымахавших на одной стороне Кочек в саженный рост и нахально шагнувших прямо по воде чуть ли не на его середину. Кочки – это, в сущности, большое болото, сохранившееся от тех времен, когда тут темнел густой лес и не ступала нога человеческая и когда сюда прилетали несметные полчища водоплавающей птицы, в том числе и лебедей, которых теперь можно было увидеть на самый малый срок разве что по весне, во время разлива реки Медведицы и впадающей в нее нашей Баланды. Нынешние крячки являлись прямыми потомками уток, обитавших здесь в счастливые для них времена. Древний инстинкт, унаследованный от крылатых аборигенов, подавлял страх перед людьми и властно гнал путешественниц за тысячи верст к родимому болоту, оказавшемуся почти в самом центре человеческого поселения. Прилетев, утки жили рядом с нами до глубокой осени, до той последней минуты, когда все сужающаяся и сужающаяся круговина воды, переливающаяся мелкой рябью под порывами ветра, не остановится, не замрет, побледнев в смертельном страхе, в тугих и коварных объятиях подкравшегося в ночи мороза.
Умывшись, я присел на берегу озера, еще раз бездумно огляделся во все стороны. Потом – также без всякой мысли – стал бросать в воду комочки земли. Но тут же вспомнил, что, будь рядом со мной Ванька, мы затеяли бы соревнование: кто сделает больше «блинчиков» пущенным по водной глади плоским камнем. Иногда в этой игре мне удавалось побеждать Ваньку. Низко склонившись вправо, отведя руку далеко в сторону, я бросал снаряд так ловко и с такою силой, что он скакал по воде как сумасшедший, оставляя за собой, словно паук-водомер, множество уменьшающихся по мере удаления и укорачивающихся в скоке «блинчиков», то есть следов от своего легкого, поверхностного касания. При удачливом броске таких следов-блинчиков получалось на воде до тридцати и более. А это означало, что ежели твой противник «испечет» хотя бы на один «блин» меньше, то получит в свой лоб тридцать, а то и сверх того щелчков. Проиграв, гордый Ванька не просил снисхождения, а требовал, чтобы я бил по совести, не притворялся. Очень сердился, когда чувствовал, что щелчки мои недостаточно ядрены. Выиграв, Ванька не щадил и меня, но советовал, опираясь на богатый собственный опыт: «Лоб надо наморщить. Не так больно будет». И, видя, что я внял его рекомендации, приступал к экзекуции с сознанием честно и до конца исполненного товарищеского долга.
Что и говорить, занятие было не из рядовых. Мне и сейчас захотелось сотворить десяток-другой «блинчиков». Отыскал поблизости нужное количество подходящих камней, предварительно взвесил их на ладони и, отобрав один, совершил бросок. Он оказался неудачным: камень не помчался по озеру вприпрыжку, а тяжело, неуклюже плюхнулся в воду и утонул. Но это меня не очень огорчило: первый блин, как водится, комом. Пальнул следующий камень. Но и этот не издал знакомого, радующего слух звонко-певучего чоканья (чок-чок-чок), которым обычно сопровождается хорошо подготовленный прежними тренировками и уверенно выполненный бросок. «Это что же со мной?» – удивился я, рассматривая правую руку, виновницу неудач. «А ну, еще разок попробую.» Попробовал – и опять ничего не получилось. Камень подскочил раза два и, всхлипнув, исчез. С досады плюнул и снова – в какой уж раз за эти минуты! – подумал о Ваньке с подступающим к горлу сухим, горьким комом обиды и тупым, давящим грудь озлоблением. Оставшиеся камни отшвырнул от себя ногой, сожалея, что не мог запустить их в Ваньку, – более лютого врага у меня сейчас не было.
«Где он сейчас?» – мелькнуло в голове и отозвалось острой болью в сердце.
«Ну, постой, дружок! Появись только в Непочетовке, мы те зададим!»
В Непочетовке у Ваньки проживал дядя, и Ванька, исполняя поручения отца, часто наведывался к нему. Делал он это с удовольствием, потому что на обратном пути забегал ко мне и мог схорониться на нашем подворье, избавиться на час-другой от еще каких-нибудь заданий, менее для него приятных. Тогда-то, думалось мне, мы и подкараулим Ваньку. Теперь в мстительных своих размышлениях я уже подсоединял к себе и товарищей, тех же Кольку Полякова, Мишку Тверскова, Петьку Денисова-Утопленника и даже Яньку Рубцова с Минькой Архиповым. Впрочем, раньше и прежде всего я рассчитывал на Гриньку Музыкина, самого, конечно, отчаянного и надежного бойца в отряде, который уже формировался в моем уме.
Мысль о собственном войске немного ободрила меня, и я собрался домой. Теперь только обнаружил, что со мною нет сумки с учебниками, тетрадями и новеньким пеналом с карандашами – предметом особой моей гордости. Может, вернуться за сумкой? «А ну ее, никуда не денется. Мария Ивановна подымет и уберет!» – проговорил я вслух неестественно беспечным голосом и вышел на выгон за Кочками, где по утрам пастухи собирают стада коров и овец, чтобы увести их на пастбище. За выгоном виднелся ряд изб, пристроившихся на задворках у Непочетовки, и в ряду этом крайней справа была наша изба, куда мы отселились от дедушки Михаила совсем недавно. Как-то встретят меня там? И дома ли папанька? Было бы неплохо с его стороны, если б он догадался уехать на Карюхе к своему другу-мельнику, известному на всю округу выпивохе, и загулять там суток на трое, а еще лучше на всю неделю. Такое с моим отцом случалось, и не редко. Обычно он отправлялся к вечно припудренному мучной пылью приятелю по субботам, а сегодня, припомнил я, как раз суббота.
Появилась слабая надежда избежать наказания. Воодушевляемый ею, я зашагал к своему дому посмелее, не замечая даже, что то и дело попадаю ногами в свежие коровьи лепехи.