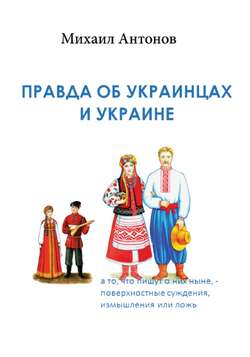Читать книгу Правда об украинцах и Украине - Михаил Антонов - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 2. Германское государство Русь
Особенности завоевания Руси германцами
ОглавлениеКогда историки говорят о мирном приходе варягов на Русь, они лукавят. Призвали Рюрика лишь в Новгород. А империя Олега, севшего княжить в Киеве, создавалась огнём и мечом. А потом начались настоящие военные походы для покорения славянских племён и принуждения их к уплате дани. Приведу лишь несколько строк из «Повести временных лет…»: «Начал Олег воевать против древлян и, покорив их, брал дань с них по чёрной кунице… Отправился Олег на северян, и победил их…» Воевал Олег с уличами и тиверцами и т. д. (особенно упорно сопротивлялись варягам вятичи – предки будущих великороссов). «Олег начал ставить города и установил дани славянам, и кривичам, и мери, положил и для варягов давать дань от Новгорода по триста гривен ежегодно…». Те славянские племена, что платили дань хазарам, заставил платить ему. И властвовал над покорными славянами, а с непокорными воевал.
Но и после завоевания земель славянских племён считать это население покорённым было бы легкомыслием. Сбор налогов (то есть дани) тоже проходил как военная операция. «Пошёл Игорь на древлян и, победив их, возложил на них дань больше Олеговой».
Хотя и при завоевании Руси варяги (и в целом, и в отношении к покорённому населению) остались германцами, всё же им пришлось приспосабливаться к местным условиям.
Ведь прежде варяги жили только грабежом, совершая набеги на земли своих жертв, а затем возвращались в родные пенаты, где зализывали раны и пополняли ряды своих ватаг, замещая погибших. Исключений их этого правила было немного. Так, викинги, ограбив приморскую провинцию Франции, основали там герцогство Нормандия (затем в 1066 году нормандский герцог завоевал Англию). И вот варягам, пришедшим на Русь, досталась огромная страна, которой в Европе не было равных ни по размерам, ни по богатству. Но всё же первые варяжские киевские князья – и Олег, и Игорь – совершали набеги на морских судах на Константинополь, показав местным аборигенам на Руси свою способность к стратегическому мышлению.
Аскольд и Дир также совершили набег на Константинополь, но неудачно:
В 866 году «отправились Аскольд и Дир войной на греков… (Вошли в предместья столицы Византии.) Совершили много убийств христиан и осадили Царьград двумястами кораблей. Царь же… всю ночь молился с патриархом Фотием в церкви Святой Богородицы во Влахерне, и вынесли они с песнями божественную ризу Святой Богородицы и омочили в море её полу. Была в это время тишина и море было спокойно, но тут внезапно поднялась буря с ветром, и великие волны, чтобы разметать корабли язычников русских, и прибило их к берегу и переломало так, что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой». Словом, пошли по шерсть, а вернулись стрижеными.
Олег же действовал иначе. В 907 году отправился он в поход на конях и на кораблях на Царьград. И пришёл к Царьграду. «И вышел Олег на берег, и начал воевать, и много убийств совершил в окрестностях города грекам, и разбил множество палат, и церкви пожгли. А тех, кого захватили в плен, Одних иссекли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море, и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги.
И повелел Олег своим воинам сделать колёса и поставить на колёса корабли. И с попутным ветром подняли они паруса и пошли по полю к городу. Греки же, увидев это, испугались и сказали через послов Олегу: «Не губи город, дадим тебе дани какой хочешь». И остановил Олег воинов, и вынесли ему пищу и вино, но не принял его, так как было оно отравлено. И испугались греки и сказали: «Это не Олег, но святой Дмитрий, посланный на нас от Бога». И приказал Олег дать дани на две тысячи кораблей: по двенадцати гривен на человека, а было в каждом корабле по сорок мужей.
И согласились на это греки, и стали греки просить мира, чтобы не воевал Греческой земли. Олег же, немного отойдя от столицы, начал переговоры о мире с греческими царями Леоном и Александром и послал к ним в столицу Карла, Фарлафа, Вермуда, Рулава и Стемида (как видим, всё чистейшие славяне… германского происхождения) со словами: «Платите мне дань». И сказали греки: «Что хочешь, дадим тебе». И приказал Олег дать воинам своим на две тысячи кораблей по двенадцати гривен на уключину, а затем дать дань для русских городов…»
Так был заключён мир. И сказал Олег: «Сшейте для руси паруса из паволок (драгоценной ткани), а славянам копринные (попроще) – и было так. И повесил щит свой на вратах в знак победы и пошли от Царьграда… И вернулся Олег в Киев, неся золото, и паволоки, и плоды, и вино, и всякое узорочье. И прозвали Олега вещим, так как были люди язычниками и непросвещёнными». Послал Олег мужей своих заключить мир и установить договор между греками и русскими» – и опять в составе делегации ни одного славянского имени, только германцы.
Святослав пытался достичь Царьграда по суше, через Болгарию, но не преуспел. И лишь со временем киевские князья осознали, что, имея такую богатую страну, можно не тратить усилия на морские набеги, а получать многократно большее богатство, облагая данью местное население и продавая добытое (в том числе и рабов) на мировом рынке (например, в Византии или в Западной Европе). Рюриковичи устроились на Руси по-хозяйски. Они приняли христианство, причём именно в восточном, православном виде. Это отличало их от других германских завоевателей, которые почти все оказались в ареале католицизма, хотя часто и в еретическом его варианте (арианство и др.). Выбор киевских князей был объективно обусловлен. Во-первых, их жизненным нервом, главной коммуникации оставался водный путь «из варяг в греки» (убожество быта варягов по сравнению с роскошью византийских императоров было для них очевидным). Во-вторых, Византия и для тогдашних западноевропейских королевств оставалась высшим уровнем могущества и культуры, предметом восхищения и зависти. И Киев стал также украшаться великолепными храмами, претендовать на звание «второго Константинополя». Рюриковичи охраняли независимость доставшейся им страны, пеклись об её международном авторитете, стремились и у себя готовить грамотных людей, необходимых для управления столь громадным государством.
А.П. Прохоров в книге «Русская модель управления» (М., 2002) показывает, почему на Руси не годился опыт эксплуатации германцами туземного населения, приобретённый в Западной Европе. Например, дикие франки захватили богатую римскую провинцию Галлию. Они застали там многочисленное порабощённое население, за долгие века привыкшее к тому, что им командуют и его эксплуатируют. Там давно укоренились христианство и римское право, охранявшее частную собственность. Поэтому король мог раздавать землю в собственность рыцарям и даже франкам-крестьянам, «размазав» свою армию по всей стране. И каждый из завоевателей (скажем, один франк на целую деревню) спокойно эксплуатировал местное население на пожалованной ему земле. И лишь в случае войны эта «размазанная» по земле орда составляла многочисленную армию.
А на Руси тогда, во времена германского завоевания, не было ни христианства, ни развитой правовой системы и частной собственности, ни привычного к эксплуатации населения. Дружину нельзя было «размазать» по территории страны с тем, чтобы она кормилась на месте. Славянские племена до того не были никем покорены, не было традиции того, что они должны кого-то содержать. Забрать прибавочный продукт можно было только «полюдьем», явившись со всей дружиной. Подданные платили налоги лишь при угрозе непосредственного применения военной силы.
А варяги были жадны до богатства. Варяги – дружинники князя Игоря Рюриковича подбивали его на разбой: «Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам». И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю ещё». И отпустил дружину свою домой, а сам с малой частью дружины вернулся, желая большего богатства».
Ну, и как же должны были принять его древляне?
«Древляне же, услышав, что идёт снова, держали совет с князем своим Малом: «Если повадится волк к овцам, то вынесет всё стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьём его, то всех нас погубит». И послали к нему, говоря: «Зачем идёшь опять? Забрал уже всю дань». И не послушал их Игорь, и древляне, выйдя из города Искоростеня, убили. Игоря и дружину его, так как было её мало». А если вообще без дружины, один воин на целую деревню, как на Западе? Нет, на Руси подданные не готовы были добровольно кормить всю эту княжескую братву.
Жаждали князья и их дружинники не только богатства, но и славы. Всем памятны строки о дружине, которая жаждет «себе чести, а князю славы». Ну, а если представлялась (хотя бы умозрительно) возможность обрести и богатство, и славу одновременно, то ради этого князья пускались порой в предприятия весьма рискованные.
Великий князь Святослав Игоревич, разгромив Хазарию и одержав ряд других блистательных побед, оправился в поход на Балканы, едва не потеряв собственную столицу – Киев, подвергшийся нападению печенегов. Вернувшись и прогнав печенегов, «сказал Святослав матери своей и боярам своим: «Не любо мне сидеть в Киеве, хочу жить в Переяславце на Дунае – там середина земли моей, туда стекаются все блага: из Греческой земли – золото, паволоки, вина, различные плоды, из Чехии и из Венгрии серебро и кони, из Руси же меха и воск, мёд и рабы». Особенно поражает это последнее слово: из Руси, государства русского князя, поступают рабы! Как известно, затея Святослава окончилась для него плачевно, сам он был убит печенегами.
Ну, ладно, Святослав – великий воин. Но вот князь Василько Теребовльский, ничем ещё (кроме войны с поляками) себя не проявивший. Неизвестно, замышлял ли он что-нибудь против других князей, соседей своих, но они, опасаясь этого шустрого воина, заманили его к одному из них и ослепили. И Василько сетует, что не удались его замыслы: «Землю Польскую буду завоёвывать зимою и летом… И потом хотел захватить болгар дунайских и посадить их у себя. И затем хотел… идти на половцев – да либо славу себе буду иметь, либо голову свою сложу за Русскую землю» (Надеюсь, читатель уже понимает, что Русская земля у князей Киевской Руси – это вовсе не Россия, а только земли вокруг Киева)
Возможно, варяжские князья и дальше проявляли бы свою разбойничью суть, но они вынуждены были несколько поубавить и свою алчность, и свою спесь. Да и случай с Игорем должен был их научить. А он был не единственным, варягов не-князей убивали нередко, потому что творили они разбой и насилие, и в «Русской правде» были прописаны наказания за это. Варяжские властители поняли, что несколько десятков князей с несколькими тысячами варягов-дружинников численно были каплей в море местного населения, так что при чрезмерном обострении отношений с ним им несдобровать. У них хватило ума, чтобы не призывать на эту громадную и обильную землю других германцев, чтобы не делиться с ними добычей, а то и лишиться всего. Если бы германская колонизация приняла огромные размеры, то ещё неизвестно, смог ли бы на окраине Руси появиться русский народ, и сколько веков заняла бы его борьба против оккупантов. Не постигла ли бы русских судьба тех славянских народов, которые были онемечены и практически перестали существовать? И пришлось им балансировать на грани высокомерия и панибратства с местными славянами.
Князья перешли на славянский язык. Стали именоваться не только по владению, но и по имени-отчеству. (Конечно, выбирали себе и детям своим не простонародные славянские имена вроде Добрыни или Вышаты, а аристократические: Святослав, Ярослав, Брячислав, Святополк и т. п., возможно, на польский манер, где были короли Болеславы.) Старательно внедряя родовое начало и противопоставляя его местной «беспородной» общинной традиции, владение самой Русской землёй Рюриковичи были вынуждены организовать на началах именно… территориальной общины: Киевская Русь до самого своего конца осталась совместным владением рода князей Рюриковичей. Среди них не было сюзеренов и вассалов, они все были соправителями Руси, и каждый из них в принципе мог стать великим князем, который считался лишь «первым среди равных». После смерти великого князя киевского великокняжеский стол переходил не к его старшему сыну, а к князю – старшему в роде, затем начиналось перемещение остальных удельных князей. Например, князь черниговский становился князем киевским, переяславский – черниговским и т. д. То есть, князь-Рюрикович не был органически связан с землёй, которой владел, и зорко следил лишь за тем, чтобы при смене властителя в Киеве он не был ущемлён в своих правах. (Неоднократные попытки утвердить принцип «каждый владеет отчиною своею» ни к чему не привели.) При этом часто возникали споры из-за власти, которые приходилось разрешать военной силой, от чего страдало мирное население. Опустошать землю князя-противника и уводить его людей в полон, «грабить и продавать людей» было обычным делом. В лучшем случае пленённых жителей селили на землях захватчика, в худшем – продавали в рабство: «много христиан загублено было, а другие в плен взяты и рассеяны по разным землям». Страшно читать в летописях, как сотнями убивали мирных жителей, жгли города и сёла и даже святыни: «Олег, подступив к городу, пожёг вокруг города и монастыри пожёг… повелел зажечь Суздаль город…». Как князья приводили на Русь в качестве союзников в междоусобных войнах половцев и других чужеземцев, и те грабили её: «Половцы же стали воевать около Чернигова, а Олег не препятствовал им, ибо сам повелел им воевать. Это уже в третий раз навёл он поганых на землю Русскую…». А уж забирать провиант у местных жителей считалось нормой. И в летописях появляются сетования: «наша земля оскудела от войны и от продаж».
Появились князья-изгои, которым не нашлось места на этом пиру жизни, и они тоже пытались устроить своё счастье – отнять уделы у тех князей, которые оказывались недостаточно сильными, чтобы удержать свои владения. В споры князей вовлекались их родственники – владетели соседних государств, которые тоже были не прочь поживиться за счёт мирного населения Руси. Даже во время совместных военных походов у князей не было верховного главнокомандующего, а каждый из них действовал самостоятельно (пример – битва на Калке, закончившаяся столь печально). Прав был академик Рыбаков, писавший, что самым большим бедствием и проклятием Киевской Руси были её князья.
Сами князья, летописцы, а затем дореволюционные историки и публицисты много сделали для того, чтобы облагородить облик варягов-князей. Тут можно провести аналогию с известным высказыванием знаменитого русского историка В.О. Ключевского: жития святых так же похожи на биографию, как икона на портрет. Не отрицая значения побед над внешними врагами и иных заслуг киевских князей, все же надо сказать, что коренные свойства викингов они сохранили в полной мере, особенно надменность в отношениях с туземцами, алчность и неуёмную жажду славы.
Ну, об Олеге – завоевателе Киева мало что можно сказать. Он был прозван вещим, хотя вещим-то скорее оказался кудесник, якобы предсказавший ему смерть от коня, что и сбылось, хотя и не так, как ожидалось. Игорю, как уже отмечалось, не повезло с древлянами. Его вдова Ольга (Хельга) проявила себя не только умной, но и коварной правительницей, жестоко отомстившей древлянам за смерть мужа и за покушение местного хама, именовавшего себя князем древлян, на вхождение в круг благородных. Святослав, как уже отмечалось, движимый жаждой богатства и славы, хотел создать империю со столицей в болгарском Переяславце. Святой равноапостольный князь Владимир до своего крещения был известен непомерной любовью к прекрасному полу (попросту говоря, распутством), наложниц содержал сотнями. Одну из жён, Рогнеду, не желавшую идти за него, он взял силой, убив её отца Рогволода, полоцкого князя, и двух его сыновей. После Владимир обманом заманил к себе своего брата Ярополка, киевского князя, убил его, и стал жить с женой брата, которая уже была беременна. И дети у него были от разных жён (которые были различного этнического происхождения, в том числе чешка, болгарка и гречанка), так что не удивительно, что не все из них питали братские чувства к остальным. А потому не приходится удивляться и тому, что после смерти Владимира почт все его сыновья погибли в ходе борьбы за власть. Владимиру же принадлежит формулировка едва ли не основного закона древнерусской (а в значительной мере – и современной российской) жизни: «Руси есть веселие пити». Правда, в былинах его называют «Владимир Красно Солнышко». Однако, во-первых, ряд исследователей полагает, что в данном случае народ соединил в одном образы Владимира Святого и Владимира Мономаха, который действительно выделялся из среды Рюриковичей не только хитроумием, но и человечностью (хотя позорных дел на его совести тоже было немало, в чём он каялся в своём «Поучении»). Во-вторых, в былинах неизменно Владимир и его дружина противопоставляются русским богатырям, им внутренне чуждым. С лёгкой руки Карамзина за Ярославом Владимировичем утвердилось прозвище «Мудрый», хотя ни в одном историческом источнике подобной его характеристики не встречается. А шведские хроники называют его скупым Им виднее: ведь вторая жена князя Ингигерда (в крещении Ирина) была дочерью короля Швеции Олафа Шётконунга и Эстрид. Считается, что Ярослав наследовал престол отца после того, как его брат Святополк (прозванный за это Окаянным) убил других братьев – Бориса и Глеба. Но известный педагог и публицист Евгений Ямбург сослался на сенсационный документ (проверить подлинность которого у меня не было возможности): «В середине XIX века Сенковский опубликовал перевод саги, в которой убийцы, нанятые Ярославом, рассказывали, как они прикончили Бориса и Глеба. Нашелся только один историк Погодин, который считал необходимым отредактировать житие Бориса и Глеба. Церковь же настояла на незыблемости памятника, запечатленного в сердцах, а стало быть – на незыблемости ложного обвинения Святополка» («МК», 17.02.2012). А уж если брать удельных князей, то там часто можно видеть картины преступлений куда более впечатляющие.
Желая укрепить свою социальную базу, впоследствии предводителей славянских общин Рюриковичи сделали боярами, своего рода местной квазиаристократией, а фактически коллаборационистами. Но настоящей аристократией они так никогда и не стали: Рюриковский клан строго следил за сохранением непреодолимой границы между собой и туземцами. До реформ Петра I князем нельзя было стать (например, за заслуги), им можно было только родиться, то есть это была исключительная привилегия клана Рюриковичей.
Бояре были в ещё большей степени, чем князья, носителями анархического, антигосударственного начала. Боярин в любой момент мог «отъехать» от «своего» князя и поступить на службу к другому (даже враждебно настроенному по отношению к князю, у которого боярин служил), не рискуя потерять имения в «своём» княжестве.
Вот такой была Киевская Русь, которой владели князья – потомки германцев. При том анархическом и разбойническом строе, который в ней утвердился, остаётся лишь удивляться тому, что она просуществовала так долго – до XIII века.
Дополнение: Сергей Овчинников раз в год публикует в Интернете 25 фактов о «Киевской Руси», которые должен знать каждый русский. Вот последняя его публикация:
1. Государства «Киевская Русь» никогда не существовало. Это вымышленное название было введено в обиход советскими историками в рамках политики дерусификации русской истории.
2. Первая столица Руси Ладога была основана словенами около 700 г.
3. В заключении договора с Рюриком участвовали славянские племена словене и кривичи и финские племена чудь и меря (по Новгородской I летописи) или весь (по Повести временных лет).
4. Из городов первоначальной, Рюриковой, Руси (Ладога, Новгород, Изборск, Белоозеро, Ростов, Муром, Полоцк) 6 находятся в России, 1 – в Белоруссии, на Украине – ни одного.
5. Аскольд, Дир, Олег, Игорь, Святослав, Владимир и Ярослав приходили из Ладоги или Новгорода и захватывали Киев силой. Случаев завоевания в обратном направлении не было.
6. До завоевания Русью Киев был хазарским городом. Его самое ранее документальное упоминание содержится в «киевском еврейском письме» начала Х в. в выражении «кагал Киева».
7. Слова «Се буди мати городом русскымъ», которые летопись приписывает Олегу, означают провозглашение Киева главным городом Руси, а не происхождение Руси из Киева.
8. У Киева было тюркское название – Манкерман.
9. Киев находился на южном пограничье Руси с тюркскими землями. Географический центр Руси находился между Смоленском и Москвой.
10. В войско князя Олега, с которым он завоевал Киев, входили варяги, словене, кривичи, чудь, меря и весь. После завоевания Киева Олег наложил на его население дань в пользу словен, кривичей и мери.
11. Святая княгиня Ольга совершила жестокий геноцид и порабощение предков украинцев – древлян: «…Взя городъ и пожьже и, стареишины же города ижьже и прочая люди, овехъ изби, а другия работе преда мужем своимъ, а прокъ остави ихъ платити дань, и възложи на ня дань тяжьку» (Повесть временных лет).
12. Князь Святослав Игоревич бывал в Киеве лишь несколько раз проездом и заявлял своей матери и боярам: «Не любо мне в Киеве».
13. На северных землях первоначальной Руси Рюриковичи по договору получали от местных властей «дар» (жалование). На завоёванных южных землях Рюриковичи собирали с «примученных» племён дань при помощи полюдья.
14. В древнерусскую эпоху Киев был застроен срубными избами.
15. Повреждение бороды каралось согласно Русской Правде штрафом (краткая редакция: «А во усе 12 гривне, а въ бороде 12 гривне»; пространная редакция: «А кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривенъ продаже»).
16. Галицко-волынские дружинники князя Даниила Романовича Галицкого носили большие бороды, за что их задирали поляки: «Ляхомъ же лающимъ, рекущим: “Поженемь на великыи бороды”» (Галицко-волынская летопись в рассказе о битве под Ярославом 17 августа 1245 г.).
17. В 1069 г. великий князь Изяслав Ярославич казнил и ослеплял киевлян, выступивших против его власти: «исече [Кияны]… числом 70 чади. А другыя слепиша, другыя же без вины погуби, не испытавъ» (Лаврентьевская летопись).
18. Одним из авторов «Правды Ярославичей», принятой в 1072 г., был приближённый великого князя Изяслава Ярославича посадник Вышгорода Чудин («Правда оуставлена роуськои земли, егда ся съвокоупилъ Изяславъ, Всеволодъ, Святославъ, Коснячко, Перенегъ, Микыфоръ Кыянинъ, Чюдинъ, Микула»). Брат Чудина Тукы был великокняжеским воеводой.
19. В обоих граффити из Софии Киевской древнерусской эпохи (кон. XI – нач. XII в.), содержащих этноним «русский», он написан с двумя буквами С («Въ великыи четвьрг рака положена бысть Анъдрея роусъскыи кънязь благыи…», «Господи, помози рабе своей Олисаве Святополчей матери русской княгине»).
20. В течение одного столетия (начиная со 2-й четверти XII в.) бытовало понятие «Руси в узком смысле» (Киевщина, Черниговщина и Переяславщина). При этом остальные русские земли Русью называться не переставали.
21. В разгроме Киева в 1169 г. помимо владимиро-суздальских принимали участие смоленские, полоцкие, рязанские, новгород-северские и другие войска, представлявшие большинство русских земель. Андрей Боголюбский в «разгроме Киева Андреем Боголюбским» участия не принимал.
22. В 1203 г. черниговские Ольговичи вместе с половцами подвергли Киев разгрому, какому, по свидетельству киевского летописца, он никогда ранее не подвергался: «…Створися велико зло в Русстеи земли якого же зла не было от крещеныя надъ Кыевомъ. Напасти были и взятыя не якоже ныне зло не сстася» (Киевская летопись).
23. Эпическая память о древнерусском периоде сохранилась только у великороссов. Украинцами и белорусами он был полностью забыт.
24. Все архитектурные памятники древнерусского периода на территории Украины и Белоруссии были разрушены или перестроены до неузнаваемости. В великорусских землях архитектурные памятники древнерусского периода сохранились в своём первозданном виде.
25. Все литературные памятники древнерусского периода сохранились в великорусских землях. На территории Украины и Белоруссии не сохранилось ни одного литературного памятника древнерусского периода.
26. На территории Германии, до базальта (по раскопкам) жили СЛАВЯНЕ.
А писатель Александр Бушков доказывает, что Киевская Русь вообще никогда не существовала.