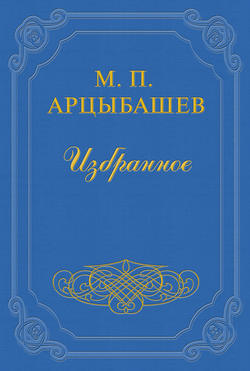Читать книгу У последней черты - Михаил Арцыбашев - Страница 12
Часть первая
XII
ОглавлениеБыл тот веселый час, когда жара еще не наступила, и летнее солнце светит ярко и чисто, как весной. В саду было еще раннее утро, радостное, легкое, как будто взволнованное светом и пряным, росистым теплом.
Больная сидела в кресле у окна, раскрытого во всю ширину. Вместе с чистым, еще не жарким воздухом широкой волной лился в комнату золотой свет. В своем белом платье на белых подушках с бледным лицом и темными глазами больная казалась хорошенькой и принаряженной, как на празднике.
Она чувствовала себя хорошо. Ночные боли утихли, и слабое измученное тело нежилось в мягком утреннем тепле. Солнце клало золотые играющие пятна на чистый пол, на белые подушки, на белые стены, и даже прядь волос, мягких и слабых, какие бывают только у смертельно больных молодых женщин, казалась золотой.
Больная тихо шевелила пальцами, точно наигрывала какой-то, ей одной слышный, мотив, и бледной слабой улыбкой отвечала не то своим мыслям, не то яркому синему небу, широко и высоко раскинувшемуся над садом. Ей хотелось встать, забыть о болезни и слабости, надеть легкое веселое платье и со смехом убежать туда, в глубь зеленого сада, где непрестанно играли тысячи солнечных зайчиков, сверкала роса и, еще влажные, но уже прозрачные, таяли тени.
И странно, в этом желании, которому она сама улыбалась кроткой, словно извиняющейся улыбкой, какую-то роль играла грузная угрюмая фигура доктора Арнольди.
С тех пор как, больная, она приехала умирать на родину и отошли яркие воспоминания прежней бурной жизни, страшно и тихо сузился ее маленький мирок. Постель, кресло у окна, доктор, аккуратно и молча просиживающий с нею целые часы, наполнили ее существование и стали так же значительны и важны, как прежде сцена, шум, говор, треск аплодисментов, пьяный воздух балов и ресторанов.
Больной казалось, что это было страшно давно. Гораздо раньше, чем то далекое время, когда еще гимназисткой в коричневом платье она ходила по этому саду, готовила уроки у этого окна и по вечерам бегала на бульвар с какими-то, теперь уже совершенно забытыми, гимназистами.
Как иногда после спектакля, успеха, бурного ужина с шампанским, криками и комплиментами, наутро она не могла вспомнить, что было вчера, и все представлялось ей только каким-то ярким пятном, так и теперь, очнувшись больной, одинокой, умирающей в старом доме, она не могла ясно представить себе прежнюю жизнь и скоро почти забыла ее.
Только иногда в грустные вечера, когда над садом гасла печальная заря и в холоде тихого вечера явственнее звучал шепот смерти, она начинала вспоминать.
Выступали из вечернего сумрака и наклонялись к ней какие-то лица, зажигались бледные призраки огней, издалека доносились еле слышные взрывы аплодисментов, неясные звуки музыки без мотива… кто-то черный беззвучно выступал из толпы теней и, кланяясь, протягивал венок… Ярче вспоминались какие-нибудь мелочи: то как она едва не упала, когда, завернувшись в красный плащ нагой Джиованны, входила в картонный шатер, то поездка на острова, то звон разбитого бокала, то угодливая улыбочка старого антрепренера, к каждому слову приговаривающего: голубушка моя, да разве я… Какой-нибудь жест, какое-нибудь слово… Все разбито, рассеяно, как клочья разорванного яркого веера.
Все это прошло и никогда не вернется. Только так странно и непонятно, что столько шума, блеска, движения лиц и страстей забылось так скоро и не имело ничего общего с тем, что делалось теперь, на пороге близкой и страшной смерти. И как-то дико было представлять себе, что именно это больное, слабое, насквозь прозрачное тело то самое, которое вызывающе обнажалось, отдавалось, бесстыдно содрогалось в грубых животных ласках и ломалось на подмостках сцены.
«Как будто все это было не настоящее, думала больная, – как будто какая-то другая, дерзкая, сладострастная и пустая женщина брала напрокат мое тело и трепала его по сцене и кроватям. И я не могу теперь даже понять, зачем в конце концов она это делала, какая радость могла быть в этом? Зачем было столько страдать, волноваться и радоваться, если теперь, в последние минуты, оказывается, что это был только шальной бред, а самое важное, единственное, что значительно и серьезно, вот оно – подушка, боли, мучительные позывы, тихие вечера у окна, мрачный доктор… смерть! Стоило бы жить так, если бы именно теперь весь этот блеск и шум собрался бы в один оглушительный фейерверк, ослепительно сверкнул и унес из жизни, без грусти и боли, чтобы и не заметить ничего!..»
Вы знаете, доктор, сказала она однажды молчаливому доктору Арнольди, – ведь это и была жизнь… Жить же!.. Значит – все!.. Для этого-то я и родилась, для этого росла, мечтала, боролась, из девочки превратилась в женщину, в актрису… Сколько потрачено сил!.. А теперь оказывается, что… Знаете, как будто я собиралась ехать куда-то, хлопотала, укладывалась, сердилась, а потом приехала на вокзал, и поезд сейчас отойдет, а я все забыла, набрала каких-то пустяков, и самых важных, совершенно необходимых вещей со мной и нет… И не то я говорю!.. Это гораздо ужаснее, и вы не поймете меня!
Нет, я понимаю, – как всегда, тихо и уныло, ответил доктор Арнольди.
И при воспоминании о нем тихая улыбка трогала губы больной. Ей казалось, что неразговорчивый, угрюмый доктор действительно понимает ее, как никто никогда не понимал. И чудилось, что именно в этом понимании и кроется то, чего никогда не было в ее жизни.
Ей приходила в голову шаловливая, трогательная в такой прекрасной, умирающей женщине мысль, что если бы она была, как прежде, здорова и весела, она разбудила бы эту угрюмую душу, увлекла бы его и дала бы ему все то счастье, которое по кусочкам раздарила многим, пустым и ничтожным людям. Он, скромный провинциальный доктор, и не знает, как обольстительна, нарядна, интересна бывает женщина и какие наслаждения она может дать. Яркими огнями загорелась бы его одинокая жизнь. Как бы он любил ее!.. И не для себя ей было жалко, что тело ее уже не прекрасно, что нагота его не ослепительна, а страшна.
– Поздно!
Но вдруг больная подумала, что тогда она сама бросила бы его, потому что не удовлетворила бы ее скромная жизнь и любовь без блеска и поз. Это только теперь, потому что смерть близко, она думает о том, мимо чего прежде прошла бы с презрительным смехом.
– Так, значит, я и должна была жить так, как жила… Странно!.. Я же ясно вижу, что та жизнь была не настоящей жизнью… а выходит, что другой и быть не могло. Почему же это? Какая страшная путаница!
Только что так ясно представлялось, что если бы можно было начать жить сначала, все было бы по-другому, а стоило только вдуматься в каждый момент отдельно, и оказывалось, что все было так, как не могло не быть. И ей стало жаль и себя, и доктора, и всех людей, путающихся в каком-то тумане, где правда кажется ложью именно потому, что никогда не обманывает, что всегда приходит в свой черед – смерть.
Больная подняла на свет свою прозрачную руку и с грустной улыбкой смотрела на бледно-розовые, только чуть теплые просветы между исхудалыми пальцами.
– Хорошо! – тихо проговорила она.
Но кругом было так ярко и весело, так много солнца было в мире, так страстно дрожало в его блеске голубое небо, так могуче разросся зеленый сад, что нельзя было остановить мысли на смерти, темноте и молчании. Больной было тепло, покойно и беспричинно весело, тихим, кротким весельем умирающего, и мысли бежали, как легкий ветерок в поле под солнцем.
Все прошло, и все неважно. Хорошо то, что солнышко греет, что на пальцах искрится и дрожит золотое пятнышко. Все-таки она еще не умерла, еще видит солнце, чувствует теплоту его, дышит вольным ветром зеленого сада. Ей хотелось поймать каждый клочок этого солнца, запомнить каждую дрожащую точку голубого неба, в котором точно шевелятся бесчисленные перышки невидимых, счастливых, голубых крыл. И еще было радостно думать, что вечером придет доктор Арнольди и еще долго, страшно долго она будет видеть его, сидеть тут у окна и тихо говорить ему все, что взбредет в голову, но все самое ласковое, хорошее.
Кто-то подъехал к дому. Больная услышала дребезжанье извозчичьих дрожек и прислушалась. Чей-то знакомый, но чей, она не могла вспомнить, женский голос спрашивал:
– Скажите, пожалуйста, здесь живет Раздольская… Мария Павловна?
– Здесь, – отвечала откуда-то Нелли…
Страшное волнение охватило больную при звуках этого голоса, назвавшего ее полузабытой сценической фамилией. Тысячи невозможных возможностей вихрем набежали со всех сторон. Она вся вытянулась, приподнялась на своих слабых руках, повернулась к двери и замерла.
– Кто это? Кто это?..
И когда на светлом фоне двери показалась высокая женская фигура, в красном, плотно обтянутом костюме, большой шляпе и белых, точно выточенных, ботинках, больная тихо ахнула, вытянула навстречу бледные прозрачные руки и вскрикнула:
– Женечка!
Черные брови, высокая грудь, румяные губы, черные волосы мелькнули ярким стремительным пятном, и гибкие сильные руки крепко и нежно обняли больную. И вместе с запахом духов, дорожной пыли и еще чего-то, чем пахнут только нарядные, дорогие женщины, ее опахнуло воздухом сцены, кутежей, балов, музыки, смеха, веселья. Точно вся прежняя жизнь, с ее шумной и нарядной красотой, ворвалась в тихую комнату вместе с этой яркой молодой женщиной.
– А я думала, что это!.. – плача и смеясь, говорила больная, хватая мягкие теплые руки Женечки, – я думала… впрочем, нет… пустяки… Но никак не ожидала, что это ты… Милая Женечка моя!.. Как же это ты?..
– Очень просто! Меня приглашали в Казань, а я не поехала… Надоело метаться, да и тебя увидеть захотелось… Ну, как ты тут?
На этом слове Женечка как будто запнулась немного, и взгляд ее черных глаз быстро скользнул по лицу больной. Она сейчас же овладела собой, изменила выражение и заговорила так же бойко и весело. Но больная уже поймала этот взгляд, и что-то больно дрогнуло в ее сердце. Точно в этих черных испуганных зрачках, как в черном зеркале, она увидела, наконец, свое настоящее – мертвое, страшное лицо. Никогда ни приговоры докторов, ни боли, ни слабость не говорили ей так ясно и неотразимо о близости смерти, как этот быстрый испуганный взгляд, мимолетная судорога жалости, скользнувшая по розовым губам, и, главное, именно та быстрота, с какой Женечка отвела глаза, и та неестественная веселость, которая забила в ее голосе. И стало холодно, страшно и больно так, что больная едва не вскрикнула.
Но солнце наполняло комнату золотом света, в окно смеялся ласковый летний ветер, Женечка была так нарядна и красива со своими черными глазами и черными бровями, вся сверкающая молодостью и здоровьем. И боль прошла… Черный призрак смерти еще раз отступил и растворился в радостном сиянии жизни. Больная уже опять смеялась, расспрашивала, обнимала Женечку, и в смехе ее звучали те милые бархатные нотки, которыми когда-то она неотразимо привлекала к себе мужчин.
– Ну, расскажи мне о себе. Надолго ли?.. Поживи со мной немножко!
И болтовня разгоралась всеми красками молодости и веселья двух легкомысленных прекрасных женщин. Казалось, что нет больше болезни, нет смерти, все полно солнцем и смехом, и вот они обе, наполняя воздух веселым криком, как две вольные красивые птицы, вспорхнут и улетят далеко от этой печальной комнаты, от болезни и горя.
Трудно было разобрать, о чем говорили они, и молодые женщины сами не могли бы передать своей болтовни, но все казалось им страшно интересным, полным живого смысла. В ярких звуках стремительной женской суеты мелькали то новые шляпы, то обрывки ролей, то имена, то любовь, и все это напоминало беспорядочно наваленную кучу разноцветных бумажных цветов. Только раз что-то черное мелькнуло в этом пестром хламе:
– А знаешь, Петров умер…
Представилось добродушное, комическое лицо старого толстого актера, который всех молодых актрис звал дочечками. Странно и страшно было подумать, что это простое, умное, доброе лицо теперь лежит в могиле, навеки смежив глаза и скрестив толстые неподвижные руки.
– А как же смех, а как же остроты, а где же любовь к хорошеньким женщинам, где же талант?.. Как будто ничего и не было!.. Мишура, которая слетела, точно рассыпанные конфетти после бала. И только?
Но черное мелькнуло, как тень скользнувшей в небе черной птицы, и пропало без следа. А слова сыпались, смех, восклицания и шутки звучали далеко в саду и разлетались, как блестки, легкие и веселые.
Мария Павловна с улыбкой нежной жалости смотрела на Нелли и думала: «А ведь и правда, какое милое и странное лицо!»
Нелли сидела прямо, сморщив брови, как будто думая какую-то напряженную думу. Тяжелые волосы были свернуты косой вокруг головы, точно темная змея. Тонкий излом губ сжимался твердо и определенно, и усталой скорбью веяло от ее молодого, но такого старого лица, точно она прожила не свои девятнадцать-двадцать лет, а целые столетия.
– Ну, хорошо, – болтала Женечка, – вот я приехала… а что же, общество у вас есть?.. У тебя кто-нибудь бывает, Маша?
– Никто у меня не бывает, – с покорной грустью ответила Мария Павловна, – только доктор один, Арнольди… А то мы с Неллечкой одни…
– Арнольди? – переспросила Женечка. – Красивая фамилия!.. Что же он, молодой, интересный?
Мария Павловна засмеялась, и трогательно-нежное выражение промелькнуло у нее в глазах.
– Нет, пожилой уже и совсем не интересный в том смысле… Да вот, ты его увидишь… Он каждый день у меня бывает… Угрюмый такой… Только добрый, страшно добрый… я такого доброго человека еще и не встречала.
Женечка, пристально и лукаво кося черными блестящими глазами, посмотрела на Марию Павловну. Больная поняла взгляд и мило, как девушка, застыдилась. Легкая краска набежала на бледные щеки, и на прекрасных, расширенных болезнью глазах выступили слезы.
– Напрасно так смотришь… сказала она с печальной шутливостью. – Мне уже поздно думать об этом.
И она машинально, точно показывая, приподняла и опустила свои прозрачные восковые руки.
Здесь много интересных людей, вдруг неожиданно заговорила Нелли, не то для того, чтобы отвести разговор, не то тая какую-то свою мысль. – Доктор Арнольди вас познакомит, он всех тут знает.
Мария Павловна с испугом следила за Нелли. Как-то разом и она, и Женечка поняли, о ком она говорит. По лицу Женечки скользнуло немного жестокое любопытство. Мария Павловна протянула руку, словно хотела сказать:
– Милая, бедная моя девочка… Не надо об этом! Но Нелли еще больше сдвинула тонкие брови и с бледным напряженным лицом продолжала:
– Пусть он вас познакомит с Сергеем Николаевичем… Михайловым.
– А это кто? – спросила Женечка.
Мария Павловна страшно заволновалась, и на щеках у нее загорелись зловещие пятна.
– Нелли, зачем вы…
– А почему и нет? – мрачно глядя перед собой горящими глазами, жестко возразила Нелли и, повернувшись прямо к Женечке, с вызовом докончила: – Это человек, которого я любила… Вот, познакомьтесь с ним… Мне интересно.
– Что же тут интересного?
– Так.
Нелли произнесла это слово тоном неопределенной угрозы. Женечка посмотрела на нее с недоумением и улыбнулась гордой презрительной усмешкой. Мария Павловна взглянула на ее черные блестящие волосы, на черные брови, на румяные губы, на всю ее гибкую и сильную фигуру, остро обрисованную красным платьем, и подумала: «Ну, этой не страшен никто… Бедненькая Нелли!»
– Вы напрасно смеетесь! Это будет интересный опыт! – совершенно серьезно, но недобро заметила Нелли.
Женечка засмеялась, встала и потянулась, заломив гибкие руки.
– Какая вы странная! – протянула она лениво и загадочно. – Вы, кажется, хотите мной для каких-то своих целей воспользоваться?.. Это любопытно. Ну, что ж… покажите мне своего Сергея Николаевича, хотя это, право, смешно… В первый раз меня видите…
Нелли, упрямо сдвинув брови, молча смотрела на нее.
Женечка, выпрямившись во весь рост, сильная и гибкая, как натянутый лук черного дерева, стала посреди комнаты и хотела что-то еще сказать, как дверь тихонько отворилась, и на пороге показалась громадная грузная фигура доктора Арнольди. Женечка остановилась на полуслове и так и осталась посреди комнаты.
– А вот и доктор! – радостно вскрикнула Мария Павловна и вся расцвела нежной улыбкой, похожей на последний лепесток опавшего цветка.
Входите, милый… А у меня радости. Женечка приехала! Вот познакомьтесь, доктор Арнольди, Евгения Самойловна Уздальская… С Нелли вы уже знакомы.
Доктор Арнольди поздоровался и сел. Лицо его было еще более угрюмо и обрюзгло, чем всегда.
Сразу не нашлись, о чем говорить. Доктор Арнольди внимательно и серьезно рассматривал трех женщин, Мария Павловна кротко улыбалась своей бледной умирающей улыбкой. Нелли сидела неподвижно и прямо, скорбно сдвинув тонкие брови, Евгения Самойловна отошла к окну и села. Она все еще немного волновалась, не знала, сердиться ей на Нелли или нет, часто дышала высокой грудью и блестела черными, всегда как будто влажными глазами.
– Надолго приехали? – спросил доктор Арнольди.
Она оглянулась на него и улыбнулась: доктор ей понравился.
– На все лето, если Маша не прогонит… Надоело мне по кулисам болтаться, пора и отдохнуть…
– Это ваша сценическая фамилия?
– Нет, настоящая…
– Вы полька?
– По отцу полька, по матери еврейка… жидовка! – сказала Евгения Самойловна и звонко рассмеялась.
Старый доктор невольно ласково улыбнулся ей.
– Вот, доктор, – сказала Мария Павловна, – вы должны позаботиться, чтобы моя Женечка здесь не скучала. Познакомьте ее с вашими приятелями, у вас ведь их много!
– Это можно, – согласился доктор Арнольди равнодушно, потом опять посмотрел на Евгению Самойловну и повторил дружелюбно: – Можно… Пусть Евгения Самойловна придет к нам в клуб, там много народу бывает.
– Как же я одна пойду? – весело спросила Женечка.
– Зачем одна?.. Я за вами зайду.
– Я могу пойти с вами, – неожиданно отозвалась Нелли.
И доктор, и Мария Павловна одновременно взглянули на нее и переглянулись.
– Ах, да… – буйно захохотала Женечка. – Ведь вы же хотите со мной какие-то опыты производить… Ну, так вы же меня и вывозите в свет!
– Да, – коротко ответила Нелли, не меняя сурового выражения лица и голоса.
«Это, наконец, странно… Чего ей надо?» – подумала Евгения Самойловна и высокомерно посмотрела на Нелли.
Но лицо молодой беременной женщины не тронулось, точно оно было высечено из камня в одном вечном выражении жестокой и тайной мысли.
«Какой-то сфинкс!» – с невольным жутким чувством подумала Евгения Самойловна и отвернулась. Несколько времени она сидела молча, задумавшись.
Доктор Арнольди переводил глаза с одной на другую и невольно сравнивал их.
Евгения Самойловна, вся в свете и движении, точно рвалась вперед, к неведомому счастью, которое должна дать ей зовущая и манящая жизнь. В предчувствии его все ее тело, сильное, молодое, богатое, томилось и дрожало, ни одной темной черты не было в ней, все было ярко и бурно. Рядом с нею бледная Нелли казалась темной, как сама скорбь. Она сидела прямо, крепко сжав на груди тонкие руки, точно что-то удерживая в ней. Должно быть, все впереди и позади казалось ей сплошным страданием и росла в ней неутолимая ненависть. И тихим светом свечи, зажженной перед неисповедимым престолом судьбы, вся кроткая и светлая в своей покорной печали горела Мария Павловна. Для нее уже все было кончено: жизнь, с ее счастьем и горестями, давно ушла от нее, и, должно быть, она уже понимала, как слабы и жалки и бурная жажда жизни, и неистовое проклятие ей, потому что одинаково печально улыбалась и буйной Женечке, и суровой Нелли, и старому унылому доктору Арнольди.
Евгения Самойловна не могла сидеть спокойно. Она встряхнула головой, точно отгоняя от себя какие-то неприятные мысли, и принялась беззаботно болтать с доктором и Марией Павловной. У нее был красивый веселый голос, блестящие глаза, от нее веяло свежестью молодости, силы и удали, и даже угрюмый доктор немного оживился.
А Нелли сидела молча и о чем-то напряженно думала. Тонкие брови ее шевелились, как две черные пиявки на белом песке, и в углах сжатых губ ходила неуловимая судорога. О ней почти забыли, когда вдруг она заговорила, глядя на Марию Павловну и на доктора Арнольди:
– Почему вы удивились, что я хочу идти с Евгенией Самойловной в клуб?.. Разве вы думаете, что мне нельзя показываться?
Глаза ее смотрели пытливо и зло.
Такой мысли не было ни у доктора, ни у Марии Павловны, но почему-то оба смутились.
– Нет, почему же, – уныло сказал доктор Арнольди.
– Нелли, как вы можете это говорить! – вскрикнула Мария Павловна.
– Нет, вы это думали! – жестоко возразила Нелли, встала и пошла из комнаты. Оставшиеся долго молчали.
– Боже мой, какая она несчастная! – сказала больная.
– И странная какая-то. Она ненормальна! – отозвалась Евгения Самойловна.
Доктор Арнольди тяжело вздохнул и встал.
– Мне пора идти, – сказал он. – А она – только несчастна. Когда люди в ее положении, загнанные и затравленные, бывают нормальны и расчетливы, то это или погибшие, или глупые люди…
– И вашему Михайлову не простится это! – сказала Мария Павловна.
Доктор Арнольди поискал в своем старом сердце суда, ничего не нашел и только пожал плечами.
Вместо него отозвалась Евгения Самойловна.
– Странно, право, ты рассуждаешь, Маша! – с какой-то даже злобой, жестко возразила она. – Она не девочка, и сама должна была знать… а он был бы глуп, если бы занимался обереганием девичьих сокровищ… Это ее дело.
– Да… А теперь что ей делать?..
– Ах, Маша… что делать!.. Ну, утопиться, если ни на что больше сил нет!..
– Эго не так просто, Женечка! с ласковой укоризной возразила больная.
Евгения Самойловна не отвечала, но в ее черных глазах сверкнула жестокая ко всякой другой женщине и все прощающая мужчине молодая жадность. Казалось, что она ревновала, еще не зная к кому, за одно то, что какая-то другая, красивая и молодая, знала любовь.
Доктор Арнольди взял шляпу и подошел прощаться с Марией Павловной.
– Сегодня я еду за город к больному… до завтра, – сказал он и с кривой улыбкой прибавил тихо, чтобы не слыхала Евгения Самойловна: – Предупредите Нелли, что сегодня хочет быть у нее Арбузов.
Мария Павловна со страхом посмотрела на него.