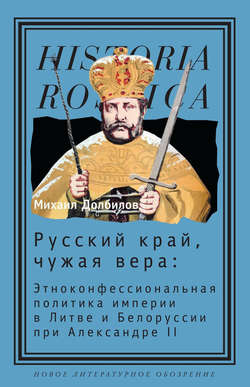Читать книгу Русский край, чужая вера. Этноконфессиональная политика империи в Литве и Белоруссии при Александре II - Михаил Долбилов - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Глава 3
Двусмысленная веротерпимость: определение сферы «духовно-административных дел» в начале правления Александра II
Оглавление«Вопросы о ее чувствах, о том, что делалось и может делаться в ее душе, это не мое дело, это дело ее совести и подлежит религии», – сказал он себе, чувствуя облегчение при сознании, что найден тот пункт узаконений, которому подлежало возникшее обстоятельство.
Л.Н. Толстой, «Анна Каренина» (часть 2: VIII)
В начале царствования Александра II в системе светского контроля над религией начались не обвальные, но значимые «осыпи», вроде бы предвещавшие либерализацию взаимоотношений государства и конфессий. Казалось, что власть теряет непосредственный интерес к функционированию конфессиональных институций и к повседневной религиозной жизни подданных, да и вообще религия в открывающуюся эпоху телеграфа и железных дорог, материального прогресса и позитивизма отходит на второй план. Однако эта подвижка привела не к тем результатам, каких мог бы ожидать от нее позднейший наблюдатель, вооруженный концепциями свободы совести и отделения церкви от государства.
Ослабление вмешательства в религиозные дела
Как и в других сферах государственной политики, первые действия и жесты Александра II по адресу различных вероисповеданий выдавали усталость от николаевского культа дисциплины и надзора (который на практике, впрочем, вовсе не обязательно означал равномерное и плотное присутствие власти в поднадзорном пространстве). Православная церковь первой испытала на себе эту новую снисходительность, скорые последствия которой многим сторонникам синодального православия покажутся граничащими чуть ли не с отказом государства от поддержки «господствующей веры». Воцарение Александра совпало со смертью графа Н.А. Протасова, обер-прокурора Святейшего Синода с 1836 года, чье имя стало для многих символом бесцеремонного и многолетнего секулярного вмешательства в церковные дела[279]. Назначение на эту должность в сентябре 1856 года графа А.П. Толстого, как и Протасов – кадрового военного, но, в отличие от предшественника, готового считаться с авторитетом высшего клира[280], помогло создать новый климат в синодальном управлении, приоткрыть его для взаимодействия с обществом.
Начиная с 1856 года в серии записок на имя Александра II и императрицы Марии Александровны формируется комплекс критических замечаний по адресу «протасовских захватов» и выдвигаются предложения перемен, которые получили в историографии название «архиерейская программа»[281]. Застрельщиком этой дискуссии стал, впрочем, мирянин – известный религиозный писатель, самый младший из четверки заметных в тогдашнем служилом кругу братьев Андрей Николаевич Муравьев, мечтавший о должности обер-прокурора Синода и многозначительно отзывавшийся о самом себе: «Я не духовный человек, а церковный»[282]. Муравьев выступал за реформу синодального управления, которая должна была ослабить влияние светской бюрократии и предоставить архиереям новые полномочия и возможности деятельности как в Синоде, так и в епархиях. Протасовским «министерским формам» он противопоставлял восстановление коллегиальных и соборных порядков в церкви, в частности предлагал созывать поместные соборы в дополнение к работе Синода; за институтом же обер-прокурора сохранялись бы только надзорные функции[283]. Идеи Муравьева были развиты представителями высшего православного клира. В наиболее смелых проектах ставился, хотя и уклончиво, вопрос о разграничении сфер ведения светских и церковных властей. Так, в составленной в конце 1850-х годов викарием Петербургской епархии епископом Агафангелом записке о преобразовании Синода в «Святейший Правительствующий постоянный всероссийский собор» отмечалось, что этот новый орган получит дела церкви в «самостоятельное, отдельное ведение» – но в «приснодействии с правительством»[284].
Свой обличитель церковного запустения нашелся и в рядах белого духовенства. Священник из уездного города Калязина Тверской губернии И.С. Беллюстин, не понаслышке знакомый с заботами и лишениями сельских приходских батюшек, изложил свои впечатления и мысли о реформе в пространном и в высшей степени полемическом очерке. Сначала очерк расходился в рукописных копиях, но широкую известность получил в 1858 году, когда, при активном содействии М.П. Погодина, был опубликован за границей в виде анонимной книги «Описание сельского духовенства». «Описание» резко расходилось по многим пунктам с «архиерейской программой»: Беллюстина волновал не столько разлад в высшем церковном управлении, сколько проблемы церковной жизни на ее низовом уровне – именно там, где приходское духовенство вплотную сходилось с массой простонародья. Трудно назвать предмет из этой области, который не подвергся бы желчному разбору Беллюстина. Он прошелся и по обучению в епархиальных семинариях, и по убогости проповедей и духовных наставлений в сельских храмах, и по плачевному невежеству крестьян в Священном Писании вкупе с их сугубо обрядовой религиозностью, и по унизительной бедности приходских настоятелей, и, что важнее всего, по наследственно-семейному порядку передачи приходов, который ставил родство выше пастырских достоинств и способствовал «кастовой» замкнутости духовного сословия. Фактически Беллюстин, как подчеркивает Г. Фриз, оспорил право черного духовенства управлять церковью. Отчасти в духе просветительского рационализма XVIII века, отчасти в тон прогрессистскому позитивизму своей эпохи он писал о монашеском обете с явным пренебрежением. Не будет преувеличением сказать, что «Описание сельского духовенства» наметило в главных чертах повестку дня дискуссий о церковных реформах, которые будут вестись в служебных кабинетах, неформальных кружках, в публицистике в 1860-е годы[285]. Некоторые из затронутых Беллюстиным тем приобретут особую остроту при обсуждении слабости православия в Западном крае.
Хотя помощь приходскому духовенству, как ясно из конструктивной части его очерка, Беллюстин ожидал именно от государства и тем самым вроде бы подыгрывал этатистской традиции управления церковью, сама его критика прозвучала далеко не традиционно. Если он и требовал вмешательства государства в дела церкви, то ради излечения ее от болезней, самостоятельно осознанных духовенством. Интересно, что в собственной судьбе Беллюстина вмешательство государства в лице самого императора явилось не меньше чем спасением. В начале 1859 года Синод установил личность автора прогремевшего на всю Россию сочинения и готовился сурово наказать его, однако Александр II, к тому моменту успевший ознакомиться с книгой, повелел прекратить преследование Беллюстина. Синод, конечно, подчинился, но впоследствии это не помешало синодалам резко выступить против беллюстинских предложений реформ, которые поступили к ним в форме анонимной записки, присланной для обсуждения самим императором[286]. Эта настойчивость Синода в защите своего мнения перед верховной властью тоже была приметой времени.
Между пробами «разгосударствления» православия и тем, что многие современники расценивали как беззаботное попустительство вероисповеданиям неправославным, существовала, конечно, тесная связь. Однако она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Помимо некоего общего духа смягчения зажимов и ослабления пут, связь эта обеспечивалась задачами новой репрезентации верховной власти, а именно поиском более эмоциональных и спиритуальных, чем при Николае I, форм лояльности молодому императору.
Размораживание официального образа православия, ослабление в нем черт иерархичности, монументальности, даже некоторая фольклоризация его облика начались уже в годы Крымской войны. Тогда чуть ли не впервые в имперской истории приходилось воспевать героизм российских войск, не увенчавшийся победой. Севастопольская оборона дала повод для такого изображения отваги в бою и стойкости духа, которое прямо или косвенно связывало эти качества с праведностью и возвышенной жертвенностью и позволяло осмыслить военное поражение как торжество веры. Акцент на духовную силу и спонтанные внушения веры (а не на институционализированный церковный порядок и дисциплину) весьма ярко проявился в новых сюжетах лубочной живописи на тему войны. В отличие от лубков эпохи антинаполеоновских кампаний, где церковь редко выступала активным участником событий, визуальный нарратив о Крымской войне выводил духовенство на первый план. При этом, по наблюдению С. Норриса, процветавшая при Александре I традиция показа личного присутствия императора на театре военных действий, напротив, утрачивает в годы Крымской войны свое значение – ни Николай I, ни его сын и преемник почти не пытались символически компенсировать свое пребывание вдали от армии плодами воображения художников. Зато целая серия «народных картинок» прославляла рядовых священников или монахов. Они изображались вдохновляющими воинов на контратаку; смиренно, но мужественно молящимися под обстрелом с английских судов; убитыми при защите храма от мародерства лютых турок[287]. Непосредственной целью таких композиций было утверждение прочной связи между русской доблестью и православной верой, что, конечно же, сказалось на дальнейшем формировании набора ценностей русского национализма, на самом его характере и стилистике «самопредъявления». Тем не менее прорисовка знаковых фигур героев из духовного сословия – причем не всегда из его элиты! – намекала и на самостоятельное положение церкви.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу