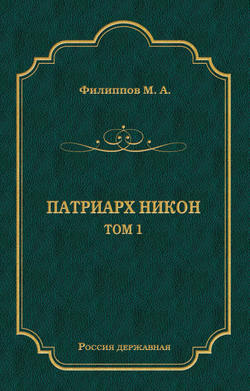Читать книгу Патриарх Никон. Том 1 - Михаил Филиппов - Страница 7
VII
Не судьба
ОглавлениеПоздняя ночь. В Нижнем Новгороде зима еще не настала, а только сиверка стоит на дворе: снег падает хлопьями и тут же тает. Ветер стучит наружными ставнями терема Хлоповой и завывает в трубах.
В опочивальне Хлоповой горит восковая свеча, а печь топится ярко, и березовые дрова трещат в ней.
Около столика на мягком топчане сидит Хлопова и жена отца Никиты, Прасковья Васильевна. Обе в сильной тревоге: вот уж более месяца, как уехал священник, и о нем ни слуху ни духу.
Жена затосковала по нем и совсем отбилась от дому, сидит сиднем у Хлоповой, и высказывают они друг другу свои чувства.
– Эка ночка, – говорит Прасковья Васильевна. – Чай, проезжему путнику не сладко. А мой-то Ника где теперь?
– Бог даст, приедет живехонек и здоровехонек. Надысь проходила цыганка, гадала она мне; баит, гости будут и радость… но…
– Что же дальше?
– Что ни на есть, какая-то злодейка мешает моей судьбе; а про твоего Никиту Минича сказывала все хороше, – много, говорит, будет у него горя, но и слава будет, и казны всякой, да сколько бы народу ни было, будут всего его слушать. Да вот и ты-то погадай мне аль себе. Я и бобы твои спрятала.
– Не мои, а тетушки покойной моей. Царство ей небесное, и любила и умела гадать.
Марья Ивановна достала из шкафика завернутые в тряпицу бобы и подала их попадье.
Та встряхнула в руке бобы, потом, выкинув их себе на руку, сказала:
– Странно, мой как будто в пути и спешит к нам. Постой, боярышня, как будто кто-то подъехал к твоему терему… погляжу…
И с быстротою молнии она бросилась в переднюю, а оттуда на крыльцо, – она попала в объятия мужа: он заехал домой и, узнав, что жена его у Хлоповой, прямо и поехал туда.
Радость была невообразимая, когда отец Никита рассказал об успехе своем в Москве и о предполагаемом приезде Шереметьева с врачами в Нижний Новгород.
– По дороге, – заключил священник, – уже готовят для посольства лошадей и ямских, и земских, и шереметьевских.
Хозяйка была вне себя от радости и велела тотчас накормить гостя; все, что было в доме, появилось на столе, и отец Никита, редко употреблявший напитки, стал пить здравицы и за хозяйку и за жену, так что он так подвыпил, что целовался и с женой и с Хлоповой.
Оставила Хлопова ночевать гостей у себя во флигеле, и отец Никита не давал всю ночь спать жене, рассказывая ей о разных диковинках, виденных им в Москве и у бояр.
На другой день Никита Минич и жена его принялись за устройство приема московских гостей.
Город же всполошился: пушки заржавевшие вычищены, воеводская канцелярия и избы, губные и земские, вымыты, у дома воеводского и у терема Хлоповой поставлено по одному фонарю.
Хоромы Хлоповой приготовлены для боярина Шереметьева; хозяйка же сама перешла в пристройку, а соседние к ней дома очищены для свиты вельможи.
Наконец после трехдневного трепетного ожидания явился поезд Шереметьева.
Впереди скакали гонцы, рейтары и казаки, за ними колымага Шереметьева, которую тащили восемь лошадей: четыре в дышле и по две с ездовыми; за ним мчалась колымага архимандрита Иосифа; потом следовали колымаги лекарей, свиты боярина и несколько крытых телег с поварами и дворовою челядью.
Все это остановилось у терема Хлоповой.
На крыльце встречен боярин воеводою, а в сенях приняли его Марья Ивановна с приставленною для наблюдения за нею старухою, вдовою стольника Стряпухиною и с родственниками Желябужскими.
Боярин с почтением отдал царской невесте поклон и жалованное слово царя, патриарха и царицы, спросил от их имени об ее здоровье; потом вошел в переднюю, поклонился и перекрестился образам и снова обратился к хозяйке с вопросом о здоровье, причем принял от нее хлеб-соль.
После того боярин сел в почетном месте у икон, и дворецкий его стал вносить подарки царские: соболя, разные материи на платья.
Марья Ивановна ничего не брала в руки, а только восхищалась и за каждую вещь кланялась низко, с пожеланиями царю и его семейству здравия и многие лета.
После этой церемонии хозяйка просила гостя и приближенных к нему хлеба-соли откушать – только хозяйка сама, по обычаю, за обедом не присутствовала, а вместо нее хозяйничал воевода.
Со следующего дня началось духовное и врачебное исследование – не больна ли чем ни на есть Хлопова.
Начал исследование архимандрит Иосиф: он приказал Марье Ивановне целую неделю поститься, слушать заутрени, вечерни, часы и обедни в Спасском соборе, в воскресенье же исповедаться и приобщаться. Сделано было это для того, чтобы убедиться, как она выдержит «Херувимскую» и нет ли в ней нечисти духовной.
Все шло в порядке, а потому в субботу Шереметьев призвал врачей и сказал, что и они должны сделать опыт в воскресенье насчет желудка, который и погубил царскую невесту.
Доктор Бильс вынул носовой платок, высморкал нос и, положив его в карман, произнес с расстановкой и медленно:
– Марья Ивановна постил… сколько дней?..
– Неделю.
– Ух, ух! На посна масла?
– Да.
– Ух! Ух!
– А я, – продолжал боярин, – велю на воскресенье изготовить кулебяку, кислые щи с салом свинины, бараний бок с кашей, гуся жареного с кислою капустою и яблоками, поросенка жареного с кашей, и если Марье Ивановне будет ничего, то и слава богу, значит, русский человек, и желудок ничего.
– Я не позволяй, – завопил доктор, – мой опыт на медицын…
– Проваливай со своею медицын и со своей аптекой, испортили ее аптекой.
– После пост да такой кушанья, помрет фрейлейн…
Бильс при одной мысли о таком ужасном событии вынул платок и вытер слезы.
– Пропал девка, – говорил он, – можно ль, постный желудка… постна масла… а тут каша… гуська… поросенка… барашка… кулебяка… Уф! Уф!
Холодный пот выступил на лице Бильса; товарищ его, Бальцер, однако ж, не возражал, а только сильно облизывался, как будто он все эти блюда перепробовал.
Шереметьев исполнил в точности опыт свой: все, что он сказал, было заказано, и Хлопова в присутствии нескольких сторонних свидетельниц должна была разговеться таким обедом, но каждая порция, назначенная Марье Ивановне, должна была быть предъявлена прежде всему посольству.
Окончилась обедня, Хлопова приобщилась и приехала домой.
Боярин поздравил ее со всеми его приближенными, и Марью Ивановну повела жена воеводы к трапезе.
Приставленная к ней Стряпухина должна была каждую порцию Хлоповой приносить в столовую, где обедал Шереметьев со свитою.
Каждая порция была двойная, то есть миска с верхом, обратно она возвращалась пустая.
– Мм… – мычал каждый раз доктор Бильс и спрашивал: – А чем фрейлейн запивал?
– Полкружки квасу, – докладывала Стряпухина.
Когда после поросенка с кашей принесли половину жирного гуся с кашей и огромными антоновскими яблоками, доктор протестовал.
– Не позволяй, – воскликнул он горячо, – лопнет на живот…
– Что немцу смерть, то русскому здорово, – расхохотался боярин.
Стряпухина ушла и через четверть часа возвратилась с пустою посудою.
– Герр Бальцер, – крикнул своему толстенькому товарищу доктор, – Эс вирд гешеен ейн гросер унглюк, их кан нихт аусгалтен.
– Чем запила? – спросил боярин.
– Кружкою квасу, – отвечала Стряпухина.
– Герр Бальцер, умрет… – закричал доктор.
И Бальцера начал даже прошибать пот, но и их обед окончился, а между тем никто не давал знать, чтобы с Хлоповой случилось несчастье.
На другой день посольство зашло в комнаты Марьи Ивановны, врачи осмотрели ее, ее пульс и язык и нашли, что она здоровехонька.
Осталось посольство после того еще два дня в Нижнем Новгороде, чтобы убедиться в аппетите Хлоповой, и врачи-немцы дали ей аттестат, что она может быть истинной царской невестой, так как после каждого подобного обеда она еще с большим аппетитом забавлялась рожками, яблочками мочеными, сушеными грушами и сливами, винными ягодами, изюмом, орехами и пряниками различнейших сортов и величин, и все это запивалось квасом: хлебным, клюквенным, яблочным, и заедалось вареньем: малиновым, вишневым, смородинным и крыжовником; пастилы же разных сортов шли не в зачет.
Все это было так убедительно для немцев-врачей, что они, возвращаясь с Шереметьевым, твердили.
– Ах! Мейн Гот!
Тотчас по возвращении в Москву боярин Шереметьев отправился с докладной к патриарху.
Выслушав подробно, какие опыты были сделаны насчет Марьи Ивановны, Филарет Никитич назначил на другой же день Боярскую думу.
В заседание были потребованы оба Салтыковых, отец и дядя Хлоповой и все посольство боярина Шереметьева. Выслушав дело, Боярская дума присудила Салтыковых к ссылке и к конфискации всей их недвижимости в казну.
По окончании суда патриарх отправился с окольничим Стрешневым к царю.
Он застал того играющим в передней в шашки с одним из придворных.
Придворный тотчас удалился, а патриарх объяснил сыну, какое решение состоялось в думе, и при этом предъявил ему протокол, или, как он тогда назывался, запись.
– Да как же без царицы-матушки? – вспыхнул царь. – Салтыковы ее племянники, мои двоюродные, и я к ним привык. Михайло кравчий мой, а без него-то ни меду не будет, ни вин заморских, ни романеи.
– Сто кравчих найду тебе, – утешал его отец, – а ворам, изменникам поблажки нельзя дать, хотя бы были не токмо двоюродные, а родные братья.
– А инокиня-мать! – стоял на своем Михаил.
– Пущай она повесит себе на шею всех Салтыковых и их воровские дела, – разгорячился патриарх, – узнает она о них тогда, когда они будут далеко от Москвы, – пущай тогда за ними едет, коли ей будет их жаль. Подпиши, говорю тебе; коли воров и крамолу не собьем, не усидишь ты на престоле и будет смута такая, как при Шуйском. Самозванцы что день – нарождаются, а польский король что день – воду мутит; он и теперь всякие книги выпустил и на тебя и на меня. Оставишь Салтыковых, они первые тебе изменят. И теперь уж они своевольничали и знать тебя не хотели. Выбирай аль Салтыковых аль меня.
Михаил с трепетом слушал отца и, взяв перо со стола, утвердил приговор бояр, не читая записи. Совершив это, он тяжко вздохнул, утер пот, катившийся с его лица, и в изнеможении сел на стул. Патриарх поцеловал его, простился с ним и вышел.
В сенях, передавая окольничему Стрешневу приговор думы, он произнес тихо:
– Передай тотчас думному дьяку: Салтыковых чтобы не было в Москве через час.
Царица-инокиня не знала вовсе о происходившем, а осведомилась об этом тогда лишь, когда Салтыковых сослали и когда вся родня ее поднялась на ноги.
Царица тотчас послала за царем и за патриархом.
Зная, что будет буря, он несколько дней пред тем под разными предлогами не пускал царя Михаила к матери, а когда та прислала за ними, то он царю Михаилу велел лечь в кровать и прикинуться больным, пока гроза не пройдет, а он-де сам уж все уладит ко всеобщему благополучию.
Царица инокиня-мать занимала под свои службы и под свою свиту половину Вознесенского монастыря; но собственно ее жилье состояло из двух комнат: одна из них, обставленная мягкою мебелью, коврами и со стенами множеством старинных образов в драгоценных ризах, была ее приемная; вторая – ее спальня.
Ходит по этой передней инокиня-мать, и взоры ее бросают молнии, а губы судорожно сжимаются – она ждет свидания с мужем-патриархом и с сыном-царем.
Инокиня невысока ростом, средней полноты, хорошо сохранившаяся женщина; бела она лицом, темные брови в струнку, как у молодой особы, глаза немного впавши, но прекрасны, хотя выражение их недоброе, и вообще лицо гордое, мужественное и повелительное.
Одежда на ней инокини, но воротник на шее из драгоценных кружев и на груди ее алмазный большой крест, в руках же янтарные четки.
Входит в ее комнату, робко озираясь, девица за двадцать лет, удивительно похожая на нее; на ней сарафан, белая голландская рубаха, дорогие кружева, на голове драгоценный венец, и на шее жемчуг высокой цены с алмазным крестом.
– Таня! Слава богу, хотя тебя отпустили ко мне. Теперь сына не дозовешься! – восклицает мать, обнимая и целуя дочь.
– Царь заболел и меня послал к тебе, царица-матушка, – произнесла та робко, целуя у матери руку.
– Заболел! – рассердилась царица. – Коли чувствует вину пред матерью, тотчас и болен.
– Нет, взаправду болен; заходила я к нему, у него лекаря, а он, сердечный, лежит в постели, желтый, а зуб на зуб не попадает, дрожит, точно осиновый лист.
– О Салтыковых он ничего тебе не баил?
– Ничего.
– А патриарх заезжал к нему?
– Нет.
Инокиня опустилась на стул.
– Они уморят меня, – произнесла она, задыхаясь, – отцу ничего, коли сын болен… Танюшка, да ведь коли он, сохрани Господь, умрет, мы с тобой сиротами останемся. Никита Иванович Романов будет тогда царем, а мы-то что?.. затворницы…схимницы… будем…
Постучался кто-то в дверь.
– Гряди во имя Господне, – произнесла громко инокиня.
Дверь отворилась, и на пороге появился патриарх Филарет: на его голове, на белом клобуке, сиял большой алмазный крест, на груди две драгоценные панагии, в руках же иерусалимские четки.
Инокиня и дочь ее распростерлись пред ним трижды; патриарх благословил их, и после того, как те поцеловали у него руку, и он обнял и поцеловал их.
Поговорив о здоровье, патриарх попросил дочь свою, царевну Татьяну Федоровну, отправиться к матери-игуменье этого монастыря и передать ей от него поклон.
Царевна удалилась. С минуту супруги молчали.
– Да… хотела поговорить с вами, с тобою и с сыном. От приезда твоего сын ставит меня в ничто, да и ты только и думаешь, как бы мне сделать досаду… Людей моих прогоняете, родственников в ссылку ссылаете, грабите их…
– Награбленное ими неправо возвращается в казну или лицам ограбленным, – пояснил патриарх.
– Вам обоим дела нет, – горячилась инокиня, – ни до заслуг сосланных или томящихся в темницах лиц, ни до слез их семейств и родственников, ни до народного говора и негодования…
– Так тебе кажется в келье, царица; мы с сыном все это принимаем во внимание; а потому, чтобы утереть народные слезы, унять народное негодование, народную молву и говор, мы сослали думного дьяка Грамотина и его единомышленных бояр окольничих и думных дворян, – все это крамольники, воры, изменники и грабители… Вот на кого ты намекаешь…
– Грамотин честно и верно служил мне и сыну моему.
– Тебе, царица, быть может, но не сыну твоему. Грамотин дерзал даже ссылаться с поляками, чтобы меня из пленения не отпущали, грозя им большой бедой.
– Это поклеп, неправда…
– Такая же святая правда, как то, что он целовал крест Шуйскому и Сигизмунду, и Тушинскому вору, и Владиславу, и, наконец, моему сыну Михаилу.
– Пущай Грамотин тебе стал не люб из-за ревности.
– Царица-инокиня, не срами ни себя, ни меня. Не вызывай моего гнева! Ты забыла, с кем говоришь, с патриархом всероссийским, а патриарх не может иметь ревности к женщине. Я весь предался служению царству и пастве: здесь все мои помышления, все мои думы, здесь же, коли встречается враг или царя, или земли русской, – у меня пощады нет.
– Громко ты говоришь, святейший, а словом не испугаешь… Что сделали царю или земле русской Салтыковы? Они служили верой и правдой им и Тушинскому вору крест не целовали, – злобствовала инокиня.
– Бросаешь ты, инокиня, камушки в мой огород. Но забываешь ты, что я сослан вором Годуновым в Ростов, Лжедмитрия не знал, а Тушинский вор вызвал меня оттуда, возвеличил, обращался со мной как с отцом, – я и принял его за настоящего Дмитрия. А когда он пал, целовал я крест со всей Москвой Владиславу; потом терзали, мучили, чтобы я целовал крест отцу его, хотели сделать униатским архиепископом, первым лицом в государстве, примасом, – я отказал: веры своей не переменю.
– Теперь сам латинство вводишь в Чудовом монастыре, – прошипела инокиня.
– Дуришь ты, царица, – волос долог, да ум короток. Просвещаю я невежд, а без греческого и латинского языка книги порядочной не прочитаешь – все на этих языках… Да и свет Христов, просвещающий всех, исходит из книг на этих языках. Слышала ты звон, да не знаешь, в какой церкви, и тоже туда ж.
– Ладно, пущай Грамотин вор, зачем сослал Салтыковых?
– За их воровство, зачем своевольничали, грабили царские земли, зачем творили иные бесчинства, зачем разрушили царское счастье с Хлоповой.
– Машка не была его судьба – она испорчена.
– Все это ложь и неправда, а знаю я лучше, почему им не по сердцу была царская невеста. Боялись они возвышения Ивана и Бориса Хлоповых, боялись, что будут у царя дети, и коли я умру в пленении, в неволе, а царь будет без детей, то царством будешь править ты, да с ними да с Грамотиным. Знамо куда оно шло! А Хлопова – девица прекрасная, богобоязненная, разумная и будет она добрая жена мужу…
– Не будет холопка да сибирная женою моего сына! – топнула ногами инокиня. – Из-за нее, из-за холопки, воровки, сослали моих племянников… Ни за что! Ни за что!..
– Царица, губишь ты и царство и юного царя! Гляди, ходит он точно сонный; взрастила ты его в монастыре, а потом здесь, точно бабу какую; не имеет он ни воли своей, ни разума…
– Он дурак, по-твоему?
– Не говорю я это, а кровавые слезы лью, как вспомню, что будет с ним и с царством, коль я умру. Кругом враги: шведы, ливонцы, поляки, татары, – да нас растерзают на части. А тут Михаил беспотомственен. Бога ты не боишься: ему уж скоро третий десяток пойдет, и не женат… Посылали мы к королям датскому и шведскому взять оттуда невесту, да поляки губят дело. Мы-де варвары, людоеды, а жены наши-де пьяницы.
– Нужно взять чужеземку, своих не хочу. Наши холопки… презренная тварь… сволочь…
– Иноземки веры не хотят нашей принять; так возьми себе в невестки Хлопову, царь Михаил говорил: она ему-де сердечна, – убеждал патриарх.
– Да мне не по сердцу. Коли затеешь сватовство – благословения не дам.
– Прошу, умоляю тебя, царица. – И патриарх поцеловал у нее руку.
– Понимаю теперь все… все так ясно; тебе Хлопова Машка дорога… очень дорога… Отписывал ты грамоту из пленения; взять Машку ко дворцу как царскую невесту, Хлоповы-де в Тушине были верными мне слугами, и в болезни моей жена Ивана, Ирина, ходила за мною, как за братом, а дочь ее Марья радовала мои очи, и вспоминал я дочь мою дорогую Татьяну… Так описывал ты, а теперь хочешь, чтобы дочь полюбовницы твоей была моей невесткой… Николи… скорее смерть, чем грех такой…
– Царица, гнев безумен, опомнись, что говоришь ты. Ирина давно умерла, и не черни ее памяти без причины – это грех великий. Но коли ты сказала уж такое слово, так не быть ей моею дорогою дочерью, не быть ей царицей… А сына все женить надоть. У князя Владимира Долгорукова дочь Марья; люди бают, она умна, хороша, богобоязненна, да и именитого она рода.
– Не будет она женою моего сына, – князь Владимир враг моему роду, – вспылила царица-инокиня.
– Полно дурить, – рассердился патриарх, – твой род не царский дом; дом этот – дом Романовых, и коли Долгорукие князьи этого дома, так ты со своим-то не суйся.
– Не дам благословения, – упорствовала инокиня.
– Нет, дашь! – вскочив с места, воскликнул патриарх, весь дрожа от гнева. – Вступлю я в права мужа и патриарха, не спросясь царя, возьму тебя в пытку и всех твоих бояр. Повинитесь вы тогда во всех своих неправдах, кознях, крамолах и воровствах, и тогда – горе вам! И Грамотин и многие иные всплывут наружу, и будет казнь вам так страшна, что сам царь Иван Грозный с Малютой да Вяземским дрогнут в гробу. Завтра, инокиня, приедет к тебе сын твой, царь Михаил, и уповаю, ты дашь ему свое благословение. Клянись перед иконой.
Во все время этой речи царица бледнела и трепетала, и когда патриарх кончил, она упала на колени и произнесла:
– Клянусь!.. Ладно…
Филарет посмотрел на нее с минуту сурово, потом тихо и величественно вышел из ее келии.
– Не судьба моему сыну Хлопова, – вздохнул он, садясь в колымагу.