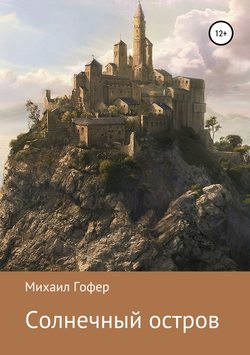Читать книгу Солнечный остров - Михаил Гофер - Страница 1
ОглавлениеМихаил Гофер
СОЛНЕЧНЫЙ ОСТРОВ
Часть I
Якоб Дортмундсен
– Двадцать лет назад, Штиль, для того, чтобы остановить кровотечение из носа, нужно было запрокинуть голову, и вставить в ноздрю ватный тампон, чтобы кровь успела свернуться до того, как вытекла, и желательно положить лёд на переносицу, – лорд-канцлер Дортмундсен, худой, нескладный, сидел на стуле, широко раздвинув ноги, опершись локтями о колени. Время от времени он выпрямлялся и начинал отчаянно жестикулировать, размахивая руками, и забывал, что есть ещё люди вокруг, поэтому ходить рядом было небезопасно; история знала пару зафиксированных случаев, когда лорд-канцлеру приходилось приносить извинения и компенсации за нечаянно разбитый нос, так что уж кто-кто, а он прекрасно знал обсуждаемый предмет; – а теперь же появился какой то идиот, который решил, что если запрокинуть голову, то кровь польётся в носоглотку и пациент захлебнётся! Куда же ей ещё деваться, Штиль? Испокон века она туда и текла, там сворачивалась и останавливалась. Захлебнуться ей можно было только в полностью бессознательном состоянии, в котором и находился этот, с позволения сказать, специалист, когда решил, что ватный тампон и запрокинутая голова – это не панацея! Он решил, что умнее всех, и что голову надо не запрокидывать назад, а наклонять вперёд! Мало того, он продавил этот вопрос в академию, защитил на нём диссертацию и будет спокойно почивать на лаврах и пожинать плоды до тех пор, пока не появится какой-нибудь здравомыслящий студент, который поймёт весь идиотизм ситуации, и защитит СВОЮ диссертацию о носовом кровотечении. При условии, конечно, что ему позволят это сделать! И тогда всё вернётся на круги своя. Но пока власть в медицинских кругах держит этот неуч, он будет издавать книги со ссылками на себя, гениального, единственного и богоизбранного, а после того, как признают, что он таки идиот, ещё лет двадцать будут избавляться от учебников с его псевдотеориями! Все попытки раздавить его, с позволения сказать, «авторитет», будут пресекаться им же самим, и остаток жизни он угробит даже не на научную деятельность, и уж тем более не на работу, а на агрессивную охрану своего невежества!
Лорд-канцлер остановился перевести дух. Со лба его уже давно ручейками стекал пот. Он отмахнул рукой, и, как будто только что заметив на столе графин, взял его, вплеснул воду в стакан, разбрызгав почти треть, жадно влил её в себя и выдохнул, словно это была не вода, а водка. На секунду министру перевозок Штилю даже показалось, что лорд канцлер выдохнул паром, как будто внутри у него горел небольшой вулкан, встретивший вышеупомянутый стакан воды крайне неприветливо. Дортмундсену, видимо, тоже так показалось, и он налил себе второй стакан, уже не торопясь, не пролив ни капли, и выпил тремя глотками, которые можно было назвать спокойными.
Кабинет министров островной республики ***ландия практически полным составом сидел в так называемой курительной комнате. Курительной она называлась символически, поскольку курили из кабинета министров двое: министр экономики, промышленности и энергетики Сэмюэль Лэйкер и министр обороны, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Том Гласс. Сам лорд канцлер тоже мог позволить себе несколько сигарных затяжек, но только после двух-трёх рюмок горячительного, которое здесь же, в этой комнате иногда разливалось по государственным праздникам, и только в этом случае никто не возражал против табачного дыма. Во всё остальное время и Лэйкер и Гласс вынуждены были или прохлаждаться с сигарами у открытого окна, или задувать дым в вентиляцию, что делало удовольствие от курения весьма и весьма сомнительным, поэтому они оба всегда мучились на таких совещаниях, и вздыхали с облегчением, когда они, наконец, заканчивались.
Здесь же, в этой комнате решались вопросы по так называемой «безгалстучной» схеме. Лишние люди здесь не бывали. Больше всего этой комнате подходило имя «совещательная». Сейчас они собрались здесь, поскольку лорд канцлер Якоб Дортмундсен, выполняющий одновременно обязанности министра финансов и являющийся руководителем аппарата президента, вернулся из четырёхмесячной полуофициальной поездки по земному шару и делился впечатлениями об увиденном.
В данный момент копья ломались о популярный медицинский журнал, привезённый лорд-канцлером из путешествия.
Министр перевозок, сельского хозяйства и природных ресурсов Штиль, оправдывая свою фамилию, и слыл, и был спокойным человеком, поэтому мягко и вкрадчиво произнёс:
– Но это ведь журнал не из нашего государства, Якоб…
Дортмундсен, подрастерявший уже бойцовый пыл и одновременно мучаясь мыслью о третьем стакане воды, рассеянно произнёс:
– Слава Богу, Штиль, слава Богу, – лорд канцлер вытянул из стопы бумаг на столе черновой лист с пробами пера и какими то планами проездов и пытался промокнуть этим листом расплёсканную им воду. – Но это, собственно, и неважно.
– Как неважно? Зачем же… – начал было Штиль, но Дортмундсен перебил его:
– Неважно, потому что я объяснил вам принцип, не более…
Лорд канцлер уже совсем испортил лист, смял и выбросил его в корзину для мусора, и теперь рассеянно оглядывался, пытаясь найти ещё что-нибудь для полного уничтожения лужи на столе. Лэйкер, видя его замешательство, вынул откуда-то из недр письменного стола тканевую салфетку, и передал Дортмундсену. Тот, приняв салфетку, мелко закивал в знак благодарности, и, продолжая промакивать остатки лужи уже салфеткой, продолжал:
– Есть два способа возвеличить себя над окружающими: один – сделать что-то действительно великое: прекратить войну, собрать невиданный урожай, организовать правление страной или государством на таком уровне, что ни один человек не возроптал бы, это я не буду объяснять, тут и так всё ясно. И есть второй – мерзкий, грязный, и даже опасный: создавание хаоса в мозгах и недоговорённости в действиях. Берётся частный случай какого-либо явления, что-то вроде вот такого «кровоизлияния в нос», и на волне всеобщей безграмотности, тщательно культивируемой, объясняется, что «до меня никто ничего не понимал, а я несу вам свет надежды и силу просвещения». Причём через какое то время тот, кто выдумал этот способ «быть великим», сам искренне начинает верить в весь этот хлам и бред и совершенно серьёзно его защищать.
Наиболее опасно, когда это происходит на государственном уровне. И вроде бы население получает высшее образование, но безграмотность его ужасающа, поскольку даже в центральных газетах печатают с ошибками. Причём не с опечатками, а именно с ошибками! И первый показатель того, что умами завладевает хаос – распространение «ливерных» видов деятельности.
Теперь фыркнул Гласс:
– Их что, из печени делают? Или из ливерной колбасы? Странный всё-таки вы человек, Якоб. На каком месте вы стоите, что с вашей стороны всё так мрачно выглядит? Мы – островное государство, нас так просто не достать. У нас свой уклад, и, слава Богу (хе-хе), свои понятия о ливере. Хотя, ваша точка зрения имеет место быть, и, как всегда, наверняка интересна! – Гласс открутил пробку от своей знаменитой фляжки, с которой он никогда не расставался, сделал глоток, испортив себе на несколько мгновений всю мимику, и попросил сдавленным голосом:
– Расскажите же!
– Ну…, – лорд-канцлер, держа салфетку двумя пальцами, водил глазами вокруг, пытаясь пристроить её хоть в какое-нибудь место, и никак не мог собраться с мыслями, пока наконец беззвучный министр иностранных дел и торговли Герберт Сэйлер не отобрал её у Дортмундсена и не повесил на вставленную специально для таких случаев изнутри стола канцелярскую декоративную кнопку.
– Да! Спасибо! – распрямился лорд-канцлер, и, оперевшись задом на стол, с невесть откуда взявшимся опять пылом свёл перед собой кончики пальцев, образовав ими сферу. Задумавшись, отчего его светлые скандинавские глаза приобрели абсолютно пустое выражение (из-за которого, кстати, его очень долго в начале карьеры принимали за человека недалёкого и не сильно прислушивались к нему), Дортмундсен некоторое время собирался с мыслями, и, так как разговор затеял Штиль, начал разговаривать с ним, повернувшись к нему, чудесным образом изменив выражение глаз на гениальное:
– Попробую! Вы, Штиль, как никто должны знать: в сельском хозяйстве основной продукт – мясо.
Штиль, зная манеру Дортмундсена разговаривать, не стал его перебивать и доказывать, что он, как министр, тоже кое-что смыслит в сельском хозяйстве, а просто кивнул.
– Кроме того, в животноводстве есть показатель живого веса, состоящего и из мяса, и из всего остального: шкур, рогов, копыт, хрящей; а также внутренности: печень, лёгкие, кишки, язык, называемое специалистами «субпродукты», а в народе просто «ливер» и «студень». Так вот. Когда ливер по весу занимает больше, чем мясо, то есть субпродукт по весу превышает собственно продукт, сельское хозяйство признаётся нерентабельным, не так ли, Штиль?
– Я поправил бы вас в частностях, и немного в терминологии, но смысл ухвачен верно, – отозвался Штиль. – Вкладывать средства в животноводство, получая на выходе в основной массе субпродукты, действительно нерентабельно. Правда, я о таком животноводстве не слыхал.
– Ну, в международной истории случались такие казусы, но речь сейчас не об этом… Так вот: «ливерным» я начал называть всё, что не относится к конкретному и серьёзному делу, а крутится рядом с главными делами настолько плотно, что при беглом взгляде действительно кажется важным, и даже больше – действительно кажется делом; на него тратятся деньги, на нём зарабатываются деньги, есть множество профессий, существующих именно за счёт этого «ливера», хотя на самом деле всё происходит с точностью до наоборот: отвлекает от дела, от настоящего дела, хотя вид ему придают совершенно серьёзный!
Кабинет министров смотрел на лорд-канцлера недоверчиво и непонимающе. Ситуация осложнялась ещё и тем, что сразу после отъезда Дортмундсена Президент республики ***ландия Карл Майнер серьёзно простудился, слёг, и, несмотря на все ухищрения врачей, медленно угасал, атакуемый обострениями всех спрятавшихся в нём до этого времени болячек. Иногда ему становилось легче, и его даже выкатывали в кресле-каталке на балкон его резиденции, но дальше улучшений не было. Министры предощущали наступление конца, но не могли представить его и от этого в курительной комнате витали молчание и рассеянность.
Президент Майнер держал республику долгое время, умея выбирать и назначать на посты людей, умевших справляться с постами. Собственно говоря, Майнер и сделал этот остров полноправной республикой, до него имевшую статус «окраины земного шара» и «сырьевого придатка». Лишним доказательством этого стало то, что серебряные рудники ***ландии открыли уже после того, как Майнер стал президентом, и молодая республика, уже практически вставшая на ноги, получила полную финансовую независимость.
Авторитет Майнера был так высок, что и не предполагал наступление времени, когда его не будет. А оно неотвратимо приближалось. Каждый из тех, кто сидел сейчас в курительной, понимали: политика ТАКОГО уровня, как Майнер, среди них нет. Даже если он и назначит преемника, то он не будет обладать ни авторитетом такой силы, ни таким всеобъемлющим видением ситуации. Время от времени Президент вызывал кого то из министров, и подолгу разговаривал с каждым, но ничего конкретного не решал.
Поэтому и разговор, буксовавший в курительной комнате, кроме того, что и вился вокруг вещей, не всеми понимаемых, ещё и тормозил о плохо представляемое будущее республики БЕЗ Майнера.
– Это… как, простите?– совершенно непонимающим тоном пытался выяснить министр юстиции и внутренних дел Шпигель, с большими сложностями разбирающийся со всеми непонятностями и неприятностями, возникающими иногда в жизни министра юстиции и внутренних дел, вынужденного общаться не только с военными и полицейскими. Шпигель был человеком прямым, и, если он чего то не понимал, он задавал вопросы СРАЗУ, чтобы сделать ситуацию понятной. Более того, министр юстиции своей военной простотой частенько выручал остальных из таких щекотливых ситуаций, задавая именно те вопросы, которые крутились на языках у каждого, но которые, из боязни показаться недалёким, не произносил никто. Дортмундсен кашлянул, опять поменяв взгляд, и замолчал на неприлично долгое время. Здесь, на острове, к этому привыкли и просто ждали, а вот в турне лорд канцлер чуть серьёзно не повредил свою репутацию, замолкая на несколько долгих секунд перед микрофонами, когда уже только переводчики оставались в напряжении, поскольку знали его манеру задумываться перед тем, как решиться что то сказать. Дортмундсен начал с телевидения, и долго, в звенящей тишине, прерываемой иногда звуками фляжки Гласса, рассказывал о тех передачах, которые запускают в эфир на «большой земле»:
– При всём при этом создаётся впечатление, что телевидение зорко следит за нуждами простых людей, а на самом деле НИЧЕГО не происходит! Люди выпускают пар, могут даже устроить потасовку среди прямого эфира, и её (потасовку) могут сохранить и в записи (как они сами объясняют, «для рейтинга»), но тема не кончается ничем! Каждый день, на бешеной скорости меняя картинку, специально обученные специалисты рассказывают о каких то страстях перепрыгивая с темы на тему тему ровно с такой частотой, чтобы к концу передачи нельзя было сразу вспомнить, о чём же было в начале, создавая видимость отслеживания пороков и проблем. На самом деле никого не интересуют ничьи проблемы.
Вообще, я заметил, что можно даже охаивать существующий строй, оказывать явное неуважение к государственной атрибутике, но если с тебя взять нечего, и впрямую никаких угроз ничьему личному обогащению ты не оказываешь, то можно говорить всё, что угодно! Ощущение такое, что тебя даже на это провоцируют, чтобы ты выговорился, словами обозначив действие, и успокоился. Своеобразная ширма, за которой и мутная вода не нужна – не надо мутить воду, бояться некого – все остальные по ту сторону телевизионной изгороди.
Дортмундсен замер, понимая, что его речь хоть и проговаривается на понятном для всех языке, производит впечатление шаманского бормотания, так как министры со стороны напоминали незнакомые фигуры из музея мадам Тюссо. Наконец Гласс, снова открыв фляжку и снова испортив мимику, расшевелил всех, звонко и со смаком чихнув. Посторонний звук вывел всех из оцепенения.
– Странные вещи вы рассказываете, Якоб… – произнёс, наконец, министр образования и науки Поуп. – Как это – никому нет дела? Есть же государственные службы, социальные учреждения, да и полиция, в конце концов…
– В том то всё и дело, Ричард.… Все государственные и муниципальные службы настолько отстранены от всего, что происходит у них под носом, что только отмахиваются от каждого нового циркуляра, и так толком не успевая ничего из того, что положено. А если и успевают, их забрасывают новыми никчёмными бумагами, оттирая их тем самым от своей основной работы. Надзорные службы тоже выполняют заказы так называемого безликого «государства». Проверки то и дело сыплются на головы бедных служащих. Неожиданно могут издать какой-нибудь закон или подзаконный акт, меняющий в мелочах какие-то правоотношения, или хотя бы даже способ написания почтового адреса. Представляете, что это такое? Всё равно что поменять буквы на клавиатуре. Если не сумел привыкнуть – остался без работы, это называется «естественный отбор». Раз в полгода обязательно что-нибудь придумывается. Народ, мучающийся на службах, за всеми этими нововведениями и не успевает разглядеть, что творится вокруг, иногда лишь постфактум вздыхая по утраченному озеру или лесу.
Дортмундсен подошёл к окну, и начал было открывать фрамугу, но передумал, и открыл всё окно, обе створки настежь.
– Простите, – сморщив лицо и сведя вместе брови, опять по-военному просто придумал продолжить разговор Шпигель, – Что значит «утраченное озеро»?
Министры с облегчением и благодарностью в глазах переглянулись, и внимательно вперились глазами в спину Дортмундсена. Дортмундсен, не оборачиваясь, улыбнулся, глядя в оконную даль, поскольку и ему иногда приходилось переглядываться с благодарностью в глазах с кем-то из кабинета министров после вопросов Шпигеля, подставил лицо слабому ветерку, прорвавшемуся в окно, собираясь с мыслями. Перед тем как повернуться, он спрятал улыбку.
– Там практически нет никаких отношений, кроме товарно-денежных. – обобщил он, наконец. – Всё можно купить или продать. Покупательная способность стала мерилом определения рейтинга индивидуума в обществе. При наличии денег можно посадить «своих» людей (в основной массе, кстати, с подмоченной репутацией) на «анкерные» места и работы (Шпигель, не напрягайтесь! Анкер – это тот самый камень в часовых механизмах, вокруг которого и вертятся все остальные шестерни), и время от времени испрашивать с них своеобразную «дань» различными услугами. В том числе и куплей-продажей земли, леса, озера.
Деньги настолько владеют умами, что молодые девушки не стремятся идти работать и зарабатывать, а сразу, чуть созрев, а иногда и раньше, продают сначала свои фотографии в различные модельные агентства, а потом и свои тела агентам, фотографам, редакторам и прочей приблуде за первое место на обложке журналов.
– Хо! – за время монолога Гласс ещё пару раз успел приложиться к фляжке, поэтому глаза его уже блестели и в них виден был пусть и искусственный, но интерес к жизни. – Интересно бы было посмотреть! Не привёз случайно, Якоб?
– Том, ваша фляжка не доведёт вас до добра.. – Якоб перешёл на имена, но на «ты» ещё пока было не время. – А что до пошлых журналов и скабрезных записей, так от них есть прекраснейшее лекарство: стоит только подумать, что на этом месте могла оказаться ваша жена. Ну, в нашем случае – дочь. Интерес резко сменяется отвращением.
Гласс чем-то булькнул в горле, сделал вид, что пошутил, но якобы не вовремя поперхнулся и теперь не может говорить, а только покивает головой и покашляет. Его старшая дочь как раз находилась в том нежном и опасном возрасте, когда ещё отношения с противоположным полом на пользу бы не пошли, хотя всякие романтические картинки уже развешивались ею по стенам комнаты, по привычке ещё называемой «детской».
– В этом плане я бесконечно благодарен министру здравоохранения, культуры и связи Виндсторму за неустанный труд его ведомства по отслеживанию и пресечению попадания в эфир нашего телевидения этой… – Дортмундсен одновременно на обеих руках потёр большими пальцами об указательные, и, найдя в своём лексиконе для этой ситуации только неприличные слова, ограничился приличным, – …чепухи!
Виндсторм устало вздохнул и медленно закивал головой:
– Кто бы знал, какой настырности атаки идут именно в этом направлении, – таким же усталым голосом, как и его вид, проговорил он. – Здесь всегда легче всего пробить брешь в обороне. Причём начать можно с мелодрам и так называемой эротики, а дальше как снежная лавина – остановить невозможно!
– Да! Вы даже не представляете, как я рад, что вернулся, и что здесь по прежнему всё неизменно. Как справедливо заметил Гласс, мы – островное государство, нас так просто не достать!
За окнами начинало смеркаться, и это означало, что через несколько минут придёт ночь, неожиданно и тихо. Беззвучный министр иностранных дел и торговли Герберт Сэйлер встал и прошёл к бару. Дортмундсен проводил его взглядом, выражающим лёгкое недоумение, поскольку за Сэйлером не водились излишества вообще и алкоголь в частности. Штиль тоже с недоумением проследил за перемещением Сэйлера, но вернулся к разговору:
– Успокойте чем нибудь ещё, Якоб! У Вас, я вижу, получается… Что там ещё не так, как у нас? Я выслушиваю Ваши повествования почему то не с ужасом, что же такое творится в мире, а с облегчением, что у нас такого нет!
– Ну…. – Дортмундсен опять замолчал и задумался. В такие минуты люди, находившиеся ближе к нему (ближе не в плане геометрии, а в плане отношений), в шутку говорили, что через его глаза можно разглядеть как выглядит затылок лорда-канцлера изнутри. Через двадцать восемь долгих секунд Якоб, наконец, заговорил:
– Там, – он выделил голосом слово «там», проводя границы не только в географии, но и в фонетике, – там во власть в основном попадают бухгалтера, юристы и экономисты. Если посмотреть на нашу систему, то во власть не может попасть человек, не зарекомендовавший себя в ремесле. Там же основной задачей является перераспределение финансов, попытки найти ошибки в договорах и в их исполнении, и НЕ платить, или отсудить неустойку. Они не умеют РАБОТАТЬ, они изобретают способ отъёма денежных средств у других, не запрещённый законом, поэтому законы их издаются многими томами, юристы помыкают руководителями… в общем, наши юристы, связавшись с тамошними, проиграют, не начав… и, что самое обидное, по закону будут правы они.
Сэйлер у бара тихо звякнул бокалом. Лорд-канцлер оглянулся, но, не встретившись взглядом с министром торговли, повернулся обратно, боясь потерять направление мыслей, но вид министра торговли с бутылкой в руках был для него настолько неожиданным и ненормальным, что мысль его потеряла стержень.
Дортмундсену, как человеку тонкой организации, мешал министр торговли Сэйлер, находившийся не на месте… Он пытался успокоить себя тем что немного отвык от дома и некоторые вещи и ощущения забылись за четыре месяца отсутствия, но получалось плохо. Что то было неправильно, и он не понимал, что… Это сбивало его с мысли, и он уже соблюдал не все причинно следственные связи, и, наконец и вовсе замолчал. Сэйлер из угла, подсипшим голосом, какой бывает обычно после долгого молчания, подал голос:
– А как же выборы, демократия, власть народа…
Лорд канцлер, пытаясь увидеть в тёмном углу Сэйлера, гремящего барным стеклом, ещё раз напрягся, и молчание его длилось больше двадцати восьми секунд.
– Да игра, в общем, несложная… Там это делается легко. Находится парень, хотя по половым признакам можно и не упорствовать, женщина тоже подойдёт, амбициозный, но слабый на деньги, или уже подмочивший репутацию, с ним проводится работа: мы тебя выталкиваем на «должность», ты становишься во главе, с тобой считаются, к тебе прислушиваются, прошлое твоё потихоньку забывают, а мы иногда просим тебя подтолкнуть наши интересы. Парень, хватаясь за такое, радостно соглашается, а если ещё при этом предлагается «тридцать сребреников», и вовсе тает (помните, что я вам говорил что такое деньги для них).
– И что? – с нетерпением поторопил Якоба Гласс.
– И всё! – пожал плечами лорд-канцлер, уже давно переместившийся в кресло, и, распустив узел мягкого галстука, задумчиво и лениво галстуком же протирал очки.
– Производится сложная, но уже просчитанная и отрепетированная оперативная работа, где деньгами, где обещаниями, где угрозами, и хоп! – наш человек в их президиуме. Вернее, их человек в нашем… При хорошем раскладе ещё и во главе. Рулит, командует, ставит резолюции, даёт ход делам. А то, что его просили «иногда» подталкивать интересы, так с этого момента и начинается враньё! «Иногда» в данном случае означает «всегда», поскольку человек «на крючке» своим компроматом или страстью к деньгам. Он зависим! За то, что ему пообещали, он заплатит гораздо больше. Сыр в мышеловке отнюдь не бесплатен: мышь за него отдаёт жизнь, а сыра так и не получает. Живая кукла, которая и не совсем понимает, для чего он здесь, упиваясь мыслью, что вот его недооценили, а теперь он может командовать теми, кто его ни во что не ставил; а самое главное – он даже не понимает, что в любом случае в проигрыше: если взбрыкнёт – его компромат отдадут, куда нужно, а там тоже «свои люди», а если вопрос дорогого стоит, могут и автокатастрофу обеспечить. Похоронят с почестями, и некролог будет такой, что на Олимпе обзавидуются.
В курительной повисла тишина, и она почему то давила на министров. Никто, даже Шпигель, не мог найти слова, которые бы порушили это молчание.
За окном ночь, бесцеремонная в этих широтах, уже вытолкнула день, не дав ему даже для приличия соблюсти сумеречный вечер; полумрак курительной начал превращаться в чернильную темноту, такую, таинственность которой всегда нарушается с включением электричества, но существовать в которой человек не привык. Поуп, сидевший ближе всех к выключателям, нажал на кнопки, разбавив тем самым угольный цвет ночи мягким приятным сумраком.
Дортмундсен, наконец, разглядел Сэйлера, и испугался. Глаза Сэйлера, невидящие никого вокруг, прореагировали на включённый свет только сузившимися зрачками. Веки оставались на месте, мозг его был занят чем то другим, и такие мелочи, как сухость глазного яблока, сейчас организм министра не волновали. Невесть откуда появившиеся морщины резко разделили его лицо на части, а электрический свет не сглаживал тени от морщин, а наоборот, усиливал.
Стакан Сэйлер просто держал в одной руке за ненадобностью; в бутылке, которую он держал в другой руке, иногда вливая в себя её содержимое, жидкости оставалось меньше трети. При этом он не выглядел пьяным, глядя на него в эту минуту меньше всего можно было заподозрить его в пристрастии к алкоголю.
– Я был у Майнера… – проговорил он негромко. – Когда он вызывал нас поодиночке и беседовал с каждым….
Сэйлер ещё раз поднёс ко рту бутылку и перевернул её. Маска на его лице не поменялась ни во время глотка, ни после. Переместившись до ближайшего кресла, он сел на его край в позе Роденовского мыслителя.
– Много о чём мы с ним разговаривали… Об экономике, о торговле, о политике, о сельском хозяйстве, – охрипшим голосом продолжал Сэйлер, – … я, помнится, веселился отчего то, и, в общем, плохо помню, о чём был разговор, но почему-то одна фраза запала в память. Карл сказал: «При нынешнем политическом раскладе разницы в партиях я не вижу никакой. А выбирал бы я не того, кто идёт от партии, институт партий себя, в принципе, изжил. Выбирать надо человека, у которого есть совесть, и абсолютно всё равно, в какую партию его записали остальные… те, у кого её нет…»
Во время своего монолога, тихого, внятного, министр умудрился опустошить таки ёмкость. Все молчали, Дортмундсен немного оторопел от контраста внешнего вида Сэйлера, его состояния и произнесённых слов, ни к чему, казалось бы, не относящихся.
– Герберт, какого рожна…? – начал было лорд канцлер, но Сэйлер остановил его пустой бутылкой в вытянутой руке, направив её в сторону Дортмундсена.
Лорд канцлер встал.
– Кто-нибудь, ради Бога, может мне объяснить, что здесь, чёрт возьми, происходит? – резко и жёстко обозначил Дортмундсен. На этот раз все молчали, и даже Шпигель отвёл в сторону взгляд. Лорд канцлер сделал следующую попытку:
– Что, происходит с Сэйлером? Он что, за четыре месяца моего отсутствия сумел приобрести зависимость? О чём я не знаю? Что мне не рассказывают? Куда я вернулся? Домой?
Штиль попытался было из природного стремления к мирному решению вопросов успокоить Дортмундсена, но тот сразу же оборвал его:
– Джонатан, вы не сумеете дать мне спокойствие. Мне нужна информация, а спокойствие я найду сам! Ну, так что здесь такое творится? Начнёт кто-нибудь?!
Штиль, почему то изредка поглядывая на Лэйкера, начал, собираясь с мыслями…
– Ты уехал четыре месяца назад… Сначала мы и не думали, что всё так обернётся…. В дорогу тебе не сообщали, думали, всё и так получится… беды же особой не было….
Сэйлер, хрустнув пробкой невесть откуда взявшейся у него в руках следующей бутылки, заговорил, не обращая особого внимания на Штиля, который, вытерев пот со лба, обрадованно замолчал, как только его избавили от необходимости придумывать слова:
– На следующий день после твоего отъезда слёг Майнер. Мы не стали тебя отвлекать, иначе поездка сорвалась бы; к чему тебе проблемы и нарушения договорённостей, мы и так в напряжённых отношениях с остальным миром. Тем более, никто не предполагал, что болезнь Майнера – это всерьёз. Остров жил по своим законам, и лишнее вмешательство нарушало бы привычный ход. Рудники копали, поставки осуществлялись, работали мастерские, столовые, банки, договора заключались, всё катилось по своим рельсам, мы фактически просто ставили подписи на бумагах, и наш улей жил без нашей помощи. Так бы и продолжалось, если б не болезнь Майнера.
Лорд канцлер по-прежнему стоял, чуть исподлобья разглядывая рассказчика, и ещё не понимая, чем же таким смертельным могла обернуться болезнь Президента, но не перебивал. Сэйлер, не глядя никому в глаза, разговаривал, как могло показаться со стороны, сам собой, уткнувшись взглядом в пол в паре метрах от себя.
– Нашу фармацевтику трудно назвать передовой, на острове есть только один заводик-производитель лекарств, и ассортимент у него, мягко говоря, минимальный. Майнеру нужно было лекарство, которое у нас не производилось. Дорогое, со сложной технологией изготовления – тут выбора не было, пока мы осваивали бы эту технологию и строили бы под неё фармацевтические заводы, прошло бы несколько лет, а рентабельность и курс продаж были бы под вопросом – слишком уж матёрые конкуренты были в мире. Вот тут на нашу беду и подвернулся нам этот концерн «The Health». Вот, собственно, и всё….
Министры не смотрели ни друг на друга, ни на Дортмундсена. Напрасно он пытался разглядеть выражение глаз кого бы то ни было: он даже не смог их увидеть. Кто-то прикрыл их, кто уткнул взгляд в пол, кто-то старательно пытался разглядеть хитросплетение нитей в ткани пиджака, кто то делал вид, что смотрел на Сэйлера, и не замечал взглядов лорд-канцлера; кто то просто смотрел в сторону.
Дортмундсен готов был взорваться. Весь кабинет министров изображал и себя тройку обезьян «ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу», а единственный, кто мог что-то внятно пояснить, замолчал в начале истории. Якоб, пытаясь успокоиться, сел в кресло.
– Продолжай…
– Нечего продолжать…
Этот «The Health», вместо того, чтобы просто продать нам партию этих пилюль, вдруг предложил совместное предприятие. Они ставят у нас завод по изготовлению лекарственных средств, снабжают нас технологией и спецаппаратурой, мы обучаем сотрудников и производим у себя на острове несколько наименований фармпрепаратов. Часть продукции уходит на внутренний рынок, остальные «The Health» помогает нам сбыть по своим каналам, прибыль делится пропорционально вложенным капиталам и работам. Эта идея мне показалась неплохой, и я подписал контракт…
Дортмундсен, ещё не до конца разобравшийся головой, сердцем всё таки понял, что уже надо искать какие то выходы из этой ситуации, и начал предлагать решения и добывать информацию:
– Что сказал Карл по этому поводу?
– Ничего…. Он не в курсе….
– Договор с иностранной державой не подписан Президентом? Он не действителен! Расторгаем и всё!
– Я имею полномочия на подпись таких договоров…. Жизнь у нас текла неторопливо, а документы надо было принимать, поэтому мы подсунули Майнеру приказ об исполнении мной обязанностей Президента, хотя сильно его и не афишировали… он подписал… Может, Майнер и прочитал бы этот чёртов договор как следует, может быть даже и отказался бы от этого совсем, в конце концов, за наше серебро можно было бы договориться с постоянными некрупными поставками, но был не Майнер… Вернее, если бы был Майнер, то ничего этого и не было бы… Но был я.. А потом… потом и началось веселье…
Место строительства договором было не оговорено, и нашли его землемеры (их землемеры) ни вправо ни влево именно в том кантоне, где и находятся рудники. Дальше ты и сам всё рассказал… На остров выплеснулся десант строителей, все как на подбор с обложки мужских журналов. При невыясненных обстоятельствах погиб глава управы кантона Северный Рудник, главного кантона, и на досрочных выборах победил (уж как не знаю, но победил) главный инженер серебряных рудников, человек незаменимый как специалист, но амбициозный и обидчивый. Шесть лет назад он мог занять место Генерального директора, но не добрал двух голосов, и столько и так возмущался, что потерял практически всех друзей. Теперь в том кантоне и где строится фармзавод, и добывают серебро, главный – этот парень. А поскольку выборы – это выборы, а круг общения у этого рудокопа был, мягко говоря, узким, полагаю, что выиграл он не без помощи наших «строителей»…
Строители в свободное время бузят в столовых и кафе, развлекаясь по своему, шумно, но за всё платят исправно, наши не особо их трогают. Конфликты на международном уровне нам не нужны. Зато теперь мелкой злобы там полно. Девушки и женщины от этих «героев» без ума, руководство строителей устраивает для своих показы фильмов, их фильмов, арендуя залы в наших кинотеатрах, а те водят на сеансы наших девушек и женщин. Что за фильмы там крутят, можно только догадываться, но я думаю, отнюдь не научно-популярные. Девушки уходят из домов, бросают своих парней, были случаи, что и женщины уходили из семей; мужчины злы, как разбуженные зимой медведи, им не до работы, падают выработки, соответственно и зарплаты; налоги казна недополучила в этом месяце на 14, 2 %… Мы на грани, Якоб…. Часть острова с рудниками может выйти из под нашего контроля в любой момент. Я не знаю, что делать, а после того, что рассказал ты, понимаю, что это – только начало. Наша идиллия может закончиться сразу и неожиданно.. Нас провоцируют, а мы не можем ничего противопоставить… У нас одна надежда – Майнер. Только он может справиться… Мы – всего лишь его команда, сильная и неглупая, но всё таки пока обезглавленная…
А теперь я даже не уверен и в том, что купленные препараты были совершенно безвредные…. Наши специалисты вывернули наизнанку только первую партию, а следующие проверяли точечно… Я не знаю, что теперь делать! Осталось только молиться.
Лорд-канцлер за время рассказа не раз вставал из кресла и опять ронял себя в него. Министры вокруг сидели, кто поражаясь открывшимся для них мрачным перспективам, кто с фатально скорбным выражением лица, поскольку часть проблем была и у них на слуху, но по роду деятельности особо и не вникали не в свои дела, и полная картина прояснялась многим из них только сейчас. Шпигель сидел, мрачно нахмурившись. Ему докладывали об обстановке в дальнем горном кантоне, но он относился к этому как к необходимому злу, думая, что это явление временное и с отъездом бригад строителей встанет в свою колею. Только сейчас ему стало видно всё, и это «всё» отнюдь не было радостным… Он готов был и рад был задать вопрос, но никак не мог его сформулировать, и поэтому молчал. Глупое «Что делать?» сейчас прозвучало бы издевательски, это понимал даже и Шпигель, а других вопросов не было.
Дортмундсен, до того находившийся в кресле (именно находившийся, поскольку он, напоминая бесскелетную массу, не сидел в нём и даже не лежал, а просто был) встал, снял очки и подошёл к окну. Откуда то незаметно появились облака, запретившие звёздам глядеться в волны моря. Звёзды обиделись и замолчали. И теперь не слышно было волн, не видно было звёзд, в воде не было видно ни облаков, ни их отражений. Из окна на лорд-канцлера смотрела невесть что таившая в себе чернота, становившаяся ещё более непроглядной из за света в комнате…
Откуда то из детства вспомнился какой то хулиганский стишок без начала и конца, прочитанный Якобом ещё мальчишкой на каком то бумажном обрывке и запавший в памяти на долгие годы:
«Вот стою на камне,
Дай-ка брошусь в море!
Что сулит судьба мне?
Радость или горе?
Может озадачит,
Может, не обидит…
Ведь кузнечик скачет,
А куда – не видит…»1
Вот уж действительно – куда скакать?
– Почему мне не сообщили?– не переставая наблюдать за невидимым в темноте морем, произнёс лорд-канцлер.
– В дорогу даже и не пытались… Всё произошло настолько стремительно в нашем неторопливом укладе… А первый удобный случай – сегодня… Не один ты, никто из нас картину полностью не видел. Все масштабы беды углядывал только я, и даже я не всё понимал до сегодняшнего дня…
В комнате опять повисла тишина.
– Ненавижу кошек, – вдруг нарушил молчание лорд-канцлер, продолжая смотреть в черноту. Все удивлённо повернулись к нему. Дортмундсен продолжил:
– Единственная скотина, которая живёт за счёт хозяев, ничего не делает, и при этом считает себя главной в доме…
– Якоб… ты о ком то из нас? – спросил, на удивление, не Шпигель, а Лэйкер.
– Нет, – ответил лорд-канцлер, – Просто, мысль пришла… Итак, кабинет республики в полном составе! Какие будут предложения по исправлению ситуации?
– Якоб, Якоб… – грустно отозвался Сэйлер, – не будет предложений… С точки зрения закона они правы, а с точки зрения совести они не могут быть неправы, потому что её у них нет… И не мне тебе рассказывать, ты только что прочитал нам эту лекцию. И если до неё у меня ещё была надежда хоть на что то, то сейчас только Майнер смог бы…
В дверь постучали и почти сразу же она открылась, впустив молодого человека с испуганными и бегающими глазами, видно, откуда-то торопившегося.
– Пакет для министра Виндсторма! – не очень уверенно произнёс он, оглядываясь вокруг и ожидая, кто же откликнется..
– Новенький? Кто? Когда назначен? – Виндсторм поднялся на допрос, одновременно забирая пакет.
– Нет, я не в штате дворца, – робко, но торопливо, с желанием прояснить ситуацию, затараторил юноша.
– Мой отец – личный врач Президента Майнера, а так как я тоже собираюсь стать врачом, он иногда берёт меня с собой. Правда, Президента Майнера я так и не видел, только издали, на президентские процедуры и обследования отец меня не пускает пока. Вот и сегодня он не пустил меня в покои, только выдал мне эту бумагу, и сказал, чтобы я срочно отнёс её сюда. Расположение комнат я знаю, а в халате я совершенно похож на ассистента, ну почти совсем как настоящий, и ни у кого не вызываю подозрений…
Пока молодой человек, ежесекундно сбиваясь, объяснял своё присутствие, Виндсторм вскрыл пакет и прочёл вложенную в него бумажку с какими-то каракулями. Движением руки он остановил монолог юноши.
– Спасибо… идите…
Будущий врач исчез за дверью, радуясь тому, что он видел живыми весь кабинет министров республики и ничем плохим это для него не кончилось. Лорд-канцлер пообещал напомнить себе разобраться с личным врачом и хорошенько отчитать его за посторонних в Президентском дворце.
– Что там?– спросил Виндсторма Поуп, видя, что тот замер с посланием в руке.
Виндсторм взглянул на часы и произнёс надтреснутым и дрожащим голосом:
– Двадцать минут назад Президент Карл Майнер скончался на семьдесят девятом году жизни… после тяжёлой и продолжительной… – добавил он всем известную подробность, и, передав бумагу Дортмундсену, сел в кресло, отвернулся, наклонив голову, и закачался, как старый индеец у костра, кусая пальцы, сжатые в кулак. Дортмундсен невидящим взглядом заглянул за подробностями в бумагу так, как передал ему её Виндсторм, кверху ногами, но ничего не поняв в перевёрнутых буквах, опустил руку с посланием.
Подробности были не нужны. Сам факт смерти отрицал подробности. Он бросил бумагу на столик перед Сэйлером, направился было к креслу, но передумал, и отвернул к окну. Цвет облачной ночи был сейчас для него предпочтительнее освещённого кабинета с растерянно-вопросительными взглядами, ждущими от него решения. Или хотя бы слова. Даже хоть звука, но в голове у лорд-канцлера было пусто, и только совсем издалека опять рефреном из полузабытого детства застучало по вискам:
«Вот стою на камне,
Дай-ка брошусь в море!…»
Рефрен оборвал Сэйлер:
– Что будет, Якоб?
«Герберт, Герберт… На что ты ещё надеешься? Видно, много ты грешил, что Господь не послушал твоих молитв о здоровье Майнера. Или у Господа были свои планы на его счёт… и на наш тоже…» – подумал Якоб, но вслух сказал другое:
– Надо определиться, кто будет вместо Карла, и ждать их предложений…. Мы не умеем стрелять, да и если начнём, стрелять придётся по своим. Те, в кого действительно надо стрелять, в окопах и на баррикадах сидеть не будут. Они будут грамотно осуществлять поставку оружия. Если кто-то из нас НЕ СОГЛАШАЕТСЯ работать с ними, он рискует в один из дней не проснуться. Или не доехать. Или не дойти… На Майнера ещё не посмели бы тявкать, но мы – не майнеры…
Опять наступила тишина, продлившаяся неприлично долго. Первым подал голос Дортмундсен:
– Господа министры! Предлагаю разойтись.. Завтра у нас…. С завтрашнего дня у нас будет чем заняться… Спокойной ночи!
Облака так и не развеялись до похорон. Погода испортилась совершенно. Дождей не было, но солнце не выходило, и появились ветры, дующие, казалось, отовсюду, причём в большинстве своём всегда в лицо. Небо и море сделались серого цвета, изредка меняя оттенки от светло-серого до серо-синего. На церемонии, в некрополе, устроенном во внутреннем дворе Президентского Дворца, стояло два гроба – Президента Карла Майнера и министра торговли и иностранных дел Герберта Сэйлера. Он пережил Майнера на несколько часов, пустив себе пулю в сердце. По молчаливому согласию в некрологе написали «сердечный приступ», рана для островитян не была видна, врач Президентского Дворца не стал препятствовать, заполняя бумаги. Они так и лежали рядом: измученный болезнью Майнер с лицом чуть просветлённым от облегчения смертью, и тело Сэйлера, три дня назад ещё цветущего мужчины. Выражение его лица, полное скорби и безысходности, паталогоанатом так и не смог загримировать.
Почести были соблюдены, солдаты отмаршировали, флаги третий день были приспущены, пушки отстрелили положенное количество выстрелов, цветы и венки были разложены в строгом соответствии с протоколом похорон. Как оказалось, был и такой в протоколах официальных праздников ***ландии, невесть кем разработанный, принятый и подписанный почти полвека назад. Другого не было, поэтому церемония прошла по тому единственному, который был.
Перед самым окончанием траурной церемонии к Дортмундсену подошёл человек. Выглядел он безукоризненно, но всё равно оставлял неприятное впечатление. Вернее, как раз потому, что выглядел он как манекен, и впечатление от него было неприятным. Дортмундсен по опыту знал: тот, кто действительно что-то стоил в деле, мог позволить себе не следить за тем, как он выглядит, а вот те, кто ничего не из себя не представлял, а только пыжился, в первую очередь подбирали ботинки под пуговицы на пальто, причём, подобрав, искренне полагали, что на этом их основная деятельность закончена, и теперь начинается ничего не значащая бестолковая рутина. Человек заговорил торжественно и самодовольно, пытаясь дать собеседнику самому определить его статус и соблюдать иерархию, так и не соизволив хотя бы для приличия выразить соболезнования:
– Я глава управы кантона Серебряный рудник. Я уполномочен действовать по поручению Совета Директоров концерна «The Health». Наше руководство, – он непроизвольно надавил на слово «наше», – для выяснения дальнейшей политики концерна в ***ландии хотело бы встретиться и обсудить некоторые вопросы, требующие безотлагательного вмешательства. Нам хотелось бы знать, когда и в каком представительстве можно назначить встречу?
Лорд-канцлер, временно исполняющий обязанности Президента, подставил лицо прохладному ветру, порывами наскакивавшему на берег. Всё было предсказуемо, и от того противно. Облака, ветер, этот хлюст, мнящий себя как минимум ферзём в этой игре; раскудахтавшиеся чайки, обычно просто пищащие что то нескладное, а сегодня напоминающие лорд канцлеру куриц, вдруг научившихся летать, и мотающихся на ветру по абсолютно непредсказуемой траектории, всё было неправильное, и какое то ненастоящее. «Как, однако, странно,» – подумал он. – «Странно делать всё необходимое для республики, оставаясь в глазах островитян продажной шкурой. И свои не понимают, и чужим мешаешь… Недолюбливают и те и другие… Ну, что ж, ход сделан! Надо отвечать!»
– В республике траур. Я бы не хотел сейчас заниматься делами, оскверняя этим память о человеке, создавшем мой мир … – произнёс, наконец, Дортмундсен вслух, про себя добавив: «делами, которые этот мир разрушат».
– Пришлите представителя в начале следующего месяца, мы обговорим детали и назначим дату. Надеюсь, вы войдёте в положение и поймёте наши временные трудности.
Человек поклонился и исчез.
Начало следующего месяца.. Дортмундсен снял очки, закрыл глаза и устало провёл ладонью по лицу. Затем вздохнул, и вернул очки на место.
Начало следующего месяца…
Доживай, республика! У тебя остался один месяц…
Часть II
Мартин Дюрбахлер
I
Воскресенье!
Мартин уже знал наизусть, как и что случится в воскресенье. Сначала с самого утра, пока все спят, отец поднимется и что-нибудь сготовит. Каждый раз он придумывал что то новое (отец привёз кучу таких рецептов, когда в далёкой уже молодости ходил на торговом корабле); то поджарит лук, который Мартин, в общем-то не ел, и перемешает с кашей – лук почему-то становится сладким, и так непривычно во рту – вкусно! А то возьмёт да и зажарит огурцы. Свежие, с грядки огурцы! Нарежет колечками, насыплет в сковороду каких-то трав и специй и получается не хуже маминой картошки!
Потом мать останется дома, а отец уйдёт в огород – маленький надельчик земли вокруг дома, в окружении таких же крохотных соседских надельчиков, на котором каждый из соседей умудрялся ещё что—то выращивать. Мартин обязательно помогал отцу, ну, если только мальчишки не убегали к морю и детское бесшабашное «А давайте…!» не увлекало его вместе с друзьями. Отец не отпускал Мартина только когда нужно было сделать что-то масштабное, где отец один не справился бы. Потом – обед. Ну, тут уже отец уступал место у плиты матери, и тоже не зря. Если отцовская стряпня была интересной и неожиданной, то у мамы она всегда была просто вкусной. Постоянно вкусной, вкусной всегда; и такой, к какой Мартин всегда привык. Мартин иногда даже задумывался – вот у всех есть мамы, но сколько ни приходилось ему обедать у друзей – всё равно выходило так, что у его, у Мартина, мамы, получалось вкуснее, и ему немного жаль становилось мальчишек – не мог же он их всех каждый раз водить к себе обедать.
После обеда Мартин убегал к друзьям, и сценарий воскресенья с этого места до вечера всегда был смутен для него: во-первых, он не знал, что ещё придумали на этот день мальчишки, а во-вторых, отец пропадал из поля зрения. Мартин точно знал, что отец что-то делает, потому что иногда он не успевал убрать какие-то отвёртки, паяльники и напильники с гаечными ключами, но что именно, Мартин видел не всегда. А вот вечером… Вечером отец садился в кресло-качалку, которое он сам и сделал, приладив полозья из старой виноградной лозы к обычному креслу, обернув их войлоком, чтобы не так шумели; набивал трубку, доставал оплетённую бутыль со «взрослым лимонадом», как он всегда говорил Мартину, и включал телевизор. Старенький телевизор с дрянной самодельной антенной, в котором, как ни крути ручки, всё равно надо было догадывать картинку, получавшуюся из чёрных и белых точек, суетливо бегающих по экрану. Отец всегда смотрел новости, как он сам объяснял: «А вдруг война началась, а мы и не знаем..», и если новости Мартин ещё нормально выдерживал, то после новостей целых сорок минут шло «Международное обозрение» со всякими непонятными сюжетами и долгими разговорами. Вот тут воспитывалось умение ждать, потому что сидел Мартин под столом не ради новостей и тем более не ради международной обстановки. Слишком много в его детской жизни пока ещё случалось в первый раз, чтобы можно было заинтересовать одиннадцатилетнего мальчишку новостями в телевизоре. Была причина, по которой Мартин всегда мужественно сидел до самого конца, хотя каждая следующая минута тянулась чуть не вдвое дольше предыдущей: после «Международного обозрения» всегда целых двадцать минут показывали мультфильмы! Ради них мальчишка готов был вытерпеть и не такое! Нарисованные ёжики, медвежата, зайцы, мыши и кошки жили там, в телевизоре, своей чудной нарисованной жизнью, и на двадцать минут Мартин забывал обо всём. Даже о своём футбольном мяче, который в прошлом году три раза уже приносили ему с улицы, а на четвёртый он так и остался там. На улице. Вернее, он просто исчез. В общем, Мартин его больше не встречал. Грустил он по нему ровно столько времени, сколько оставалось до вечера следующего воскресенья, когда отец снова набил трубку, достал бутыль и включил телевизор.
1
К. Прутков «Перед морем житейским»