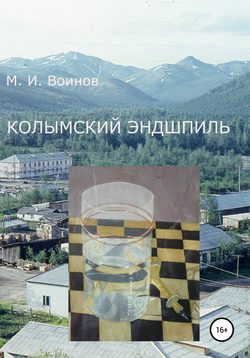Читать книгу Колымский эндшпиль - Михаил Игоревич Воинов - Страница 1
Часть первая (введение)
Вершино-Рыбное
ОглавлениеВ годы расцвета зрелого социализма, тогда, когда приметно уже начинало сдавать здоровье Генерального Секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева, мы с Антоном Никицким учились в одной группе на геологоразведочном факультете Ленинградского Горного института.
В течение первых двух курсов мы друг друга мало замечали. Слегка одутловатое лицо Никицкого напоминало мне расплывчатые лики мужчин роящихся вокруг пивных ларьков. Так же, как у многих из этих людей, и у него под глазами никогда не рассасывались синеватые мешки. Приготовляясь к усилию слова, его пухлые губы имели обыкновение слегка подрагивать, а приветственная улыбка из них делалась, пожалуй что, и охотная, но усталая – и не рассеивала сонного выражения его серых немного выпуклых глаз. Никицкий был на несколько лет старше меня. Он поступил в институт с подготовительного отделения, отслужив до этого в армии и отработав год на металлообрабатывающем заводе. Пытался там – как выражался – вытачивать замки. Таких заводских у нас было шестеро, и все имели сонный вид: как будто не отошли ещё от ночных смен и, может быть, даже от караулов. На утренних лекциях эти старшие нередко впадали в дремоту.
Однажды преподаватель в наказание за это велел Никицкому выйти в коридор и предложил вдогонку:
– Если не знаете, посмотрите в словаре, чем отличается аудитория от дортуара.
Бывшие производственники, подзабывшие школьную программу и поотвыкшие от умственного труда, делились на два рода. Принадлежавшие к первому были намерены выучиться во что бы то ни стало и до позднего вечера разбирались в лекции, которую законспектировали днём. Они сидели на занятиях с полувнимательным-полусонным выражением на лице, а потом задавали преподавателю много вопросов, не заботясь о том, что подумают о быстроте их соображения свежие выпускники школ. Те, что относились ко второму роду, войдя во вкус студенческой вольницы, почти не занимались и продлевали далеко за полночь песни и вино, после чего не на всякой лекции их было видно, а когда было видно, не слышно было от них вопросов.
Никицкого справедливо было отнести к тем, кто занимался мало, однако, из них он оказался единственным, кого к концу второго курса не отчислили из института за неуспеваемость. Каким-то образом, то и дело переписывая двоечные контрольные, пересдавая зачёты и экзамены, всё-таки дотянул Антон до диплома.
Выслушивая студента, экзаменатор зачастую листает его зачётную книжку. Один делает это, по-видимому, машинально, другой опускает в неё целиком нос, для того чтобы проведать, что ему досталась за птица. Так или иначе, если из книжки строем глядят пятёрки, а ответ до «отлично» не дотягивает, преподаватель делается не совсем уверенным в себе и старается подравняться с коллегами с помощью дополнительных вопросов, может быть, не самых сложных. Если же зачётка пестрит тройками, а достоинство ответа колеблется между «удовлетворительно» и «хорошо», то дополнительные вопросы, может быть, не самые лёгкие, позволяют ему присоединиться к коллегам и в этом случае. Таким образом, начавши с троек, Никицкий уже не выбирался из них никогда.
Однажды – это был уже пятый курс – один подполковник военной кафедры, просматривая во время экзамена зачётку Никицкого, возопил:
– Одни тройки! Это ж надо – в целой книжке хоть бы одна четвёрка!
Полковник и минуту, и другую всё качал головой: «Впервые такое встречаю!», – а студенты не подавали виду, что его слышат. И всё-таки каждый из них, мне кажется, подумал то же, что и я: «Хорошо, что в моей зачётке стоят разнообразные отметки». Я взглянул на Антона и подумал ещё, что, наверное, не только военным хитростям для поражения живой силы обучают офицеров в училищах, но и военному простодушию.
Какой предмет ни возьми, Никицкий отвечая на вопрос преподавателя почти всегда мямлил. Должно быть, и это способствовало тому, что на первых порах нашего знакомства Антон не вызывал у меня любопытства. Между тем спустя небольшой срок после начала учёбы, когда студенты друг с другом перезнакомились, я увидел, что он бывает ещё каким весельчаком. Это во время учебных пар он имел вид невыспавшегося пришельца, а в перерывах шутил с кем попало и смеялся свойственным ему особенным образом: сперва как будто сдерживался, а потом, когда смех до отказа заполнял его грудь, не выдерживал и выпускал его с треском, похожим на тот, что лопаясь издаёт детский воздушный шар. Вместе с тем, как ошибочно было принять за чистую монету внешнюю скучность Никицкого, так напрасно было положившись на его весёлую сообщительность надеяться скоро записаться к нему в друзья. Наведываясь изредка в общежитие, где он жил (родом он был с Кольского полуострова), я почти всегда встречал Антона в общительном и смешливом расположении духа и при этом чувствовал, что нахожусь по ту сторону незримо очерченной им вокруг себя среди людей границы. Внутри неё были свои, с ними он был беспечен, с остальными – настороже. Я мог посмеяться шутке, сказанной в компании Никицким, но – не обмануться мыслью, будто стою не последним в ряду тех, для кого он её предназначал.
Наверняка разминулись бы мы с Никицким в жизни так же благополучно и беспечально, как это со многими однокурсниками у меня получилось, если бы однажды перед нами, как священные высоты, не встало Вершино-Рыбное.
Об этом селе мне было предвестие. Как-то, когда мы учились на втором курсе, у нас был субботник на стройке, которая велась во внутреннем дворе института. Мы передавали друг другу по цепочке кирпичи. Антон встал вслед за мной – преднамеренно на таком расстоянии, что я должен был их ему кидать. Он брал кирпич из воздуха, ухарски, делая дугу, переводил его по другую сторону от себя и опять пускал в воздух, так как от следующего в цепи тоже держался подальше. Упражнения эти давались ему легко, видно было, что в запасе у него имеются ещё и сила, и быстрота.
Я томился каждой минутой однообразного труда – однокурсник мой не переставал получать удовольствие от цирковых манёвров. Может быть, тогда я впервые и ощутил одно из различий, существовавших между Антоном и мною: он наслаждался творческим участием в жизни, а я – созерцанием её тщеты.
То ли Антон чуть-чуть отвлёкся, то ли моя рука неправильно пошла – только один из кирпичей ему удалось поймать уже у щиколотки. Антон глянул на меня снизу и улыбнулся – кажется, впервые именно мне. Тот нечаянно уцелевший кирпич – он, наверное, и пошёл закладным камнем под будущую нашу нечаянную деревянную вершино-рыбнинскую избу.
По окончании третьего курса мы попали вместе на практику в Красноярскую геолого-поисковую экспедицию. Я вылетел в Красноярск несколькими днями позже Никицкого. До Вершино-Рыбного, где располагалась база партии, от Красноярска – двести километров на юго-восток, но сначала мы с шофёром по имени Валера, встретившим меня в аэропорту, на автомобиле ГАЗ-66 поехали на север, к Енисейскому кряжу, на реку Сухой Пит. Туда, в один из трёх отрядов партии, надо было доставить палатки, спальные мешки, ящики с консервами и несколько звеньев для вездеходной гусеницы. Мой прилёт пришёлся кстати, для того чтобы Валере не проделывать многовёрстного пути одному.
Если тебя везёт говорливый опытный шофёр, то лучшего везения нельзя и вообразить. Три текучих стихии доставляют тебе тогда равное удовольствие: плавно расступающийся и исчезающий позади пейзаж, мерная незапоминающаяся речь и гладкий, почти бесследный ток твоих собственных мыслей. Изредка лишь взволнует тебя какое-нибудь чудо – вроде девушки на огороде или собаки с калеченой лапой – или заставит тебя обернуться в сторону шофёра какой-нибудь уловленный в его речи смысл, – и продолжит стелиться тебе навстречу неизведанная земля со своим в доску названием Сибирь.
Вечером полнотелый, со слегка наклонённым вниз кончиком носа Валера остановил машину возле одного из редких придорожных магазинов.
– Пойду бормотухи на ужин возьму. Будешь?
– Нет, я не пью.
– Да ладно, возьму. Стакан выпьешь – остальное без спросу пролетит.
Валера вернулся с двумя полулитровыми бутылками портвейна. Вечером, когда стемнело, он свёл машину с дороги и сделал остановку на целине. Мы запивали коричневым жгучим вином чёрный хлеб, сыр и консервированную сайру, и спутник мой повествовал о том, как сперва не хотели посылать его в поле, но ему позарез нужны были деньги и он стал хлопотать и добился-таки решения в свою пользу.
«Какие такие деньги?» – думал я при этом.
Чтобы не пропало добро, я выпил больше половины своей бутылки, а Валера с тою же целью допил за мной остальное. Потом он стал устраивать себе ночлег в кабине, а я отправился из неё в кузов, но не через землю, а поверху, через открытую переднюю стенку тента. Протискиваясь этим укороченным путём, я оцарапал живот о железную штангу, которой крепилось запасное колесо, и болью удлинил себе ночь. И всё-то завораживали мою бессонницу свободно вплывающие через распахнутую заднюю стенку кузова енисейские звёзды.
Чем свет – над травой шли холодные туманы – Валера разбудил меня ехать и предложил переместиться в кабину. Он был свеж – словно затем и покупал вино, – и, для того чтобы с ним подровняться, я решил ещё часа два подремать на ходу. Столько, однако, я не продержался. Мне не понравилось, что мои ноги вдруг начали вместе с грузом то и дело взлетать к потолку. Это машина свернула с трассы и пролезала теперь по ухабистой дороге. Несколько часов подряд шофёру приходилось усиленно высматривать, куда лучше направить колёса, чтобы не угодить в яму или не завязнуть в слякотном месте. Я мог наблюдать, как от этого, беспрестанно туда-сюда закручивая руль, удерживая его с силой на колдобинах, Валера постепенно устаёт. Всё менее резво перебирались по баранке его мощные руки, полное лицо осунулось и посерело, завитки чёлки отяжелели от пота, и затяжную пристальность приобрёл взгляд.
Посредине пути пришлось устать и мне тоже. ГАЗ-66 имеет два ведущих моста. Несмотря на это, машина наша несколько раз застревала в скользкой грязи. Мы тогда собирали камни, рубили ветки и накидывали всё это в колеи. Я толкал сзади, Валера включал мощь, и машина мало-помалу выбиралась на сухое. Случалось, однако, что нам никак не удавалось её раскачать. Я начинал уже думать над тем, как нам преодолеть пешком восемьдесят километров до базы, но выходил из кабины нимало не впечатлённый буксованием Валера, ещё немного, присев на корточки, думал над тем, как преодолеть восемьдесят сантиметров до края размазни, что-то под колесом улучшал – и в конце концов машина выползала на твёрдый грунт.
По приезде на базу, когда Валера ступил из кабины на землю, колено его дрогнуло.
Мы сидели в обществе нескольких человек у костра, и перед нами, переливаясь на солнце, ровно нёсся Сухой Пит. Ширина его была метров сто. Как раз готовилась переправа через него вездехода. С тем чтобы вездеход не снесло вниз на скалы, задумано было сопровождение его моторной лодкой, которая, идя выше по течению, придерживала бы его на тросу. Лодочник, лет сорока с лишним, краснолицый и длинноносый, был непоседой и не жалея слов расписывал, как будет делаться дело. Молодой худенький вездеходчик, наоборот, помалкивал. Наконец они сели в свои машины и, звучно надсаживая двигатели, поплыли. Я поглядел на одного, на другого – и вдруг их разные лица сделались почти одинаковыми. Сжатые губы, усильное устремление взоров навстречу друг другу… Казалось, оборвись сейчас трос, выключись моторы – вездеход всё равно удержится на смычке этих воль. Когда он достиг того берега, ещё в отдалении от грозящих мест, мне почудилось, что я понимаю, как была выиграна Советским Союзом Великая Отечественная война против германского фашизма.
Когда мужчины вернулись на лодке обратно, лодочник стал оживлённо рассказывать, как делалось дело, вездеходчик молча покуривал – и, сидящие у костра, они теперь ничуть не казались мне похожими друг на друга, а на солдат – казались и ещё как.
На следующий день мы с Валерой поехали назад. Когда машина вывернула из тайги на трассу, он выглядел осчастливленным, стал даже напевать. Разговаривал он теперь со мной по-свойски, и мне казалось, что совместное, не без трудностей, путешествие установило между нами душевную связь навсегда. Мне казалось естественным, что всегда с этих пор мы будем друг другу чуточку более рады, чем большинству других людей, что всегда будет у нас друг к другу интерес. Однако в дальнейшем ничего этого в Валере не обнаружилось. Он был ко мне доброжелателен и не ощущал во мне нужды. Случалось, он вопрошал меня прилюдно: «Сева, ты помнишь дорогу на Сухой Пит?», – и я свидетельствовал его заслуги – вот и всё. Ведя по дороге автомобиль, он смотрел и вперёд, сквозь лобовое стекло, и назад, через зеркало заднего вида, а продвигаясь жизненным путём – почему-то только вперёд.
В Вершино-Рыбное, где нам предстояло провести несколько дней до отъезда в сопки, мы попали под вечер. Погода была сырая. Большие и маленькие ямы, из которых по преимуществу состояли широкие улицы села, лоснились от заполнявшей их чёрной слякоти. Идя к месту постоя, я напугался, когда в одной из ям она вдруг встала горбом и исторгла изнутри себя полурык-полувизг, в котором я не сразу хрюканье распознал. Так я получил сведения о том, где проводят свободное время местные свиньи, и впредь стал заблаговременно высматривать в лужах их уши и пятачки.
Пройдя двором, представлявшим собою сбор косящихся построек из ветхой, серой и шершавой, древесины, я вошёл в избу. Сидевший за столом в горнице Никицкий повернул лицо в мою сторону и вдруг вскочил, широко заулыбался и только что не принялся меня лобызать. Впервые я ощутил, что радушие его обращено непосредственно на меня. Оно было, безусловно, следствием обстоятельств, сведших нас на чужбине, и не стоило придавать ему много значения, но отчего-то я сейчас же и чувствуя, что не ошибаюсь, придал ему значение самое полное.
Я осмотрелся: на стенах, на старых обоях, висели кое-где фотографии и произведения искусства: вышитые по канве картинки. В одной из них – на ней изображена была кудрявая ребячья головка – Никицкому увиделся ангелок, а мне – маленький Ульянов.
Антон рассмеялся:
– Будем считать, что между нами религиозные расхождения.
– Сейчас уже темновато, – говорил он, – а утром увидишь, что поблизости нет ни одной ни вершины, ни речки, где можно было бы рыбу изловить.
– И озера?
– И озера.
– И болота тоже?
– И болота нет.
– А может, всё-таки какое-нибудь болотце было да высохло?
– А вершина куда делась?..
Между прочим Антон указал мне на двухлитровую банку, стоящую на столе,
– Ты попробуй, каким молоком нас потчует тётя Маруся! От сестры приносит. Из-под коровы.
– Кто такая тётя Маруся?
– Хозяйка. Ей платят за то, что мы у неё квартируем, а она пока у сестры, тут недалеко, живёт. Душа-человек. Видишь: уже постель тебе заранее постелила.
Антон налил мне молока в стакан, я отпил и не мог потом напиться.
– Гляди, пронесёт, а удобства – на улице.
Когда я стал мазать зелёнкой царапину на животе, он заметил:
– Хорошо, что вскользь прошло. Я вот однажды ребром на железный штырь прямиком наскочил.
Для того чтобы находить дорогу во дворе, приходилось применять яркость луны и звёзд, и их довольно было также для того, чтобы различить не очень далёкие сопки предгорий Восточного Саяна – а нам было туда.
Поутру, через сон, я долго слышал в избе какую-то жизнь: дыхание, шаги и постукивание кухонной утвари. Потом я увидел ясноглазую тётю Марусю в красной шерстяной кофте и длинной, почти до пят, тёмно-коричневой юбке. Это была худая сутулая женщина с седыми волосами под чёрной косынкой и с множеством морщинок и голубых прожилок на лице.
– Ребятки, – говорила она трескучим голосом, – я вам покушать принесла: кашки, яичек, молочка…
– Какая ж кашка у Вас, тёть Марусь? – потягиваясь, спрашивал Антон.
– Да греча. С молочком любите?
– И без молочка-то любим, а с молочком-то ещё лучше. Спасибо, тёть Марусь, золотце.
– Сестра спрашивала: не поколете у неё на дворе чурки? Она вам заплатит.
– Много там чурок?
– Да не – на двух-то…
Антон взглянул на меня – я пожал плечами.
– Колуны есть?
– Есть.
– И рукавицы?
– Есть, есть. И покушать вам даст.
– Ну что ж – пусть тогда ждёт. Вечером придём. А рассудите нас, тётя Маруся, по поводу этой вышивки: ангелок это или малышка Ленин?
– Не знаю, о какой ещё разнице хлопочете. Детки – один к одному все ангелы, – ответила Маруся, не задумавшись ничуть.
На пути в избу-камералку, Антон высказал мнение, что главный геолог партии попался нам несколько бестолковый.
– Чем бестолковый? – спросил я.
– Увидишь сам.
– Что же – нам тут будет плохо?
– Может быть, и нет. Знаешь почему? Начальник отряда хорош.
– Чем же он хорош? Сам увижу?
Антон улыбнулся.
– Что бы ты предпочёл: иметь хорошего начальника партии и плохого начальника отряда или наоборот?
– А обоих хороших нельзя?
– Да где же ты их столько наберёшь?
– Тогда… Наверно, хорошего начальника отряда.
– Я – тоже. Прямой начальник важней. Если что, вместе вы с верховным как-нибудь сладите. А верховный, если у тебя с непосредственным – конфликт, помочь не сможет. Бесполезно доказывать, что начальник не прав. Он всегда отбрешется, а тебе потом небо с овчинку устроит.
Я между тем думал: «Какие ещё такие начальники?»
Мы уже всходили на крыльцо камералки, когда Антон сообщил:
– Здесь две студентки из Москвы. Завтра уезжают в другой отряд.
Главному геологу партии Андрею Петровичу Красилову на вид было лет пятьдесят. Он был невысок, худощав, в облике его я увидел нечто журавлиное: должно быть, от длинноватой, чуть-чуть наклонённой вперёд шеи и от осенней печали, пригрезившейся мне в его тёмных больших очах.
Тихим голосом он поручил нам и студенткам разобрать по отрядам, согласно списку, и упаковать палатки, рабочую одежду и обувь. Девушки с воодушевлением заправляли в этой работе: «Баул – сюда, суму – туда, а сколько накомарников в той пачке?». Мы закончили в три часа пополудни, но, вместо того чтобы отпустить студентов на свободу, Андрей Петрович мягко попросил нас с Антоном переписать какие-то страницы из застарелых полевых книжек – в новые, а девушек – свести на кальку какие-то карты.
– Ну что, Акакий Акакиевич, уразумел? – насмешливо спросил меня Никицкий. – Выдумывает для нас работу.
– Тебе не всё равно, что делать?
– По большому счёту – да, но больно уж в армии такие командиры надоели. До него не доходит, что мы с палатками могли бы, если б захотели, и два дня проковыряться. Сидеть тут до пяти. А у нас дрова ещё.
Мы расположились в одной из комнат камералки впятером: Антон, я, студентки Света и Вика и молодая специалистка по имени Наташа. В то время как пальцы мои вместе с карандашом гуляли послевоенными маршрутами и гуляли в пределах моего слуха посторонние разговоры, в моём мозгу оттискивались названия здешних пород и бегло набрасывались образы девушек.
У Светланы были золотистого цвета прямые длинные волосы, прямой неострый нос и серые глаза. Из троих она была наименее смешлива: возможно – думал я, – оттого, что ей не нравится показывать золотой блеск коронки среди верхних зубов. Однако я не раз примечал улыбку её тонких губ именно тогда, когда сказано было что-то, что представилось забавным и мне – а Вику, несколько полноватую, с большими глазами и русыми волосами, как волна, казалось, забавляло всё на свете.
С низенькой курносенькой, в веснушках, Натальей мы с Антоном должны были работать в одном отряде. Волосы её – такого же бледно-коричневого цвета, как и веснушки – были чуть жидковатые, коротко стриженные. Чёлка прямыми прядями колебалась туда-сюда при движениях её головы. Наталья легко откликалась на шутки и иногда, по-видимому, в ожидании чьего-нибудь неожиданного ответа, прикусывала нижнюю губу.
В четверть пятого Андрей Петрович объявил нам, что рабочий день окончен. Мы вышли из камералки все вместе, но скоро разделились. Никицкий и я завернули во двор, где виднелась груда чурок, отнюдь не маленькая, а остальные направились к избам, которые отвели им под ночлег.
Возле чурок, иные из которых окружностью были почти в обхват, поставлены были такой же ясноглазой, как тётя Маруся, её сестрой колуны и положены были рукавицы. Мы поели варёной картошки с простоквашей и взялись за работу.
Несмотря на то, что, на мой взгляд, Никицкий был более ловок, чем я, с большими чурками я справлялся быстрее. По каждой из них, для того чтобы развалить её надвое, надо было нанести много ударов, а он был менее, чем я, вынослив, скоро терял дыхание и заказывал перекур. Антон курил, а я смотрел на него и недоумевал, как дым может помочь ему отдышаться.
Поглядывая за забор, я отмечал редкость проходящего по улице населения. Тот, кто проходил, держал лицо обращённым в нашу сторону до тех пор, пока ему позволяли это шейные позвонки. Престарелый пастух в шляпе и стёганой телогрейке, из которой лезла вата, провёл разводя его по дворам стадо коров. Одна остановилась против нас и мычала, покуда хозяйка не водворила её в хлев. Так мы узнали точно, откуда берётся тут молоко.
Протрудившись полчаса, мы вдруг услышали из-за наших спин хрипловатый голос:
– Я тоже хочу попробовать!
Это оказалась Светлана.
– Попробуй, дочка, – сказала хозяйка и подала ей топор. – И хорошо: тоненьких мне наделаешь – растапливать. Только не утомись: поколи немножко – и будет.
Я поглядывал на Светлану: видно было, что, хотя топор она раньше держала в руках, сноровка её всё же была далеко не мужская. Иногда Светлана садилась на лавочку и наблюдала, как мы с Антоном работаем. Тогда мне казалось, что он запрашивает перекуры реже обычного, а мне они как будто не надобились вообще.
Светлана сидела, молчала, и, хотя я уже сознавал, что попадаю в поле её зрения только попутным образом, всё равно сладостно было под её взглядом пронести по желтоватому от вечернего солнышка и прохладному воздуху маленький разрушающий кусок железа, а затем услышать гром разрушающегося огромного кругляка.
Когда мы закончили, хозяйка дала Никицкому десять рублей.
Он посмотрел на часы и сказал:
– Магазин ещё не закрылся. Света, мы сейчас с Севой купим кое-чего и зайдём за вами. Надо же для вас отвальную сделать.
– Хлеба не забудьте, – ответила Светлана.
– В магазине тут есть две превосходные вещи, – осведомлял меня Антон дорогой, – «Чайная» наливка и шоколад «Пикантный». Ты увидишь, как это хорошо: вечером, у огня, пить чайную наливку и закусывать пикантным шоколадом.
В магазине мы купили три полулитровые бутылки наливки тёмно-коричневого цвета, три плитки шоколада, чай и сахар. Хлеба, который оказался здесь серым – душистым и мягким, – мы тоже не забыли.
Рядом с маленьким домиком продовольственного магазина стоял ещё маленький домик магазина «Книги».
– Зайдём на минутку? – предложил я.
Едва мы огляделись внутри, как Антон вскричал:
– Смотри! Пикуль! «Моонзунд». Вот будет здорово, если написано так же, как «Пером и шпагой»! В таком захолустье и ищи литературу!
Он взял две книги «Моонзунда» и спросил:
– Читал ты Пикуля?
Я ответил: «Нет» – и подумал, что неплохо бы и мне ознакомиться с сочинениями этого писателя, но, может быть, из-за того что мой одноклассник Митя Быстрин Пикуля никогда не упоминал и не поставил его своей рукой на мою воображаемую полку, совсем не ощутил в себе для этого охоты.
Мы зашли к себе, где Антон оставил книги и взял гитару, а затем – к девушкам.
Уже в сумерках, насобирав под луной и звёздами сучьев, мы разожгли костёр на пригорке рядышком с селом. Столом нам послужила глыба, состав которой по недостатку света невозможно было определить. Среди крупных изломов её поверхности ёмкость с жидкостью надо было устанавливать осторожно.
Антон завернул рукава курточки до середины предплечья и взялся за гитару. Он играл и пел, Светлана с Натальей ему подпевали. Вика и я только слушали. К концу дня она, должно быть, устала быть хохотушкой. Мы с нею сидели друг против друга, через костёр, и как будто дрожали и изгибались друг вокруг друга в горячих всходах воздуха наши взгляды.
Чайная наливка чем-то походила на сладкий крепкий чай – только обжигала горло в другом роде и возбуждала по-другому и вкус меняла иначе, когда встречалась с шоколадом на зубах.
– Вот чем на всю жизнь запомнится Вершино-Рыбное, – проговорила Светлана.
– Да, – отозвался Антон, – на склоне лет нальёшь себе «Чайной», откусишь «Пикантного» – и будто опять молодой, у костра…
«Ну, перестань, не надо про Париж», – пел Антон, и я знал, что Юрий Кукин придумывал эту песню в таких же кудыкиных горах, что и чернеющие там вдалеке, и что скоро и нам придётся насладиться тоской по дому. «Первым к Вам войдёт отчаянье», – пел Антон, и я чувствовал, что и ко мне, в очередь после Кукина, оно когда-нибудь придёт и я не буду знать, куда мне с ним деваться. «Мне твердят, что скоро ты любовь найдёшь», – пел Антон, и, глядя, как струящимся жаром неизменно отклоняются от моего взгляда глаза подруги, я думал о том, что эта песня была придумана Визбором в утешение таким, как я. В репертуаре моего смешливого однокурсника не было ни одной шутливой песни, и почему-то это меня не удивляло.
Стоило заколебаться струнам, Светлана делалась грустна и подолгу не сводила глаз с огня, шевеля угли хворостиной. На нас с Антоном она мало глядела, но – как-то похоже на её наблюдение за нами во время колотьбы дров – я чувствовал, что это предназначено ему, а на меня она не смотрит заодно. Когда же Антон оставлял гитару, Светлана оживлялась и становилась разговорчивой. Она была при чайнике и предупредительно наполняла наши кружки. Это натолкнуло меня на одну остроту, которую я осмелился высказать не сразу.
Нечаянно выяснилось, что муж Светланы – мой земляк, с Колымы, из Сусумана, и что они с ним намерены по окончании геологоразведочного института ехать на работу в Магаданскую область.
– Как там у вас: жить можно? – спросила меня Светлана.
– Можно?! – воскликнул я и стал рассказывать о несчитанных диких сопках, о хрустящих снежниках, о льющихся в глыбах холодных ключах, о звенящих речках с хариусами, об удирающих медведях, о жимолости и бруснике, о прибрежных скалах Охотского моря и об оканчивающейся небом главной улице города Магадана.
Когда я окончил, Антон предложил:
– Тогда давайте выпьем за встречу на Колыме.
– Я буду вас там ждать, – засмеялась Светлана.
Теперь она смеялась всласть, словно потёмки разрешали ей не заботиться о проблеске в зубах.
Когда она стала наливать чай в протянутую кем-то кружку, я сказал:
– Света, знаешь, ты кто? Чайная наливка!
Все засмеялись, а Светлана – пуще всех и ответила:
– Ты мне льстишь. Я не так хороша.
До тех пор я не видел, чтобы она курила, а тут взяла сигарету:
– Я сама не знаю, курю я или нет.
Огоньку Светлана достала от горящего сучка; видно было, что она этак прикуривывала – но всё-таки ухватки её были не безбоязненные мужские.
Я продолжил:
– Только учтите, на свете есть три города на букву «М»: Москва-матушка, Одесса-мама и Магадан-мать твою…!
Наталья сказала:
– Значит, между нами есть общее! Я ж с Одессы – не сойти мне с этого Красноярского краю! Но всё-таки уж лучше ты к нам.
– Ты из Одессы? Тогда скажи, пожалуйста, что у вас там есть такого, что она так знаменита?
– Этого не объяснишь. Вот ты про Магадан рассказал – я как будто там побывала, а про Одессу рассказывать бесполезно. Хочешь что-нибудь узнать – приезжай в неё сам. Сядь в трамвай, спроси у кондукторши, где тебе слезать, чтобы попасть на Дерибасовскую улицу. И послушай, как она тебе на весь вагон гаркнет: «Поглядите на этого идиота! Он не знает, где Дерибасовская!»
– Да, это неплохо. А сюда ты зачем приехала?
– Должна же я была найти своего Васю!
– Он кто?
– Шофёр с синими глазами.
Светлана заказывала песню за песней. Особенно нравилась ей одна: в которой были слова «Почему черёмуха, почему бела? Почему вчера ещё ты со мной была?» Несколько раз по Светланиной просьбе Никицкий всё с одинаковой страстью повторял это сочинение. Где-то в полночь Антон сказал: «Ещё одну – и уходим?», – но Светлана отрицательно замотала головой. Спустя четверть часа он опять предложил заканчивать и встретил со стороны Светланы ту же неохоту. Только после его третьего воззвания Светлана промолвила: «Черёмуху – и пошли».
Мы затоптали костёр, восшипели залитые оставшимся чаем уголья, и настала тишина – и тишина эта продолжала петь для меня: «Почему вдоль бережка вдаль плывёт венок, что сплетала девушка в прошлый вечерок?» Я не видел в этих куплетах большого смысла и думал при этом: «Они будто обещают что-то чудесное впереди – может быть, в этом и есть их смысл».
После того как девушки свернули в свою калитку и мы с Антоном остались одни, он осведомился:
– Ты хоть немного знаешь женщин?
– Вряд ли. Не осмелился бы так сказать, – ответил я.
– Тогда запомни: с любой из них надо быть предельно осторожным. Какой бы сказкой она тебе ни казалась. Она может показаться тебе роднее родной мамы – а ты всё равно заставь себя очнуться. Как мог бы сказать Владимир Ильич: «Расслабление смерти подобно». А может, он так и говорил пожив с Надеждой Константиновной – почём мы знаем?
– Это ты случайно не про Свету?
– Раз про всех – значит, и про неё. Почему ты спрашиваешь?
– Ты ей понравился.
– Тебе так показалось?
– Да ладно уж «показалось»!
– Возможно, и так.
– Ну и ты – ничего?..
– Она интересная.
– По-моему, за весь вечер не сказала ни одного лишнего слова.
– И этим много тебе сказала?.. Не хочется делать жизнь сложной. Никому это не надо.
– Интересно бы узнать её мнение на этот счёт.
– Думаю, такое же.
Когда мы улеглись, Антон заговорил:
– Это сейчас я стараюсь рассуждать, а до армии был!.. Охламон – куда несло, туда и нёсся! Через год после того как школу кончил, поехал в пионерлагерь вожатым. В соседнем отряде там была старшеклассница, которая очень мальчиков любила. Ничего с ней поделать не могли. Ну, и решили, пока она весь лагерь не развратила, отправить её домой. До посёлка, где она жила, надо было самолётом АН-2 добираться. Мне поручили её сопровождать до трапа. Начальник лагеря велел, чтобы я её воспитывал по пути. Приехали в аэропорт, а погоды нет, рейс отложен. Поселились в гостинице, в соседних номерах – ну и сам понимаешь, как я её воспитывал… А однажды в Мурманске после драки на танцах за мной погналась милиция, а я от неё на башенный кран взобрался. Там в потёмках и наткнулся грудью на железяку так, что потом в больницу попал. Но всё это было до службы. Попал я в учебку1, на специальность «сапёр». Ни одной свободной минуты. По территории продвигаться – только бегом. Сержанты – псы: что не так – наряд или «губа». Хочется всегда одного: спать. Был у нас один сержант: сидим в классе, он лапу положил на голову Ленину – там гипсовый бюст стоял – и говорит: «Попал бы ты ко мне – я бы тебе живо матку вывернул!» Вряд ли кто из нас сомневался, что так бы оно и произошло. Сидишь, бывало, на торчке – единственное более или менее спокойное место, – глядишь на ремень и думаешь: выйдешь ты из учебки живым или нет? В войсках потом уже легче было. Тем более после дембиля: всё трын-трава. Но всё равно со временем чего-то серьёзного захотелось. Нацелился на институт и через подготовительное отделение всё-таки в него попал. Ты, наверно, думаешь: «Чего ж ты тогда, как раздолбай, учился?». Наверно, таким и был. Хотел учиться, но – меньше, чем гулять. Но теперь – всё. Теперь я знаю, что институт закончу. Конечно, если непредвиденных сложностей не возникнет.
Я возражал:
– По-моему, у тебя для своей несерьёзности слишком простое объяснение. Несерьёзное.
– У тебя есть лучше?
– Не знаю, лучше ли, но, мне кажется, ничего не бывает просто так. Раз у тебя не получалось учиться, значит, и не могло получиться.
– Мне это нравится: может, я и не грешник совсем?
– Может, к первому курсу твоя нервная система не отдохнула от армии и от завода – вот и не хватало у тебя сил.
– Нет уж! – восклицал Антон. – Если в твоих словах и есть правда, то не для меня. Если я с ними соглашусь, она исчезнет.
Потом я сказал:
– Вот что я замечал: обычно, когда мужчины говорят, что знают женщин, то имеют в виду, что-то не очень лестное для них. И вид у них всегда такой, как будто они высказывают жестокую правду.
Антон довольно долго думал над ответом и проговорил:
– Надо осторожно выбрать одну, а потом уже с ней не быть осторожным.
Поутру сквозь дрёму я снова слушал в горнице жизнь, стукотню, а потом оказалось, что вставать – тепло. Тётя Маруся затопила для нас печку, оставила ещё не остывшего после дойки молока и ушла.
– Чистое золото, – опять отозвался о ней Антон.
Погода поменялась. Задул холодный ветер, по небу вразнобой бежали серые и сизые облака. Мы с Антоном помогали загружать ЗИЛ-157, на котором уезжали в свой отряд Светлана с Викой. Я взглянул на шофёра: глаза его синими не были.
Несколько человек отъезжающих забрались под тент кузова, разлеглись, накрывшись телогрейками, на мягких вещах, и машина покатилась.
– До осени! – проговорил Антон, и, пока оставался виден для нас грузовик, видны были нам и подруги, беспрерывно машущие руками.
В тот день главный геолог поручил нам прополаскивать от глины и песка ранее побывавшие в деле мешочки для геохимических2 проб. В ручье поблизости от камералки, выбранном для этой работы, была очень холодная вода.
– Может, подождать, когда день будет потеплее? – предложил Никицкий.
– Некогда ждать. Через два дня отбываем. А вы приходите греться.
Мешочкам счёт вёлся на тысячи. Размером с ладонь, они бывали сшиты из лоскутов бязи, сатина, батиста и имели неисчислимые разновидности окраски, так что, запуская руку во вьючную суму, где они были сложены ворохом, ты никогда не знал, какое выйдет оттуда следующее произведение искусства.
Может быть, полторы сотни мешочков оказались вымыты к тому времени, как я сказал:
– Вот она – геология.
– Тебе не нравится?
– Наоборот – чем дальше, тем больше удовольствия получаю. Точно: чувствую себя, как Акакий Акакиевич, только вместо букв – мешочки. Ничего другого и не хочется. Так бы один за другим выворачивал да полоскал весь день, всё лето. А может, и всю жизнь.
– Это ты ещё в армии не был.
Наверное, каждые двадцать минут мы приходили в камералку греть над электрической плиткой свои красные и опухшие руки. До конца дня нами оказалась постиранной приблизительно половина мешочков. Мы густо развешали их на лохматых верёвках, которые нашли натянутыми во дворе камералки. Мешочки то подсыхали на ветерке, то снова промачивались дождём, так что неясно было, чья возьмёт к завтрашнему дню.
По дороге домой Антон сказал:
– Знаешь, какая у тёти Маруси судьба? Муж вернулся с фронта раненый, пожил чуть-чуть и умер. Одна дочь утонула молодая, другая – умерла от энцефалита. Может, одна на миллион – и как раз она. А разве скажешь по Марусе? Вот где дух. Вообще, пожилые женщины лучше молодых.
– То есть как?
– Молодые – не такие добрые. Для того чтобы быть добрыми, им нужно любить. Или иметь расчёт. Никогда не знаешь, где у них кончается чувство и начинается расчёт.
Дома мы застали тётю Марусю. На ней была теперь зелёная вязаная кофта.
– Какие у Вас кофты! – заметил Антон.
– А как же! Ребят молодых жду! Когда вы уезжаете?
– Говорят, послезавтра.
– Помогите старой: столб на заборе прогнил совсем, а новый поставить некому.
– А столб-то есть?
– Бревно у сестры на дворе. Надо отпилить и принести.
Мы попили молока с хлебом, осмотрели никудышный столб, в сестрином дворе распилили бревно и принесли отрез к Марусе.
Пока Никицкий, сидя на нём, закуривал, я сказал:
– Между прочим, не думаю, что вчерашние дрова меньше, чем за двадцать рублей кто-нибудь взялся бы поколоть.
– Возможно.
– И за столбик бы прилично взяли. Наверно, и у Маруси есть расчёты.
– Наверно. Ты хочешь сказать, что женщины всегда остаются молодыми? Но помочь-то надо… Она рассчитывает, что мы ей поможем. В этом её расчёт.
С земляной и плотницкой работой мы провозились до позднего вечера.
– Ну вот, – заключил Антон, когда мы улеглись. – Теперь этот столб будет помогать тёте Марусе жить.
На следующее утро Андрей Петрович велел нам с Никицким осмотреть жестяные печки и подобрать к ним трубы, а также насадить или расклинить молотки и топоры.
– Мы же ещё не домыли мешочки, – возразил Антон.
– Не беспокойтесь: ручьёв будет достаточно и на месте.
Мы прилаживали друг к другу холодные трубы, и от ветра они пели в наших руках, как волшебные дудки. Стоило открыть дверцу печки, как и в печку водворялся протяжный органный звук. Может быть, – думалось мне, – как раз эту музыку – холодов и расставаний – и переложил на гитару Кукин?
Под вечер, точно завершая военно-морской праздник, мы поснимали с канатов трепыхающиеся мешочки, чьи завязки напоминали ленточки от бескозырки, и двор продолжил плескаться на ветру лишь здешней хозяйки наволочками, пододеяльниками и простынями.
Когда полевой скарб был полностью приготовлен, начальник нашего отряда, Леонид, позвал меня и Антона:
– Пойдёмте, оцените общую обстановку.
Леониду было лет тридцать с небольшим. Мягкие светлые волосы его и такие же усы, довольно длинные, имели сероватый оттенок, из-за чего, возможно, с близкого расстояния он казался мне моложавым стариком. Между тем шагов со ста благодаря стройности и ловкости движений, которые его отличали, я мог принять его за хлопца юнее меня.
На камеральном столе Леонид разложил перед нами супрематического вида геологическую карту и негромким голосом стал прояснять для нас геологическое строение района. Свиты3 осадочных пород носили местные названия и чуждой для моего слуха и непролазной для моего воображения совокупностью звуков – вроде «ягкх» – отвлекали меня от естества дела.
Никицкий между тем о чём-то иногда Леонида спрашивал, и всякий раз я сознавал, что точно в этом месте нужны пояснения, чтобы не повредилась логика рассказа. Всякий раз я говорил себе: следующий такой вопрос задам я, но так ни одного и не придумал.
Изредка в горницу вторгался начальник партии Григорий Николаевич Найцев, трескучим голосом обсуждавший с людьми вопросы. Постепенно я разобрался в распределении партийных полномочий. Собственно геологическая часть работы была в ведении главного геолога. Начальник отряда отвечал за всё, что касалось устройства полевой жизни. Снабжением и сношением с другими организациями занимался начальник партии. Это был крупный с крупными чертами лица мужчина лет шестидесяти пяти. В седине его всегда разлохмаченных волос кое-где просматривалась рыжина. Он всегда был готов похохотать – и не думая прикрывать заполненный железными зубами рот.
Под конец нашего урока Найцев возгласил:
– Всё это хорошо – а гитара есть у вас?
– Есть.
– Молодцы! Умеете практику проходить.
Позже мы узнали, причём тут гитара. Приезжая по надобности в наш отряд, Найцев не упускал случая пустить в ход этот инструмент для тех, кто подтянулся к костру – а часто находился и повод для того, чтобы из глубины чьего-то рюкзака вышла на пламя, как просвечивающее насквозь исполинское насекомое, бутылка водки или вина. Григорий Николаевич любил песни о пиратах и, когда пел: «Святая Дева, Южный Крест! Святая Дева, Южный Крест! Святая Дева, Южный Крест и звонкие пиастры!», – я думал: так он же и есть пират! Старый пират! Сидел бы себе дома, в халате, у очага, да потягивал излюбленный ром – так нет же: пристало ему трястись часами по тундрам на вездеходах, таскать грузы, мёрзнуть в палатках, честить комаров, есть гречневую кашу с дымом и нервничать попав на неделового председателя поселкового Совета! Впрочем, Найцев, как никто другой – с помощью раскатистого флибустьерского смеха и прибауток, – умел договориться с местными властями.
Репертуары Найцева и Никицкого совпадали разве что единичными песнями. Лирическая манера исполнения, свойственная Антону, была ничуть не похожа на исполненное театральных ухваток пение Григория Николаевича. Антон тем не менее слушал песни Найцева едва ли, как мне казалось, не восторженно – может быть, так же, как любимый им, как я скоро узнал, «Первый концерт» Чайковского. Только в филармонии он грустил над музыкой, а в лесу, веселясь, любовался человеком.
Следующим утром тётя Маруся пришла к нам прощаться в меховой безрукавке цвета слоновой кости.
– Какие у Вас безрукавки! – заметил Никицкий.
В последний раз напились мы парного молока, и Антон сказал:
– Теперь переходим на сгущённое. Тоже неплохо.
– Конечно, – ответил я. – Оно же сладкое.
– Так, значит, в сентябре вас ждать? А числа какого? – спросила тётя Маруся.
– Где-нибудь пятнадцатого.
– Приготовлю всё для вас.
Я вполголоса сказал Антону: «Она имеет в виду чистые постели и грязную работу», – и он засмеялся.
Погода между тем наладилась. Человек восемь-девять – среди них главный геолог, – мы выехали из Вершино-Рыбного на двух машинах. Мы с Никицким поместились в кузове того ГАЗ-66, на котором я ехал из Красноярска. Часа три машины двигались по дороге. В это время предохраняясь от дорожной пыли мы держали задний полог тента опущенным, но подняли его, когда, в сопках, машина свернула на старые, заросшие высокой травой и цветами колеи.
Когда смотришь из кузова назад, в качающийся прямоугольный проём тента, то видишь мир по-особому: словно на киноэкране. Кажется, будто внимание твоё переводится с одной сопки на другую, с облака на речку не случайным образом, а в видах искусства. Будто за тем, что тебе показывается, что-то такое стоит, что нужно разгадать – и ты наслаждаешься присутствием тайны. Может быть, поэтому, несмотря на то, что многочасовая тряска по целине побила твои кости и привёл в оцепенение твои мышцы холод, тебе всё-таки не хочется, чтобы это кино кончалось.
Уже стало смеркаться, когда автомобили остановились на пологом склоне сопки. Все вышли наружу.
– Здесь нет воды. Это что – вода? – обращался Леонид к главному геологу, указывая на небольшую бочажину.
– Мы сейчас посредине участка! Отсюда у нас будут наименьшие подходы. А воду ещё найдём или будем привозить! – запальчиво убеждал тот.
– Зачем нам это надо? А если пожар?
– У нас есть бочка.
– Нет! – заключил Леонид резко. – Мы едем дальше!
Когда мы снова очутились в кузове, Антон сказал:
– Я Лёню понимаю. И воду нужно иметь на стоянке, и – показать, что ты не липовый начальник. Только что мы потом скажем, когда нам придётся по пять километров лишку каждый день топать?
Наблюдение наше возобновилось, но уже не было приятным, так как через несколько минут нам предстояло устраивать стоянку в холоде и темноте.
Наутро мы увидели поодаль от наших палаток некое сооружение. Это был дощатый жёлоб, шириною метр с лишним, с низкими бортиками, вознесённый над землёй посредством высоких, в два человеческих роста, деревянных свай. В нём зияло множество дыр, там и сям торчали отогнувшиеся доски, и всё же древесина его, продуваемая на высоте, была ещё крепка.
– Акведук, – произнёс Андрей Петрович. – Водовод. Так мы и участок назовём: «Акведук».
«Акведук» – так «Акведук». Направляясь в маршрут, мы часто мимо акведука этого проходили. Он начинался где-то в распадке и заканчивался на склоне сопки, полого её огибая на протяжении нескольких километров. За полевыми заботами мы с Антоном сперва не задумывались о том, зачем он тут понадобился, кто его сколачивал и когда. Но всякий раз, как мы к нему приближались, я, не зная отчего, испытывал что-то вроде сладковатого страха, какой, наверно, должен постигать верующего человека при виде оставленного храма. Вскоре нам рассказали, что с помощью акведука здесь в сороковых годах подавали воду к небольшим золотым разработкам. Несмотря на низкое содержание золота в породе, благодаря дешёвому труду заключённых добывать его было выгодно. Так мне стало ведомо, призрак какого кумира лежит поверженным на этих выбеленных, вымытых дождями, похожих на человечьи кости столпах.
Ежеутренне, озаглавливая в полевой книжке новый маршрут, я использовал слово «Акведук» и некоторое время об этом строении размышлял. Мне представлялось, как тихо стоит оно четверть века в этом краю, куда никакому путнику нет нужды заходить, и таинственно хранит в себе впечатления лагерных лет. Всё неподвижно, лишь изредка сорвётся с гвоздя прогнивший конец доски; повиснув на другом, покачается она маятником и замрёт. Минут десятилетия – думал я, – мало дела будет народившемуся в стране новому народу до её прошлых бед, но всякий, кому случится набрести на эту старую постройку, почувствует, что ему не по себе. Потому что давно просохла в её жёлобе вода, но смертельная человеческая тоска, должно быть, долго ещё будет наполнять его до краёв.
О ту пору Никицкий неожиданно меня спросил:
– Ты веришь в коммунизм?
Для чего – размышлял я – ему понадобилось это знать? Мы ещё были на полпути к короткому знакомству: должно быть, Антону захотелось сопоставить наши политические взгляды. А может быть, ему нужно было с кем-нибудь вместе порассуждать, чтобы совместить в своей голове ясную архитектонику первой главы «Капитала» (она была обязательным чтением в курсе «Истории КПСС») с костлявой архитектурой лагерной постройки и высокий слог Маркса – с высокомерным языком блатных, которые здесь были некогда владыки.
Я мялся. С одной стороны, верить в коммунизм в те времена уже не было модным: могли высмеять даже за то, что подобные мысли вообще в твоей голове возникают, с другой – мне почему-то представлялось естественным, что по мере своего развития мировое общество будет становиться всё более справедливым.
Тогда Никицкий произнёс:
– Я – верю.
Казалось бы, можно ли было ему сейчас придумать более избитое заявление – а я за этим словом почувствовал много. Антон охотно смеялся над антисоветскими анекдотами, сочувствовал опальному Солженицыну, но, вероятно, какое-то нежное начало в его душе не позволяло ему отказаться от надежды на счастливую будущность человечества.
Я сказал:
– А можно просто не знать?
Антон прыснул:
– Надёжное мировоззрение.
Я понимал, что теперь, когда он взял меня внутрь круга своих людей, любое моё высказывание – как бы много в нём ни было наивности и мало остроумия – будет встречать у Никицкого благодушный приём. Может быть – думал я, – для того чтобы верить в коммунизм для всех людей, Никицкому нужно верить хотя б одному человеку, и, сочтя меня для этого подходящим – хотя мы пуда соли вместе ещё не съели, – он и назначил меня другом?
А потом, переезжая со стоянки на стоянку, мы жили сам-друг в палатке без печки, как сапожники без сапог, потому что печки нам не хватило. В августе, когда шли дожди, и в сентябре, когда уже случались заморозки, мы вечерами лежали на спальных мешках, одетые в свитера и телогрейки, и, не торопясь, разговаривали. Антон грелся изнутри куревом, а мне доставался холодный дым. Найцев однажды, заглянув к нам, спросил: «Что – спите, укрываясь большими снегами?» В известной в ту пору песне так спали сопки – наподобие тех, что нас окружали, – и Антона эти слова рассмешили.
Эти стылые сумеречные часы пошли на то, чтобы нам как следует узнать друг друга. Скоро мне стало понятно, на каких высших целях Никицкий сосредоточен: на том, чтобы у него была родная навек женщина и близкий навек друг.
Он рассказывал мне о том, какая девушка ему нужна. Ему хотелось, чтобы она писала стихи.
– Ты надеешься, что они будут хорошими? – спрашивал я.
– Неважно. Если она пишет плохие, значит, понимает хорошие. Самое ценное – что человеку что-то хочется сделать самому.
Также ему хотелось, чтобы ей не чужды были занятия изобразительным искусством.
Я спрашивал:
– Надеешься, что у неё будет выходить похоже?
– Зачем? Ты что – не знаешь, как сейчас: чем непохожее, тем лучше?
Ещё очень желательно было Антону, чтобы девушка эта занималась музыкой.
– Знаешь, как это здорово, когда оказывается, что её любимые композиторы – Чайковский и Калинников. Те же, что мои!
– Я понял, кого бы ты хотел: бывшую пионерку, которая посещала кружки.
– Именно!
– Так бы сразу и говорил, – отзывался я, а сам уже понимал – отчасти, может быть, по тому, что, описывая образ невесты, Антон избирал для глаголов изъявительное наклонение и настоящее время – то, чего он недосказывает: что нашлась уже особа, к которой он изъявляет настоящую склонность.
Однажды, уже в сентябре, во время переезда на стоянку, которая должна была стать последней, мы из кузова грузовика долго смотрели осеннее, цветное и дождливое, кино.
– Уже и домой охота, – заметил Леонид, – а глянешь на эту красу и подумаешь: успеется. Не спешите, ребята, на квартиры.
Покачивались перед нами и помалу отодвигались вдаль мокрые серые, в пёстрых, жёлтых с красным, пежинах, сопки, и не хватало сил свести с них глаз, и от холода не хотелось шевелиться, и чувствовал ты себя навек заворожённым. Леонида, недалеко ушедшего от нас с Антоном по возрасту, мы ощущали как сверстника, и вот – думал я – он сумел дать нам совет, какого от сверстника трудно было бы ожидать. Да, хоть и надоел за три месяца дикий быт и хочется уже тёплого дома, справиться с хандрой не так уж трудно. Надо только немного возвысить подбородок, чтобы приподнялся уровень, с которого наблюдаешь жизнь – и зрелища её начнут доставлять тебе особенное удовольствие именно оттого, что устал от полевых невзгод. Тогда найдёшь в себе что-то вроде удальства, и что-то будет дарить твоему духу даже удлинение невзгод, и твоя попытка ободрить тех, кому смыться в город невтерпёж, тоже твоему духу что-то даст.
Между тем Антон Леониду возразил:
– Это – если некуда спешить.
Спустя несколько дней главный геолог предложил Никицкому и мне задержаться на неделю и отработать ещё одну стоянку. Мы молчали: эта неделя отнималась от наших каникул. «Мы же просим, а не приказываем», – прибавил в свою очередь Леонид . Я поднял подбородок и согласился, и тогда Антон, вздохнув, согласился тоже – и я понял, что мне было легче, чем ему, потому что я не стремился никого увидеть поскорей.
Когда не было дождей, мы работали без выходных. Обыкновенно солнечным летним утром, после того как Леонид либо Андрей Петрович прокричали: «Подъём!», – я открывал глаза и встречал перед собой выдвигающуюся из спального мешка голову с всклокоченными волосами, мутный взгляд и видимо насильную улыбку. Из транзисторного радиоприёмника, висящего на дереве посреди лагеря, звучал утренний концерт по заявкам, всё – хорошие песни, от которых мутило из-за того, что хотелось спать. От молодой поварихи-сибирячки доносился зычный клич: «Кушать!», – и её вкусные каши со сна не хотелось есть до тошноты.
Нередко мы ходили в маршруты с Антоном вдвоём: например отбирать геохимические пробы. Мы накладывали в рюкзаки стиранные нами в Вершино-Рыбном мешочки и отправлялись выискивать на местности ложки, которые на карте едва отображались. По пути, для того чтобы быть уверенными в своём местоположении, нам приходилось часто озираться на окружающие вершины и отмерять расстояния шагами. Я считал тройками,– Никицкий парами. Мой способ был, на мой взгляд, менее хлопотным, но, вероятно, Антону троек и без того хватало. Ища малоприметного углубления в местности, мы старательно выглядывали его верную примету – утучнение растительности – и испытывали удовлетворение от встречи с ивовым кустом. Весьма часто, однако, в наших поисках мы не могли обойтись без творчества пуская вперёд геохимии алхимию, и, по-видимому, оба получали от этого удовольствие. Бог знает, какие невещественные тонкости служили нам тогда признаком того, что именно под этим камнем мы обнаружим искомую мелкую фракцию намытых водой отложений. Один из нас извлекал на свет серую, коричневую, белую грязь, нацепив её на клиновидный конец геологического молотка. Чаще это делал Антон, предоставляя мне записывать простым карандашом на квадратике крафтовой бумаги номер пробы. Я сворачивал квадратик трубочкой и засовывал её в мешочек, который Антон перед тем наполнил с молотка. Как бы сыра ни была проба, как бы ни размокала от соседства с ней бумага, впоследствии, после просушки, надпись всегда можно было разобрать. Завязав узлом на два бантика ленточки мешочка, я засим описывал в полевой книжке место взятия пробы, что-нибудь вроде: «Делювий. Мелкая фракция серого цвета». В духе Антона было подсказать: «Пиши: много комаров», – или: «На расстоянии полутора метров – заячий помёт», – и я записывал и это. «Какому дураку придёт в голову читать нашу полевую книжку», – рассуждали мы с ним, и совесть наша была спокойна, потому что, в конце концов, и комары были, и помёт. Если же какое-нибудь насекомое оказывалось расплющенным меж страниц, Антон его не соскребал.
– Пускай получат наглядное представление о том, кто тут живёт.
Также вдвоём мы «ходили по воду» – так Антону нравилось называть отбор гидрохимических проб. Мы укладывали в рюкзаки пустые полиэтиленовые бутыли, большие и малые, и отправлялись разыскивать водотоки на указанных нам склонах сопок. Предварить алхимией гидрохимию тоже бывало полезным, но случалось, что, облазав участок вдоль и поперёк, мы, пожалуй, могли бы заполнить небольшой бутылёк нашим потом, а воды так и не находилось. Иногда слышно было, как она журчит под камнями, где-то внутри горы. Мы пытались тогда разбирать камни, но журчание, казалось, всё время отодвигалось от нас на большую глубину.
– Мы – как два Тантала, – замечал Антон.
– Мы – буквально, а вообще, люди все на них похожи, – отвечал я.
– Разве?
– Говорят, радости уходят, когда до них добираешься.
– Чего-чего? Куда это они уходят?
– Так говорят. Может, что-то неожиданное случается или открывается обстоятельство, о котором не знал.
– Не знаю, не знаю, от меня они никуда не уходят…
Тяжело бывало идти с рюкзаком, полным воды – да ещё она закручивала тебя, чуть повернёшься, – но куда тяжелее было возвращаться в лагерь с пустой тарой. После того как мы исчерпывали все силы на тщетный розыск ключа, их уже не оставалось на то, чтобы выдержать укоризну в глазах Леонида и Андрея Петровича. Мы тогда брали пробу в ближайшем, какой нам удавалось обнаружить, от заданного участка источнике. Её у нас принимали без вдохновения. Андрей Петрович, глядя на нас своим тёмным отвлечённо-нежным взглядом, заявлял:
– Не нашли? Что, пойти мне завтра туда самому и найти?!
Потом он добавлял: «Ну, ладно…» – а если бы мы не очень уместной воды не принесли, то неизвестно, тогда что бы он добавил.
Зато для чаёвки нам всегда удавалось найти родничок. Если ручей был достаточных размеров и глыбами в нём была огорожена некоторая запруда, то мы принимали струящуюся холодную ванну. Обсыхая у костра, на солнце, на ветерке, мы пили горячий чай с печеньем и разговаривали.
Нередко обсуждали мы непонятную для нас личность главного геолога. Он едва ли не мелочно следил за тем, как налажен полевой обиход подчинённых, готов был отказаться в их пользу от куска еды, отдать любому свою вещь, если тот в ней нуждался, и был нетерпим, если они выполняли рабочее задание неправильным, по его мнению, образом. Взор почти нежный; слабость голоса такая, что жилам горла приходилось зримо напрячься для того, чтобы издать звук обычной для беседы громкости; предупредительность в повседневном общении – всё это тогда уходило. Лицо Красилова мгновенно и неровно покрывалось краской, делая упрёки, он возвышал голос, звучавший тогда резко и тонко. Для того чтобы избавить слух от этих частот, чуть ли не все, за исключением Леонида, готовы были сделать чуть ли не всё так, как хочет Андрей Петрович, даже если это представлялось им не совсем разумным. Только хладнокровный Леонид мог возразить: «Нет, надо укоротить маршрут, иначе они не успеют вернуться засветло», – или: «Нет, я не могу позволить им пройти по этому месту: там слишком круто» – и главный геолог отступал.
Как Антон, так и я, оба мы не могли не признать в Красилове лучшего из специалистов, каких нам довелось к тому времени повстречать. Он был сведущ в различных геологических дисциплинах, но главное, обладал настойчивостью мысли. Над какой-либо загадкой, которую вдруг ставила перед ним геология, он думал изо дня в день столько времени, сколько надобилось для того, чтобы её разрешить. Рассуждения его не были красноречивы, но силой своего желания познать он властно вовлекал в них не взирая на лица и преопытного коллегу, и студента, который был ещё мало чему учён.
Студентом таким чаще всего бывал Никицкий.
Однажды один из геологов – его звали Сурочкин Георгий Павлович – рассказал:
– Когда я преподавал, то вот что заметил принимая экзамены у студентов. Присаживается ко мне девочка, отличница. Всё гладко рассказывает, на все вопросы отвечает – непонятно, к чему и придраться. Ставишь «пять», но как-то без удовольствия. А потом садится мальчик. Троек в зачётке полно, тут название забыл, там плавает – видно, что тему только пробегал глазами – но!.. После десятиминутного разговора ты понимаешь, что перед тобой сидит законченный, самостоятельно мыслящий геолог! Ну и для своего удовольствия четвёрку ему натягиваешь. Наблюдал ты такое, Андрей Петрович?
Я был уверен, что те, кто слышал эту басню, все, кроме Антона, восприняли её как похвалу на его счёт, поскольку им не было дела до его зачётной книжки, и что сам он из-за этой книжки похвалы не разглядел.
– Возможно, – отвечал Андрей Петрович, и из такой краткости я вывел для себя, что негеологические наблюдения представляются ему пустяками.
– Но есть женщины, за которыми и мужчинам трудно угнаться. Лариса наша такая. Согласен, Андрей Петрович?
Лариса, молодая худенькая геологиня, была начальником того отряда, где работали студентки из Москвы.
– Возможно, – опять оказывался краток главный геолог.
Между тем было заметно, что Никицкий, всегда захватываясь беседой с Красиловым, относится к нему в целом сдержанно – и именно из-за того – насколько я мог судить, – что беседы эти были увлекательны. Увлекательны они были потому, что в голову Андрею Петровичу нередко приходило что-нибудь новенькое в ходе решения геологических задач, а для этого она должна была быть и была занята ими день и ночь, так что, вероятно, ни на что больше её не хватало, в том числе на интерес к людям. Отсутствие такого интереса и раздражало, по моему мнению, Антона в Красилове. Андрей Петрович почти не задавал людям вопросов. Слабую улыбку весьма часто можно было видеть на его лице, но, даже если он глядел тебе в глаза, ты не смел отнести её на свой счёт, потому что она оставалась такой же, когда он переводил взгляд, например на миску с супом. Его равнодушие к тому, как ты жил раньше и о чём думаешь сейчас, было настолько чистосердечным, что имело привкус благодушия.
Тем не менее сознавая, что являешься для Андрея Петровича лишь орудием для изучения земных недр, вроде компаса или увеличительного стекла, ты невольно испытывал возмущение, которое принуждён был гасить в недрах своей нервной системы. Мне, наверно, удавалось это легче, чем Антону. Я спрашивал себя: «Если тому, кто занимательно отвечает на твои вопросы о науке, ты пеняешь за то, что ему же не любопытно ни о чём кроме науки тебя спросить, то не говорит ли это о том, что ты хочешь от жизни чересчур много?», – а он в это время не иначе как думал о том, что ещё ему надо спросить у Красилова.
Иногда желая, чтобы было сделано как можно больше, Красилов увлекался и давал людям задания, подводящие их к пределу сил: пройти за один день чересчур много или чересчур много проб нагрузить в рюкзаки. В тех случаях когда Леонид это замечал, он выручал нас подправляя намётки главного геолога, а когда не замечал, Никицкий, бывало, подправлял их сам. Если мне даже в охотку была работа на износ, то Антона раздражала замашка Красилова не жалеть людей. Андрей Петрович в свою очередь бывал резко недоволен тем, что его поправляют, и не желал принимать в расчёт того, что поправки были сделаны с умом.
– Я сначала думал, – говорил Антон, – что Красилов обижается за геологию, а потом понял, что за себя. Мало того что начальник отряда вмешивается в планы, так ещё и студентик думает, что умней всех.
Однажды мы с Никицким, возвратясь из маршрута, увидели возле палаток не знакомый нам грузовик ГАЗ-66, шофёром которого оказался тот самый парень, что переплывал на вездеходе Сухой Пит. Звали его Виктором. Теперь он водил машину в отряде, где работали студентки. Просвечивающие синевой глаза его казались велики даже на основе довольно широкого, с выпирающими нижними скулами, лица. Он сидел у костра – невысокий, щупленький, бледный, с извитым чёрным чубом – и помалкивал и всё время слегка усмехался. Он провёл у нас три дня и остался для меня таким же загадочным, каким был на Сухом Пите. Как выяснилось, Виктор завербовался в экспедицию сразу после демобилизации из армии. Наверное, поэтому он ещё имел в себе повадки человека, который готов ко всему и который не станет сильно огорчаться ни чужим, ни своим промашкам, а лишь скажет: «Случилось да и случилось – чего теперь». Ни от чего не приходил он в замешательство – разве лёгкую краску можно было заметить на его щеках, когда он сходился взглядом с Наташей. Должно быть, – думал я, – он продолжает ещё испытывать воинское волнение слушая марш – на сей раз победный марш своего сердца.
В армии Виктор окончил курсы водителей и учиться больше не предполагал. Вероятно, это было связано с тем, что как зарезаться – так говорил он сам – было для него прочесть книгу. Когда он рассказывал о том, чего навидался из окна автомобиля как в здешних сопках, так и в местах, где возил пушку и солдат, Наташа внимала ему с благосклонной улыбкой, а я вспоминал о связке книг, которую она возила в дорожной сумке, и думал: «Найдётся ж и у неё, о чём ему порассказать».
Как-то вместе с Виктором в отряд, где он работал, главный геолог решил на время послать с каким-то заданием Сурочкина.
За день до их отъезда за вечерним чаем у костра Наташа сказала:
– Андрей Петрович, а нельзя было бы вместо Георгия Павловича меня отправить?
– С какой стати?
Наташа промолчала.
– Что, какие-то личные причины?
– Может, и личные – не всё ли равно, кто поедет?
– Не всё равно.
– Почему?
– Тебе же известно, что Георгий Павлович раньше работал в тех местах, знает геологическую обстановку.
– И я узнаю. В данном случае, по-моему, это не так уж важно.
– Это – по-твоему. Да ты хоть у него спросила?
Наташа взглянула на Сурочкина, выше среднего роста, темноволосого, с чёрными усиками, мужчину.
Тот поморщил в усмешке своё несколько вытянутое лицо и изрёк:
– Соэршенно, соэршенно, соэршенно!
Сурочкин был завзятый ценитель шутки. Ничто, что было бы хоть чуточку смешно, не проходило мимо его внимания. Даже в самом плоском, на мой взгляд, анекдоте, после того как с помощью своей нежёлчной улыбки Георгий Павлович его неизъяснимо перелицевал, плоскости становилось не видно, а соль оставалась.
«Соэршенно» была одной из его любимых былей. На некоем техническом совете один из присутствующих специалистов, будучи спрошен, каково его мнение о докладе коллеги, встал и провозгласил: «Соэршенно! Соэршенно! Соэршенно!» После чего сел, и никто так и не уразумел, согласен он с докладчиком или нет.
– Нет, нет! Это – не вариант! – поспешно произнёс Андрей Петрович.
– Ну, может, всё-таки подумаете? – спросила Наташа.
– И думать не буду. Есть производственная необходимость.
Наташа примолкла, а Антон заметил:
– Знакомая система.
– Что ты имеешь в виду? – спросил Андрей Петрович.
– Армейская. Виктор подтвердит.
Виктор, однако, курил папиросу и, чуть-чуть усмехаясь, безмолвствовал.
– Система такая, какая надо, – сказал Андрей Петрович.
– Кому надо?
– Не кому, а чему: геологии.
– Так, наоборот, для геологии ещё лучше было бы, если бы Наташа свой кругозор расширила.
– Довольно. Если ты хочешь со мной поспорить, давай обсудим границы между девоном и карбоном4. Полезней для тебя и для геологии было бы тебе заняться этими системами!
– Я спорить не собираюсь.
– Ты не собираешься – ты споришь!
Никицкий замолчал, а когда мы ушли в свою палатку, достал из рюкзака «Моонзунд» и стал его читать. Прошло несколько минут, и от его нар донёсся знакомый трескучий смех.
Антон зачитал отрывок, который ничуть не показался мне забавным, и воскликнул:
– Кажется, так же здорово написано!
По разным надобностям Виктор ещё не раз приезжал в расположение нашего отряда. Он обладал скромностью и добродушным, философически устойчивым нравом. Я для себя не мог прояснить этого человека, с Антоном же они скоро сошлись на почве армейских воспоминаний.
– Я Наташеньку полюбил, и это – на всю жизнь, – между прочим признавался нам Виктор. – Тем более что я, может, ей ребёнка сделал. Если бы не это, то кто знает, как бы вышло, но теперь – уже всё.
Между тем я заметил, что Наташа каждый раз провожает Виктора без грусти и что смешливое расположение её не зависит от его присутствия в нашем лагере. Поначалу мне казалось это странным, ибо влюблённые, по моим понятиям, должны были друг по другу тосковать. Виктор также не горевал на проводах, и вскоре я догадался, что недолгая разлука чем-то своим особенным ценна для них так же, как нечастые встречи.
Они с Наташею, бывало, посидят с обществом у костра, поглядывая друг на друга не чаще, чем на других, потом встанут разом и отойдут в сторону метров за сто. Там они устроятся на поваленном дереве, и не заметно, что бы они ещё на кого-то, кроме как друг на друга, поглядели. Наташа обычно сидела на стволе, как на коне верхом, а Виктор умащивался как-нибудь полусидя, опираясь на ствол спиной и локтями. Я поглядывал на него краем глаза: кисти его рук расслабленно свисали, ветерок пошевеливал кудри. Видно было, как мало произносит он слов. Я думал: «Что она видит в нём такого, чего не видно мне?» – и догадывался, что это должно было быть то, чего во мне нет.
Через длинное через короткое ли время Никицкого с каким-то поручением отправили на машине с Валерой в тот отряд, где работал Виктор. Оттуда Антон вернулся сумрачный. Я спросил, в чём дело – он отговорился. Когда же к нам в очередной раз приехал Виктор, я не обнаружил в Антоне и следа прежней охоты с ним беседовать.
Я спросил:
– Вы с Витей не поссорились?
– С чего бы.
– И всё-таки?
– Не хотелось тебе говорить… Баба у него ещё одна есть – в том отряде.
– Какая баба?
– Какая, какая!.. Не знаешь, что такое баба?
– Откуда она взялась?
– Шут их знает, откуда они берутся. Местная. Повариха.
Виктор продолжал знаться с Наташей как ни в чём не бывало, взирая при этом на всё вокруг с обычной безмятежностью, и я спрашивал Антона:
– Как он не боится, что кто-нибудь Наташе сообщит?
– Ты бы стал? (Я помотал головой) Вот и большинство так. Эти ребята – неплохие психологи. Хотя, конечно, риск есть. Ну, а нам приходится быть неплохими лицедеями.
Я много дурачился в обществе Никицкого. Кажется, чем глупее я себя изображал, тем больший имел успех. Мне легко было насмешить Антона объясняя попросту то, что сложно. Например, когда однажды речь зашла о Вселенной, я быстренько сделал предположение, что она получилась из шара, который лопнул и разлетелся на куски (а о гипотезе Большого Взрыва мы тогда ещё не слыхали).
– Ты так считаешь? – спросил Антон колеблющимся голосом.
– Да, – ответил я важно, и грудь его сотряслась от смеха.
Смешным я бывал для него и тогда, когда, умудрив лицо, усложнял простое. Как-то раз посреди маршрута выяснилось, что я забыл перед выходом из лагеря пополнить запас пробных мешочков. Антон поручил мне, а я забыл – и вот оставалось ещё взять полтора десятка проб, а класть их было не во что.
День был нехолодный, и я сказал:
– Порву свою рубаху.
Антон глянул на мой ворот и возразил:
– Она же у тебя почти новая.
– Ну и что – сам виноват.
– Нет, я даю свои лохмотья.
Не успел я глазом моргнуть, как Антон скинул штормовку и за ней – рубаху, которую тут же и разодрал. Не такая уж она была и лохмотья, и я понял, что просто-напросто ему захотелось отдать другу последнюю рубашку.
Лоскуты, что мы из неё накроили, вышли все на предпоследней точке, и для последней пробы я пустил в дело свой носовой платок. После я пересыпал пробу в мешочек, так что и платок у меня в целости сохранился.
За ужином мы рассказали о нашем упущении. Леонид пробурчал: «Бывает. Но – молодцы», – а главный геолог, водя ложкой, и ухом не повёл. Для него, конечно, имело значение лишь то, что задание выполнено.
В палатке, вспомнив книжку Зигмунда Фрейда, которую читал незадолго до отъезда в поле, я сказал:
– У меня есть объяснение тому, что я забыл взять мешочки.
– Ну-ну?
– Слову «мешочки» созвучно «мешают очки». А помнишь, как мешали очки капитану Коренному – то снимет, то наденет? Я думаю, моему мозгу было неприятно вспомнить военную кафедру – вот он и отказался.
Антону нравилось смеяться, а мне нравилось его рассмешить.
Также сильно веселила его моя страсть к поеданию ягод. В тех местах было много черники. Я уходил в леса, как на пастбище, и там час или два подряд напихивал в рот прохладную сладкую ягоду, обирая кусты одновременно правой и левой – чтобы не было перерыва, понижающего наслаждение. Для того чтобы не намокали колени, я разворачивал на всю длину болотные сапоги, а чтобы отстали комары и слепни – намазывал лицо и руки предназначенной для отваживания гнуса жидкостью. Руки на весу уставали, ноги потели внутри резины, в рот попадало средство и оставляло в нём горечь – всё, чем я повышал удовольствие, его потом понижало.
Иногда мы ходили вдвоём с Наташей, которая была привержена чернике в той же степени, что и я. Тогда в жужжание насекомых вклинивались её «Ах!» при виде особенно урожайного куста и незначительный смех по неведомым мне поводам.
– Чему ты смеёшься? – спрашивал я.
– Так… Хорошо – вот и всё, – отвечала она, и я думал: «Погоди».
Сперва веснушки на её щеках то там, то сям проглядывали между веточек и листочков, но вскорости скрывались за разводами от ягодного сока. Губы и язык её становились фиолетовей некуда, но когда мы являлись в лагерь, то Никицкий всё-таки больше смеялся над раскраской моего лица. Наташино – оказывалось всё-таки менее черничным, чем моё: из-за того, возможно, что она брала ягоды одной – а не двумя, как я – рукою.
Кое-что к потехе Антона добавил один из маршрутов, пролегший среди черничников. Мы шли тогда втроём: Леонид с геологическими наблюдениями, Антон с радиометром, делающий замеры через каждые двадцать метров, и я, через каждые шестьдесят метров берущий геохимические пробы. В мою задачу также входило отмерять двадцать метров шагами и в нужном месте возглашать: «Стой!». Во время остановок не требующих от меня работы я накидывался на чернику.
Однажды Леонид, шурша карандашом в полевом дневнике, заметил:
– На наших точках наблюдения почему-то всегда много ягод.
Никицкий взглянул на меня и заулыбался – а между тем в моём горле никакая черничная косточка от этих слов не застряла и, если и встречались потом на наших остановках небогатые ягодой черничные кусты, то всё-таки случаи эти оказывались довольно-таки редки.
Особенным карнавалом делали нашу жизнь наезды Найцева. Неуёмный полевик этот оказывал на меня некое двоякое и разнонаправленное воздействие. С одной стороны, от приключенческой лихости его манер, от дорожной удали его песен тебе смотрелось на мир как-то легче. То, что тебя удручало, представало не стоящим ломаного гроша; то, что требовало трудного решения, оказывалось возможным пустить на самотёк. Казалось, ни малейшего гнёта на свои чувства со стороны жизни не признаёт этот человек. Он относился с большой приязнью к Наташе, частенько скрещивали они свои – сибирский с одесским – острословия, но, узнав о двоедушии Виктора, Григорий Николаевич не обнаружил к ней сочувствия – только рассмеялся: «Молодые! Не разбегутся – будут жить» – и, не теряя времени, обратился к струнам. И вдруг я понимал, что этого-то мне и не хватало: увидеть человека, которому никакое в мире известие не может испортить песни.
С другой стороны, ты понимал, что видишь перед собой дряхлеющего мужчину, который добился уже многих целей и не ставит новых. Внимание которого уже не хочет ни на чём по-настоящему закрепляться. Остроумие которого всё больше походит на словоблудие. Который делает дело отчасти по привычке, отчасти для того, чтобы цепляться за него в жизни, как утопающему – за соломину. Который не может уже ни огорчиться чем-либо, ни чему-либо обрадоваться на полную катушку. Который мало что – и всё меньше – в жизни воспринимает всерьёз и почти надо всем потешается – но и потешается вхолостую, без настоящего остроумия и без смысла. Не трясущиеся пальцы, не горбатая спина – но вот такая утеря серьёзности вдруг ужасала меня в стариках. «Нет, я таким не буду», – зарекался я и тотчас понимал, что и они не хотели быть такими и всё-таки становились незаметно для себя.
Настал день нашего возвращения в Вершино-Рыбное. С осенними дождями слякоти на его улицах прибавилось, но зато совсем не стало страху: слякоть стала холодной, и свиньи отказывались в ней валяться. Отряд, в котором работали студентки, приехал на день раньше, чем наш. Они встретили нас с оживлением, и сейчас же было условлено отмечать, снова у костра, окончание полевого сезона. Отбытие девушек в Красноярск было назначено на следующий день, наше с Никицким – на день позже.
Расположились мы с Антоном опять в доме тёти Маруси, но за хозяйку теперь выступала её сестра. Тётя Маруся находилась в больнице в Красноярске.
– Что-то серьёзное? – спросил Антон.
– Ой, не знаю. Разве по пустяку в город пошлют? Маруся сказала просить вас, как приедете, крышу в одном месте подлатать.
Сестра подвела нас к стене и дала пощупать влажные обои.
– Рубероид есть?
– В сарае. А я вам молочка принесу.
Мы отыскали на дворе длинную лестницу, поменяли в ней несколько сгнивших перекладин и слазали на крышу.
Рубероид на скатах там и сям топорщился струпьями, и Антон сказал:
– По-хорошему, тут всё перекрывать надо. Но у нас нет времени – прости, тётя Маруся. Я думаю, пока будет достаточно две полосы поменять.
– Ты умеешь?
– Кто был в армии, тот умеет всё. Ладно, завтра.
В камералке мы взяли у Леонида по двадцать рублей в аванс, зашли в магазин и купили чайную наливку. Шоколаду «Пикантного» в тот раз в продаже не оказалось. Потом мы прошли к книжному – он предлагал для чтения только навешенный на дверь листок с объявлением «В отпуске до 3-го октября».
– Всё не так, как летом, – заметил Антон. – Но главное всё-таки на месте.
– Что главное?
Антон засмеялся:
– Наливки: и в прямом и в переносном смысле.
Почти смерклось, когда мы зашли за Светой и её подругой.
– А где Наташа? – спросил я.
– Она не придёт, – ответила Света.
– Почему? – спросил Никицкий.
– Не хочет, – сказала Вика.
– Жаль.
Света проговорила:
– Сознаюсь, я два месяца мечтала о том, как ты нам в сентябре на гитаре поиграешь.
– Поиграем, конечно, – сказал Антон. – Сева, а сходил бы ты за Наташей? Мы будем на старом месте.
– Не пойдёт она, – возразила подруга.
– Может пойти, если Сева попросит.
– Антон, с чего ты взял? – спросил я.
– Будь ласка, сходи.
– Где её искать?
– В камералке, – сказала подруга.
На пути мне встретился Леонид.
Я спросил:
– Наташа в камералке?
– Да. Постой-ка. Будьте готовы к тому, что Красилов даст Никицкому отрицательную характеристику.
–Почему!?
– Проявлял самодеятельность, сопротивлялся указаниям руководителей… Я буду возражать, но последнее слово – за главным геологом.
– С двойкой за практику Антона отчислят! Тогда пускай и мне такую же характеристику даёт! Мы с Антоном всегда были заодно!
– Не лезь в бутылку, – буркнул Леонид в сивые усы и продолжил, как молодая цапля, переноситься через грязь.
Возмущённый, я должен был постоять несколько минут на улице под окнами камералки, чтобы ровнее задышать. Мне видна была Наташа, одна в освещённом помещении. Она сидела за столом боком ко мне, подбородок на кулаке, не двигаясь.
Войдя, я сказал:
– Наташа, что ты тут делаешь? Пойдём, посидим, как тогда.
В кулаке Наташином, оказывается, был платок, и она промокнула им глаза.
– Что-то случилось? – спросил я.
– Что случилось, то случилось уже давно. А я только узнала.
– Тебя там всем не хватает!
– Да, я бы тоже на твоём месте не приставала с расспросами. Скажи, тебя девушки бросали?
Я пожал плечами.
– Значит, у тебя всё впереди, – сказала Наташа и встала. – Пошли, зря, что ли, ты сюда таскался. Если когда-нибудь захочешь поверить красивым глазам, вспомни меня.
Она надела сапоги, ватник, и мы вышли во тьму под редкие фонари, матово отсвечивающие на шероховатой топи.
По пути я спросил:
– Ты имела в виду Виктора?
– Как ты догадался! Но это дело моё, а на твоём месте я бы держала нейтралитет.
Почему – думал я между тем – Антон решил, что я смогу привести Наташу? Значит, есть во мне что-то, что пригодно для таких дел – возможно, это то, чего в Викторе нет совсем, может, вкус к чернике?
Вскоре мы увидели вдалеке ярко-рыжее переливчатое пятно и пошли на него.
На подходе к костру я сказал: «Нейтралитета нет», – и в это время нас заметила Светлана и хрипло произнесла: «Ура».
На холоде чайная наливка не казалась такой вкусной, как летом, и конфеты, купленные нами вместо «Пикантного», ему в подмётки не годились.
– Как, начальство вас не допекало? – спросил у москвичек Никицкий.
– Ты что – Лариса у нас такая классная! – возразила Вика.
– А вас? – спросила Светлана.
– С Леонидом – нормально, а с Красиловым мы общего языка не нашли, – ответил я.
– Почему, – сказал Антон. – А легенды5 к картам?
Антон спел три-четыре песни, и вдруг Светлана – она одна ему подпевала – воскликнула:
– Холодно! «Черёмуху» – и пойдём?
Стали собираться, и я сказал:
– Жаль расставаться насовсем.
– Очень! – воскликнула Светлана. – Поэтому сейчас будет телефон.
Она вынула из кармана бумажку, сделала в ней запись карандашом, который нашёлся в моём кармане, и отдала её Антону:
– Это в Москве – так, для связи, а вообще, как договорились, ждём вас на Колыме.
Вика сказала:
– Наташка, поехали с нами!
– Нет.
– Почему?
– Так взять да всех тут оставить?
Когда мы подошли к избе, где квартировали студентки, Светлана предложила:
– Зайдёте?
Наташа помотала головой и ушла к себе, в дом по соседству.
Я сказал:
– Вообще, у нас ещё дела. Да и вам собраться надо.
– Вы успеете. А мы собраны. Антон?
– Раз приглашают, зайдём на полчаса? – произнёс Антон.
Мы прошли в комнату, где девушки на скорую руку накрыли стол для чая.
Светлана сидела против нас, поставив локти на стол и придавливая подбородком сплетённые пальцы рук.
– Люблю вот это время в поле, перед отъездом, – говорила она, в то время как лицо её покачивалось на этом пружинящем сплетении и качались зрачки ведясь то в сторону Антона, то в мою – попеременно. – Завтра, может быть, навсегда расстанешься с людьми, с которыми ненадолго свела тебя жизнь. Некоторые из них, может быть, тебе многое дали и не забудутся никогда. Но вот ещё они тут, и хочется наглядеться на их лица надолго впрок. Вам знакомо это чувство?
– Мне – нет, – откликнулась Вика. – Не думаю о тех, с кем разминулась. Прошло – и прошло, теперь о других делах надо думать.
Я спросил:
– Стараешься скорее забыть?
– Ещё чего – сами забываются.
– На зависть, – заметил Антон.
– У тебя не такой подход? – спросила Светлана.
– Увы, нет.
– Значит, если мы встретимся на Колыме, то, во всяком случае, узнаем друг друга.
Антон засмеялся.
Я сказал:
– Передавай мужу привет от земляка. А почему вы на практике не вместе?
– Не получилось. Значит… Значит, зачем-то это было надо.
Когда мы с Антоном собрались уходить, Света спросила:
– Вдруг я буду в Ленинграде – телефонов у вас нет?
– Какие в общаге телефоны, – ответил Антон.
– Ладно, но если вы будете в Москве, звоните.
На пути домой я передал Антону мой разговор с Леонидом. Я думал, мы обсудим, как нам завтра будет лучше защищаться. За отрицательную характеристику с места практики декан имел право отчислить любого, а Никицкий с его тройками был бы обречён. Однако Антон лишь изрёк: «Любопытно», – и больше слова не вставил в лай, которым собаки от двора ко двору провожали чавканье наших сапог – иные вдобавок звенели цепью, иные прыгали на забор.
Когда мы пришли в избу, я сказал:
– Как будто я лучше тебя работал!
– Погоди раньше времени возмущаться, – ответил Антон и добавил: – Не забыть с утра взглянуть, есть ли в сарае гвозди.
Взглянуть на гвозди мы всё-таки позабыли, а на подходе к камералке, сквозь её окна, услышали горячие голоса. Внутри оказались примолкшие с нашим появлением Красилов, Сурочкин, Леонид, Лариса и Наташа. Леонид поджимал губы, а лицо Красилова было красным.
Мы стали посреди комнаты, и Красилов проговорил:
– Ну вот, пусть сами скажут! Антон, как бы ты оценил свою деятельность на практике?
– Не мне судить.
– И всё-таки: как ты считаешь, ты способствовал утверждению в отряде благоприятной рабочей обстановки?
– Вроде старался.
– Сейчас посмотрим, как ты это делал. Вот открываем твой полевой дневник. Точка наблюдения двести двадцать один вэ. Тонкая фракция… В пяти метрах на юго-запад – останки растерзанной хищниками куропатки. Точка наблюдения триста четыре вэ. В ноле целых шести десятых метра к востоку – гриб с красноватой шляпкой, синеющий на изломе – предположительно подосиновик. Посмеяться тут всем нам хорошо, но дневники будет проверять комиссия не из передачи «Вокруг смеха». Возьмут да снизят оценку. Не премия нам будет тогда, а слёзы. Может, в чём-то ты и старался, но я-то тебе за старание должен хорошую характеристику давать или за результат?
– Что Вы имеете в виду?
Никицкий казался невозмутимым.
– Вот, пожалуйста: как всегда, начинаешь спорить, вносить в работу нервозность! Так чего от тебя больше: пользы или наоборот? Георгий Павлович, как твоё мнение?
Красилов наставил на Сурочкина свои темно блестящие глаза, и у того – я замечал, что с ним как правило это в таких случаях происходило – начала чуть-чуть подрагивать голова.
Георгий Павлович как будто с усилием уклонился от этого взгляда и вымолвил:
– Соэршенно … Мне кажется, что в Антоне нет искательства, а есть искание.
– Здорово! – отозвалась Наташа.
– Приятно быть причиной афоризма, – проговорил Никицкий. – А ещё приятней – знать, что твои труды кто-то прочитал.
Встала со стула Лариса:
– Антон, дело серьёзное, а ты ёрничаешь. Вообще-то, я тут сбоку припёку, но вопрос всё-таки имею право задать. Андрей Петрович, кто Вам нужен: студенты или солдаты? Насколько я знаю, голова на плечах у Антона есть, а остальное, может быть, не так уж и важно? Не будет же он всю жизнь так сочинять.
– Кстати, – заметил Леонид, – с каким это студентом Андрей Петрович чаще всего за геологию разговаривал?
– Причём здесь это? – сказал Красилов.
– Притом, что если таких ребят из ВУЗов отчислять, то кто придёт Вам на смену?
– Никто их не собирается отчислять! Но надо дать повод человеку задуматься.
Я вмешался:
– Тогда давайте и мне такую же характеристику, как Антону! Мы с ним одинаково работали! А то, что Вы прочитали, мог написать и я!
– Может быть – под чью только диктовку. Предоставь уже нам оценивать, кто как работал. Закрываем обсуждение, работы у всех полно. Антон, Сева, сегодняшний день – в вашем распоряжении. Копируйте материалы для ваших курсовых.
Никицкий взял геологический отчёт – переплетённую книгу машинописных листов – за предыдущий год, а я – давности двухгодичной. Антон сразу перевернул последнюю страницу, вынул из кармашка, приклеенного к задней обложке, во много раз сложенные карты и, расстилая их поочерёдно на светостоле, принялся переводить изображения с них на лист ватманской бумаги – я же долго не мог уйти с первых страниц, где по нетронутому давнему обычаю давалось описание животного и растительного миров, представленных на площади работ. Оно было для меня как-то мило – наверно, потому, что было излишеством. Невольно я перевёл взгляд на окно, на сопки, которые всей этой растительностью и зверьём наполнялись, и в придачу увидел Виктора, неспешно приближающегося к камералке.
Войдя, он поздоровался и расположился – с тою же свободою, с какой ранее прислонялся к сваленному дереву – на стуле возле стола Наташи. Она, не поднимая головы, чертила карандашом, а он со своей спокойной улыбкой всё глядел ей в лицо. Так протекло минут десять – я уже перешёл к неодушевлённым и не произрастающим геологическим предметам, – и Леонид наконец произнёс:
– С чего бы это водителям в камералках долго сидеть?
Виктор как будто не услышал, и Наташа, раскрасневшаяся, выпалила:
– Тебе говорят!
Не меняя улыбки, он кивнул на дверь:
– На два слова?
– Никогда – чтоб мне мою маму в Одессе больше не увидеть! Уходи! Дай работать!
– Виктор, – вмешался Леонид, – У тебя нет задания? Студенток везёшь – машину подготовил?
– Почти.
Виктор встал и неторопливым шагом вышел из помещения. «Должно быть, – подумал я, – за присутствие духа полюбила его Наташа».
– Пойдём перекурим? – позвал меня Антон.
Во дворе стоял Виктор – ноги на ширине плеч, в лёгкой куртке, с душой нараспашку, на ветру – и курил.
– Чего она взбеленилась? – проговорил он, после того как Никицкий прикурил от его сигареты. – Мы что – женаты? Я что – не могу ещё выбирать?
– Ты что-то про ребёнка говорил, – заметил Антон.
– Да сболтнул. Будет – тогда и разговор будет.
– Логично, – произнёс Антон.
Виктор уронил с губы окурок и расхлябанной походкой ещё упивающегося волей недавно вольноотпущенного человека пошёл со двора к своей стоящей неподалёку машине.
Я сказал:
– Тебе не кажется, что им нельзя не любоваться?
– Не кажется. Что ж это за падла доложила-таки Наташе?
– Ты считаешь, что ей не надо было знать? А по-моему, тот, кто ей рассказал – мужественней, чем мы.
– Но только не умней. Думаешь, им двигало благородство?
– Может, и нет, а всё равно он сделал то, чего мы не смогли.
– Или не захотели. Но даже если б ты был прав, он что: не мог, пока мы уедем, подождать?
Тем временем на дороге показались студентки с рюкзаками. Опять мы их провожали, опять был ГАЗ-66, но в этот раз через протёртое стекло кабины в глазах водителя была заметна синева.
Антон предложил Светлане сигарету.
Та помотала головой:
– Я не курю.
– Значит, определилась?
– Наверно.
– Как ты смогла? В поле, наоборот, все начинают.
– А вот не хочется как все. И вообще, это ни к чему. Между прочим, тебе – особенно.
– Ты считаешь?
– Нет – чувствую.
Никицкий промолчал, и Светлана прибавила:
– Спасибо вам за оправу. Чудная была практика, но без костра до и после всё было бы не то.
– Да, хорошо было, – улыбнулся Антон.
– Было прекрасно, – проговорила Света, берясь за кабинный поручень. Чистые звук проступил вдруг в её «а», и в один миг легко, словно с глыбы на глыбу, с подножки на сиденье перешло её укреплённое сопками тело.
Вика обняла Наталью за плечи, что-то ей пошептала, залезла вслед за Светланой в кабину и потом, выпростав руку через открытое окно дверцы, долго махала нам из удаляющейся машины.
В то время как мы продолжили копаться в отчётах, я спросил Антона:
– Интересно, повариха из того отряда уже рассчиталась? Может, мы её увидим?
– Зачем тебе?
– Так, для полноты картины.
– Она ничего не потеряет, если ты это место оставишь пустым.
– Нет, я бы хотел.
Через некоторое время Антон меня толкнул:
– Вон она.
Сквозь окно я увидел удаляющуюся молодую женщину, немножечко полную, с тёмными волосами, виднеющимися из-под косынки.
Антон сказал:
– Идёт к магазину. Наверно, получила расчёт.
Женщина быстро затерялась среди столбов и заборов, так и не дав мне разглядеть своего лица.
– Ну вот, – заключил Никицкий, – силуэт у тебя есть, а подробности предметам заднего плана и не положены.
Часа в четыре он спросил: «Может, хватит?», – и я его поддержал. Кое-что полезное для курсовых проектов ещё можно было в отчётах выискать, но нас ждал ремонт.
Красилов отдал нам характеристики и изрёк:
– Благодарю за труд.
Я получил за практику «хорошо», Никицкий – «удовлетворительно». Опять – подумал я – не увернулся он от судьбы. Тем не менее каким бы «растроенным» (этот каламбур, пришедший мне в голову, я оставил при себе) Антон ни оказывался, признать его расстроенным я не мог. Разве как будто усталость на него сошла: точно устал он быть преследуемым неотступно.
С утра дождя не было, но к тому часу, как мы вышли из камералки, он захлестал, да с завихрением, так что взлезать на крыши совсем хотеться перестало. Однако иного дня для того, чтобы оправдать Марусины расчёты, у нас не оставалось, потому, придя домой, мы сразу схватились за лестницу. Дождевая влага отяжелила её, пригладила её шершавость и охладила так, что больно было пальцам. Отдирая жерди, набитые на старый рубероид, мы с трудом удерживались от того, чтобы съехать с мокрого ската крыши за её край, и вместе с парусящими в руках кусками рубероида нового – едва с неё не улетали. Пока крепя закоченевшими руками свежие жерди мы били гвозди, которые в сарае таки нашлись, на двор зашла и села на лавочку Наталья. Сгрудившись внутри телогрейки, она наблюдала за нашими стараниями и этим заставила меня вспомнить Светлану, которая смотрела на нашу работу в другом месяце, на другом дворе и при другой погоде. Я крикнул Наташе, чтобы она шла греться в дом, но она меня не послушала.
Наконец мы оставили то, что сделали, небу, и, окинув снизу взглядом нашу починку, Антон заключил:
– Ну вот, теперь под этой заплатой тёте Марусе будет приятней жить.
Войдя вместе с нами в избу, Наташа сказала:
– Пришла напоследок поболтать. Хотя развлекать меня не надо: я вижу, вы ещё не собрались.
– Мы всё-таки попробуем, – ответил Антон.
Мы сначала погрели над печкой руки, а потом поставили на неё чайник. Сборы наши продолжались минут сорок: немногим дольше, чем он вскипал. Наташа была неразговорчива – задала лишь, не прикусывая вопреки обыкновению губу, несколько вопросов, ответы на которые могла бы, по моим понятиям, запросто, ничего для себя не потерявши, пропустить мимо ушей. На чаепитие она не согласилась и, когда я всё-таки поставил на стол три чашки, стала прощаться.
Тогда Антон сказал:
– Приезжай в Ленинград хоть на недельку. Устроим тебя в общежитии.
Когда Наташа ушла, он проговорил:
– По-моему, последний вечер с друзьями, которые уезжают, проводят по-другому. Не этого ей надо было. Она хотела о Викторе поговорить.
Сейчас же я припомнил её вопросы, вроде таких: «На чьей машине вы едете в Красноярск?», – «Что ты, Сева, видел на Сухом Пите интересного?», – «Антон, а ты сразу после армии тоже куда-нибудь в экспедицию поехал?», – и понял, что, точно, любой из них мог навести разговор на упоминание о Вите.
Я спросил:
– Неужели это ей ещё надо?
– Хм, ты что думаешь – у них всё закончилось? Я не удивлюсь, если они нас провожать вдвоём придут.
Вдвоём они не пришли – хотя Виктор к утру уже успел вернуться из Красноярска, – но я понимал, что это не меняет дела, что Антон умеет разгадать запрятанный чужой мотив и потому и мне за моими тайнами не мешало бы приглядеть.
Следующим утром мы с Никицким явились с вещами к камералке и, сидя на лавке в её дворе, ожидали машины, которая должна была отвезти нас в аэропорт. Ветер ослаб, в облаках образовались проёмы, сквозь которые просвечивала синева и иногда – солнце. Антон был молчалив и вял, темней обычного казались мне мешки под его глазами.
Я спросил:
– Ты плохо спал?
– Да так… Ты возьми это себе.
Я развернул сложенный листок, который он мне вручил, и внутри увидел написанный Светланой номер телефона.
– Я просто перепишу.
– Нет, возьми, мне не надо. Встретишь так вот чёрт-те где чёрт-те кого и сам не свой потом, никак не отойдёшь…
Подъехала машина, мы забрались в кузов – и покатилось от нас в прошлое село Вершино-Рыбное.
Прощай, Наташа! На огорчения всегда есть чем ответить одесситке, быть может, так: «Чтоб не съесть мне больше беляша на Дерибасовской, если я за ним заплачу!»?
Прощайте, Андрей Петрович! «Счастливо!» – едва отвлечёт он на нас внимание и продолжит чёрным взором прозирать земные слои.
Прощайте соэршенно, Георгий Павлович, и благодарствуйте! Кто ещё мог бы так коротко познакомить нас с армянским радио?
Прощайте, Найцев! Немало перепели Вы для нас неизвестных нам лихих песен, но старая «Бригантина» получалась у Вас душевнее всего!
Прощай, Леонид! Многие люди ещё будут осенены твоим седым отеческим спокойствием – счастливцы!
Прощай, Виктор! Кабы смог ты отдать мне от себя немного твоего хладнокровия и твоей свободы, для обоих, глядишь, это было бы к счастью, – но увы!
До встреч на Колыме, Светлана! Всего четыре дня мы с тобой видались, а нам известно теперь, почему черёмуха.
Будь здорова, тётя Маруся, нам понравились твои заботы, твои задания и твои кофты.
Прощай, Валера! Не тревожься, никогда не забыть мне дороги на Сухой Пит.
Сквозь иллюминаторы катящего по взлётной полосе самолёта мы с Никицким наблюдали, как уходит под крылья Красноярский край и с ним – полевая система, которая нас всё лето объединяла и подчиняла. Спустя полдня Ленинградской области предстояло хлынуть под эти крылья, и за посадочной полосой аэродрома в Пулково ждала нас система городская, в которой вольничают каждый сам по себе.
Как-то будет – размышлял я – складываться дальше наше дружество? Во всяком случае, после совместного полевого сезона мы уже не должны были проскакивать взглядами мимо друг друга, – и уже это представлялось мне неплохим его итогом.
Во время полёта я сказал:
– Я понял, чем я в Викторе любовался. Тем, что он ничего не боится и никого не любит. Хотя второе – частный случай первого: ведь любить – значит бояться потерять? Тебе не кажется, что в такой безучастности обычный человек должен чувствовать что-то божественное?
– Нет, – промолвил Антон. – Я, во всяком случае, ему ничего не должен.
Спустя некоторое время по возвращении в Ленинград у меня состоялся разговор со знакомым геофизиком, который когда-то работал вместе с Красиловым. Узнав, где я проходил практику, этот человек полюбопытствовал о моих впечатлениях от Андрея Петровича.
Я жался, и тогда он вымолвил:
– Фанатик?
В тот же миг мне стало ясно, что это – не вопрос и даже не ответ – но заключение всему, что с Никицким и мною в поле происходило. Это было то слово, до которого мы сами не догадались. И всё же значение его всегда присутствовало в наших понятиях о главном геологе: как бы ни был несдержан Андрей Петрович, каким бы глухим к людям нам ни казался, мы сознавая, что это – последствия его одержимости геологией, не чувствовали за собой права его судить.
Лет двадцать спустя – к этому времени Красилов мне уже не вспоминался даже во время промежуточной посадки в Красноярске самолёта, которым я летел из Магадана в Москву или наоборот – тот же геофизик рассказал мне о том, что побывал у Красилова дома и увидел, чем тот занимается выйдя на пенсию. В одной из комнат были разложены на полу выцветшие, прорванные на складках большие геологические карты мира и материков. На них сидел одетый в тренировочные штаны поседевший и ссутулившийся Андрей Петрович. Посматривая в одну из книг, лежащих раскрытыми вокруг него, он чертил циркулем на какой-нибудь карте дугу или окружность, потом задумывался и ластиком делал в них подтирки. Иногда он менял циркуль на карандаш и пририсовывал к своим кривым значки различных полезных ископаемых. Чтобы достать ещё книгу или журнал со стеллажа, занимавшего одну из стен и плотно заполненного геологической литературой, Андрей Петрович вставал используя инвалидную трость. Он писал и слал в редакции специальных журналов статьи, где излагал итоги своих планетарных изысканий – всё отклонялось. «Горько, – говорил мой собеседник, – видеть незаурядного человека, который раньше бил в яблочко, а теперь палит в белый свет. Дались ему материки!». «Нет – думал я, – себя я ни в какие годы до такого не допущу!» – и понимал, что и Красилов, может быть, обещал когда-то себе следить за тем, чтобы не предаться однажды стариковскому суемудрию, но не уследил.
1
Учебка – разг. Учебная войсковая часть для подготовки сержантского состава
2
Геохимия – наука о распределении химических элементов в земной коре
3
Свита – набор пород одного возраста, распространённый на данной территории
4
Девон и карбон – породы, образовавшиеся в соответствующие периоды геохронологической шкалы
5
Легенда – список условных обозначений