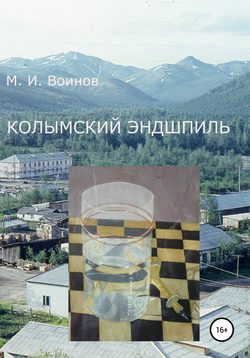Читать книгу Колымский эндшпиль - Михаил Игоревич Воинов - Страница 2
Часть вторая
ОглавлениеХасын
От нашего с Никицким общения, почти круглосуточного в Красноярском крае, в ленинградской жизни остались рожки да ножки. Я снимал комнату, изредка их меняя – Антон жил в общежитии. Иногда мы разговаривали между парами, иногда вместе спускались по широкой лестнице от дорических колонн портала Горного института к набережной Невы и по двадцать первой линии доходили до Большого проспекта – этим и исчерпывалось время, которое мы отводили друг на друга. Однако в эти минуты Антон успевал отвести для меня столько весёлой приязни, что мне казалось, будто он делает сознательные усилия, для того чтобы мы оставались по-вершино-рыбнински накоротке. Я знал уже, что так между полевиками бывает нечасто. Не много попадалось мне таких, которые в городе не захватывались бы почти целиком своими делами и не утрачивали бы мало-помалу охоты живо поддерживать палаточное братство. Как бы прекрасно ни было, оно, с своей вечной походной темой, являлось прошлым и не очень надобилось – если ещё не мешало – для успешного похода в будущее, которое только всех и занимало.
Я предполагал, что благодаря случайному появлению в нашей судьбе Вершино-Рыбного Никицкий увидел во мне того, кто провидением предназначался ему как настоящий друг. Я понимал, что нужен ему для полноты счастья, основу которого составляла девушка. Её звали Нина Скорова. Она училась, как и мы с Антоном, на четвёртом курсе, только не на нашем, а на гидрогеологическом факультете. Я с нею не мог не встречаться много раз в коридорах института и до того, как Антон нас познакомил, но припомнить её при знакомстве не смог. Возможно, скромность её поведения послужила причиной того, что она была незаметна для меня и привлекла Антона.
Нина была невысокого роста, худенькая, с круглыми глазками и маленьким подбородком. Свои русые волосы она обычно заплетала в короткую, едва доходящую до лопаток косу, но иногда оставляла их распущенными, и тогда они густо ложились на её плечи, через которые передавалась им образующаяся в её теле при ходьбе волна. Все почти студенты были друг с другом приветливы, но Нина Скорова, казалась мне радушнее остальных. Я подозревал, что Никицкий наговорил ей обо мне лестного, но когда она, улыбаясь, глядела мне в глаза и о чём-нибудь со вниманием расспрашивала, я не мог сомневаться в том, что он не имеет отношения к её участию во мне. Вместе с тем, если случалось мне увидеть её со стороны где-нибудь в коридоре – стоящей перед стенгазетой или просматривающей конспект, – то её плотно сомкнутые тонкие губы и окаменелый подбородок давали мне ощущение того, что любезность в этом человеке совмещена ещё с чем-то, что не столь безоговорочно приятно: вроде сильной воли.
Однажды мы с Антоном зашли к Нине в гости, на Малый проспект. Дома кроме неё оказалась её довольно похожая на неё внешне сестра, учащаяся в девятом классе. На стенах трёхкомнатной квартиры висело в рамочках несколько слабо проработанных карандашных и тушевых рисунков. К одному я присмотрелся: в нём угадывалась похожая на локоны морская волна, гребнем которой являлся гребень для закалывания волос, и проступающие сквозь неё мужская и женская, соприкоснувшиеся друг с другом, ладони.
Я спросил:
– Чьи это произведения?
– Нинкины! – отвечала сестра. – Она ещё и стихи пишет!
– Катька! – одёрнула её Нина.
Я подумал: сейчас огляжусь и, наверно, увижу какой-нибудь музыкальный инструмент, но ошибся.
В серванте и на книжных полках были кое-где расставлены фигурки, которые воображение человека отыскало в извивах древесных корней. Оно подправляло извивы ножом, и на свет являлся то Мефистофель, то бык и матадор с отставленной назад ножкой, то покидающий воды женский торс.
– А это кто вырезал? – спросил я.
– Папа! – отвечала Катя. – А ты решил, что тоже Нинка?
– Катя! – опять воскликнула Нина. – Давай-ка лучше ставь чайник! Сева уже решил, что попал в гости, где чаю не подают!
Когда мы сели на кухне пить чай из светло-розовых тонкого фарфора чашек, Катя взяла из вазы, стоящей на столе, шоколадную конфету и положила её передо мной.
– Кушай, Сева, не стесняйся.
– Я не стесняюсь.
– А чего ж тогда уши у тебя красные?
– Я, когда учился в школе таким весёлым, как ты, не был.
– Да ты и сейчас от счастья не сияешь!
– Катя, – вмешался Антон, – ты-то откуда знаешь, от чего он не сияет?
– А вот и знаю: наверняка оттого, что девушки у него нет!
– Катя, – это уж слишком! – почти сердито сказала Нина. – Сева, ты не думай, она не всегда такая – сегодня что-то раздухарилась.
– Лично для тебя, – сказал Антон.
Катя взяла из вазы другую конфету и положила её в моё блюдце.
– Кушай ещё, не стесняйся.
– Я не стесняюсь.
– Тогда почему ты такой бледный?
Провожая нас с Антоном в прихожей, Нина взяла меня за руку и, глядя мне в глаза, проговорила:
– Сева, извини Катьку: дура она ещё, подростковый возраст.
Когда мы вышли на улицу, Антон сказал:
– Мы с Ниной решили будущей осенью пожениться.
– Здорово, я рад.
– Знаешь, я подумал, хорошо быть рядом с человеком, который… Ну, за душой что-то имеет. Как будто живёт, как все, но что-то ещё есть важное для него – где-то там…
Антон сделал движение рукой над головой, рассмеялся и продолжал:
– У которого, например, есть забота, как лучше провести линию карандашом… Или рифму придумать.
– Только, кажется, на ноты это у Нины не распространяется?
– На ноты – нет. Но я же не могу ожидать от жизни вообще всего! Я считаю, и так много. Кстати, она Калинникова любит. Мы решили хотя бы раз в месяц в филармонию ходить. Не хочешь присоединиться?
– Посмотрим, – ответил я и однажды действительно присоединился.
В тот раз оркестр исполнял произведения Чайковского и Бетховена, а дирижировал Евгений Мравинский. Был слякотный ноябрьский вечер. Нескольких минут, потребных на то, чтобы под мокрым холодным ветром добраться от станции метро «Невский проспект» до филармонии, хватало, для того чтобы замёрзнуть. Зато внутри встречали тебя тепло, избыток света, ковры, обширные зеркала, наряды и вдохновенный слушательский гул.
Несмотря на то, что я мог чувствовать совершенство, с которым исполняется музыка, мои впечатления от личности дирижёра не были благоприятны. Душа его представлялась мне в той же мере высокомерной и сухой, в какой высока и суха была его фигура. Мне казалось, что замечая человека, который не получает удовольствия от концерта, он испытывает желание выбранить его, а уж о презрении и говорить нечего. Что вороньим взглядом выискивает он в зале тех, кто скучает, и, как клювом, готовится бить их своим большим горбатым носом.
Между тем, искоса взглядывая на Антона и Нину, безотрывно следящих за Мравинским, я догадывался, что ничего вороньего они в нём не видят. Казалось, захваченные музыкой, оба ни о чём, кроме неё, не помнят, забыли и друг о друге и тем прочней объединились.
Мравинский напомнил мне нашего преподавателя по высшей математике Загрязина. Тот тоже был высок, тоже с крупным носом, с длинными пальцами рук, тоже носил очки. Отличия были. Очки Мравинского имели тонкую металлическую оправу, Загрязина – роговую. С математика не слезал потёртый серо-зелёный костюм с коротковатыми рукавами – на дирижёре колыхались, словно от музыкальных волн, фалды чёрного, как вороново крыло, фрака. Пальцы Загрязина были увесистее – он любил хлёстко стукнуть ими в нужное a или b формулы – скажем, из доказательства теоремы Лагранжа или Коши, – которую написал перед этим мелом на учебной доске. Казалось, он этими ударами щеголяет и оттого своих косточек ему не жаль. На лекциях Загрязин не высматривал тех, кто его не слушает, но, слыша, как сотрясается от ударов доска, каждый студент, вероятно, ожидал грядущего экзамена так же, как поп – окончательного расчёта с Балдой.
Возможно, Загрязин столь же ограниченно смыслил в гармонии звуков, сколь Мравинский – в гармонических рядах, но я чувствовал, что нечто важное этих людей объединяет. Внешне оно, может быть, выражалось в суховатой вежливости обоих, в равнодушном, надмирном оттенке, присущем выражению их глаз. Предположение о том, что оно представляет собой по существу, пришло мне в голову, когда по окончании концерта мы выступили из залов в ветреную моросящую тьму улиц, прободаемую текучим сиянием фонарей. Равно чародейными руками умели математик – исторгнуть для слушателей из мировой кутерьмы порядок, который разглядели в ней Лагранж или Коши, и дирижёр – навеять бурю, которую из частиц её сотворили Чайковский или Бетховен.
Кажется, тем самым вечером я впервые почувствовал, что не всё ещё понимают Антон и Нина в своём объединении.
В антракте мы прошли в буфет, и Антон предложил:
– Нина, я возьму тебе бутерброд с чёрной икрой?
– Нет, Антон, пожалуйста, не надо, – отказалась Нина – потому, как было для меня очевидно, что бутерброд стоил дорого, а Антон из-за троек никогда не получал стипендии.
– А я бы хотел тебе его взять.
– Антон, я сказала: не надо.
Пожалуй – подумал я, стоя рядом, – не очень бы мне хотелось, чтобы моя невеста обращаясь ко мне так медленно и чётко выговаривала слова.
На обратном пути к метро я увидел, как Антон предложил Нине для опоры согнутую в локте руку, а та эту руку разогнула и сквозь её пальцы просунула пальцы своей. Нет – идя рядом, думал я, – и такого жёсткого нежничанья на людях я от своей невесты бы не желал.
Случалось, когда мы втроём во время перемены разговаривали, переминаясь с ноги на ногу на истёртом, кряхтящем тёмно-коричневом паркете коридора, Антон или Нина предлагали: «Сева, мы сегодня собираемся в Русский музей смотреть древнерусское искусство (в другой раз – французский импрессионизм или голландскую живопись в Эрмитаже). Пойдём с нами?» Иногда я соглашался, хотя всегда обнаруживал, что мне в прекрасных залах совсем не так хорошо, как им.
В следующий раз, когда мы с Антоном зашли к Нине домой, то застали её маму, такую же некрупную и доброжелательную, как она, коренастого, с залысиной папу и их гостя, полноватого, с плохо выбритыми щеками, мужчину, с которым папа когда-то вместе учился. Гость – его звали Валентин Андреевич – рассуждал о том, что все люди стараются устроиться в жизни так, чтобы, растолкав других, загрести под себя как можно больше.
Глядя на это он отказывался сидеть сложа руки и окончательно выводил:
– Я в этом мире – эгоист. Только так.
Он казался мне предовольным собой – и не столько тем, что принял такое верное решение, сколько своим трезвым взглядом на жизнь и своею смелостью высказать то, что другие не смеют.
– Нет, Валя, не клепай на себя, – возражал Виталий Петрович – так звали Нининого отца. – Разве тебе не нравится что-то делать для других людей?