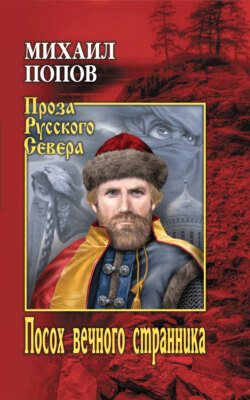Читать книгу Посох вечного странника - Михаил Константинович Попов - Страница 8
Путь к началу
Обол
Повесть
6
ОглавлениеНаступил нисан – первый месяц весны. Тайный посланец снова находился в Галилее, и однажды сотнику сыскной службы пришла с оказией от него записка. Это был клочок папируса, зашитый в женскую накидку, которую Имра просил передать попутного возчика своей домоправительнице Фатиме.
Ничего секретного в той записке не было, можно было и не скрывать. Имра сообщал, что накануне близ Генисаретского озера собралось множество народа. Люди пришли со всех окрестных селений – из Магдалы, Капернаума, Тивериады, Вифсаиды и даже Гиппоса. Все они хотели послушать проповедь Равви, словно им дано было знать, что она будет самой важной. Так и случилось. Все слушали, затаив дыхание, боясь пропустить слово. Ведь звучала сама Истина. Равви не отрицает Святое Писание, он опирается на него, но при этом обновляет многие заповеди. Главное – милосердие, заклинает он, любовь и милосердие. Текст записки был написан сухим языком. Но даже и тут чувствовалось, что сердце писавшего наполнено ликованием и преданностью.
Центурион Кэмиллус в докладной записке префекту эмоций избежал, сухо передав все имеющиеся в его распоряжении сведения о галилейском проповеднике. А в конце сделал вывод. Эта община и её наставник безопасны как для администрации колонии, так и для Римской империи в целом.
* * *
Приближался Песах – главный праздник иудеев. В Иерусалим стекался народ. На всякий случай римский префект усилил гарнизон. С воинской командой в крытой повозке сюда приехал сотник сыскной центурии. А следом пожаловал и префект.
Воздух в Иерусалиме был полон ожиданием чуда. Здесь и там на все лады повторялось слово «Мессия». Одни произносили его с недоверием, другие с восторгом, третьи с осуждением. К последним относилась верхушка Храма – Синедрион.
Сотник был в гражданской одежде, но в толпу не стремился, чтобы не испытывать судьбу. Кавалькаду у Золотых ворот он видел издалека. Было множество ярких накидок, цветов и оливковых ветвей, которые закрывали лица. Даже своего посланца сотник не разглядел.
С Имрой они встретились на другой день, да и то накоротке. Тому надо было находиться близ Равви. Он – чтец, а главное – казначей, сейчас много хлопот по устройству праздника для Равви и его ближнего круга. Имра был озабочен. Но Кэмиллусу показалось, что того прежнего ликования, которое он так упорно прятал осенью, в его глазах поубавилось. Появилась не то чтобы новая озабоченность, а будто какое-то непонятное недоумение, а может, и несогласие. С кем, с чем – ответа не было. Но прозвучала одна фраза: речь шла о чрезмерных и не очень важных тратах. Зачем община в таком количестве закупила благовонное миро, зачем оно так быстро потрачено, когда следовало озаботиться другим… Фразу Имра оборвал на полуслове, но по острому блеску в его глазах Кэмиллус вдруг увидел, что мира там нет. Там не было ни мира, ни милосердия, ни любви – только один кинжальный блеск.
Дальнейшие события это подтвердили. Однако изменить их ход никто был уже не в силах.
Всё стряслось в пятницу. Неправый суд – по сути, судилище. Крестный путь. Голгофа.
Сотник сыскной центурии обязан был дать обо всех событиях минувших дней полный отчёт. Доклад им был написан и в одном экземпляре отправлен наверх.
А ещё он сделал несколько записей в своём дневнике. Они шли следом за строфой Овидия:
Всё до последней строки, что прочтёшь ты в книжечке этой,
Всё написано мной в трудных тревогах пути.
Видела Адрия нас, когда средь открытого моря
Я в ледяном декабре дрог до костей и писал;
После, когда, покинув Коринф, двух морей средостенье
Переменил я корабль, дальше в изгнанье спеша,
Верно, дивились на нас в Эгейских водах Киклады:
«Кто там под свист и вой в бурю слагает стихи?»
Эти записи были открыты уже после смерти сотника.
* * *
Душа чтеца и казначея апостольской общины была не на месте. Он так берёг каждый сестерций, каждый секель общинной казны, что даже почти ничего не присваивал, разве только самую малость. И когда Равви накормил пятью хлебами пять тысяч паломников, он восхитился не столько чудом, сколько экономией общинной казны. Ведь казна понадобится в ближайшие дни, когда Равви-Мессия поведёт обездоленных и униженных иудеев на битву. Понадобится много оружия – мечей и копий, – казна в кожаном бауле придётся как нельзя кстати. Он безоглядно верил, что так и будет, что вот-вот прозвучит команда, заветный знак, что на сокровенной вечере в канун Песаха, где собрались двенадцать ближних учеников, он потерял голову. Он-то, как большинство иудеев, думал, что Мессия пришёл спасать их, детей Моисеевых и Давидовых, что он их освободитель, что любовь и милосердие предназначены только им, страдальцам. А оказывается, он пришёл для всеобщего мира и любви, и он не возьмёт в руки меч и не станет их полководцем-воителем.
Третьего дня Имра ночевал в доме сестры. За ужином они выпили. Но не вино горячило ему кровь. Он пылал предчувствиями великих перемен. Когда Руфь, уложив детей и постелив мужу, вернулась, чтобы пожелать ему спокойной ночи, он задержал её. Ему не терпелось поделиться с кем-то своей радостью. Грядут великие перемены. Ромеи скоро уйдут из Иудеи. Здесь будет править Мессия. И он, один из двенадцати избранных, встанет рядом с ним. О, сколь тогда произойдёт чудес! Он, сын праведного, но обездоленного Шимона, сам обманутый и обездоленный, займёт в Храме почётное место. Он станет одним из первосвященников, членов Сенидриона, может, даже и главой Сенидриона вместо Каиафы, если, конечно, сам Равви не пожелает занять этот стол. А Каиафа будет ползать в ногах, умоляя оставить его хотя бы «карриотом» – подменным чтецом. Мстительная усмешка играла на его губах, ровно змейка. Он помнил это. И вот спустя три дня всё переменилось. Произошёл крах его упований, его охватило смятение, а потом и отчаяние.
Отчаяние было столь велико, что он потерял голову. Качаясь и бормоча что-то невнятное, он покинул вечернюю трапезу и вышел вон. Напрочь забыв наставления Равви, все заповеди, все благие помыслы и клятвы, он открыл рот, чтобы выразить свой протест в небо, и тут в его открытый рот влетел бес. Бес давно караулил его, точнее с тех пор, как вылетел волею Мессии из утробы бесноватой женщины. Он сразу определил свою новую жертву, потому что от этого человека веяло потаённым хладом. Доглядывая за ним, он вёл счёт его прегрешениям. Двурушничество, предательство, обман – чего только не было в этой охладелой душе. Здесь бесу было вольготно и сладостно охлаждать свои раскалённые перепонки. Бес влетел. И тотчас произошло сокрушение. Голову греховника охватил жар, сердце вновь остановилось, как когда-то, следом заледенело, а потом снова застучало, только иначе. Холодное сердце привело его в Храм, где заседали первосвященники: Каиафа, Анна́, другие верховники, которые ничего не сделали, чтобы в горькую минуту поддержать его, сына храмового чтеца Шимона. И именно им он выдал того, пред кем преклонялся, донеся, где находится столь ненавистный им смутьян и попиратель древних догматов. А потом призвал караульных воинов, предъявив им знак префекта Иудеи, чтобы те арестовали мятежника.
Он видел, как меченосцы уводили арестанта. После этого силы покинули его. Он лёг под смоковницей в Гефсиманском саду и мгновенно уснул. Приснился ему отец. Только на сей раз отец не улыбался, а смотрел с ужасом и отвращением. И оттуда, из засмертного края, явственно доносился отцовский голос: «Крэв лэ хала!» – «Сгинь! Изыди!»… Проснулся он в холодном поту. С трудом поднялся на ноги и принялся развязывать пояс. Тут его вырвало, согнув в три погибели. Вместе с рвотой вылетел, жужжа и хохоча, мохнатый бес…
* * *
В пятницу Иерусалим среди бела дня накрыл мрак. Казалось, наступил конец света. Толпы народа, возвращавшиеся с лобного места, обезумели, разбегаясь по домам. Метались факелы, сыпались искры, то здесь, то там огонь перебегал на постройки. Это ещё больше распаляло толпу, доведя накал до неистового ужаса.
Руфь, схватив свечу, утащила детей в тёмный чулан, чтобы как-то отгородиться от этого безумия. Дети от страха даже не плакали, а лишь дрожали, прижимаясь к матери. Она их гладила и что-то шептала. Дети, напуганные общим смятением, один за другим забылись. Уснул и самый маленький, названный в честь брата. А ей не спалось.
Спустя время Руфь выглянула за двери. Давешний мрак, который обстал всё вокруг среди бела дня, кажется, рассеялся, наступила обычная ночь. Людское помрачение тоже улеглось, но страх, похоже, не прошёл, столь непривычной и гулкой была тишина. Ни голосов, ни бряцания доспехов караульных. Даже собаки оцепенели. Только полная луна, как обронённый сребреник, продолжала как ни в чём не бывало свой путь, да звёзды мерцали тяжёлыми гроздьями.
Руфь прислушалась, не идёт ли кто. Никого… Куда-то, не сказавшись, пошёл муж. «Агасфер! – окликала она его. – Агасфер!» А он даже не обернулся. Обещал наведаться брат. Но Иуда – увы – тоже где-то запропастился…
* * *
В эту ночь не спал и Варавва, разбойник, которого иудейская толпа потребовала отпустить, приговорив к распятию Христа. Глотнув нечаемой свободы, он уже захмелел, успел похитить нож и уже применил его, но неудачно, и сейчас, остерегаясь погони, спешил до свету покинуть город. Он пробирался через Гефсиманский сад и тут в кустах неожиданно наткнулся на повешенного. Страха он никогда не испытывал – и сейчас тоже. Была брезгливость и трезвое сознание: что можно взять с самоубийцы?! И всё-таки остановился, обрезал удавку – это был ветхий пояс – и ощупал ещё не остывший труп. В потае кетонета обнаружил кольцо. Это был перстень-печатка, на котором при лунном свете чётко читалось имя префекта Иудеи – «Пилат». «Медяшка», – оценил находку Варавва и швырнул кольцо далеко в кусты[1]. Пальцы пробежали по поясу. В конце что-то было зашито. Распорол ногтем, даже не прибегая к ножу. На ладони оказалась монета – это была самая мелкая монета «обол», которая к тому же, кажется, уже вышла из обращения. «Такие принимает только Харон», – вспомнил он персонажа загробного мира. Положил монету на вывалившийся язык, язык загнул внутрь, а нижнюю челюсть подбил: «Плыви».
1
Оно так далеко улетело, что отыскалось только спустя почти две тысячи лет, точнее в 1960 году.